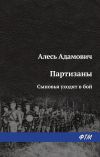Текст книги "Звезда над сердцем"

Автор книги: Павел Гушинец
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Сёстры
Лида и Рива Аксельроды, Нохим и Гинда Аксельроды
(Борисов, 1941 г.)
– Здравствуйте, тётя Ирина.
Женщина вздрагивает, торопливо переходит на другую сторону улицы.
– Передавайте привет Мишеньке, – хохочет ей вслед Ривка.
Ирина Николаевна, бывшая соседка Аксельродов, вжимает голову в плечи, торопливо переступает ногами, переходя почти на бег. Ривка хмыкает, поправляя на кофточке жёлтую звезду, победно обводит взглядом мигом опустевшую улицу.
– Перестань их дразнить, – вздыхает Лида. – Они просто боятся.
– Я тоже боюсь, – фыркает в ответ Ривка. – Но это же не повод трястись как осиновый лист. Вон та же тётка Ира, сколько она к нам ходила? То сахара попросит, то соли, то яйцо. Половину погреба перетаскала, и всё без возврата. И Мишка этот её толстый. Вечно придёт в лавку, стоит и клянчит карамельки. А теперь что? Вместо благодарности – голову в плечи и бежать?
– Рива, время такое, – Лида с упрёком смотрит на сестру. – Ты же знаешь, что немцы указ выпустили, помнишь? «При встрече с жидом переходить на другую сторону улицы, поклоны запрещаются, обмен вещей также», а за нарушение – расстрел».
– Да помню я! – огрызается Ривка.
– Так если помнишь, чего пристаёшь к людям?
– Обидно мне, Лида! – отзывается сестра. – Столько лет жили вместе. И при царе, и при Советах. Бывало, что по пьянке кто-то обзовёт жидом или в морду даст. Так и наши в ответ в морду давали. Тот же Бома Кац ни одной драки не пропускал.
– И последнюю тоже не пропустил. Не с тем драться полез.
– Вот и я про это. Столько лет жили вместе. Соседи, друзья. А теперь пришли немцы – и всех как подменили. Попрятались, глаза закрыли. А некоторые, как тот же полицай, из-за которого Бому расстреляли, побежали служить новой власти.
– Не все поменялись. Не все, Ривка. Ты про Марию и Зину Рольбиных слышала? Как нас в гетто собирали, они пропали и не видно их совсем. Кто-то же их прячет, кто-то спасает. А где Шахраи, Люся Бейнинсон? Тоже ведь в подвале у кого-то.
– Или в овраге, – зло бросила в ответ Рива. – Под листвой лежат.
– Ты слышала, что в лесу отряд собирается? – пропустила её слова мимо ушей Лида. – Остатки разбитых частей, кто-то из местных парней. Хотят с немцами воевать. Вот бы и нам к ним, а, Ривка?
– Навоюют они. Оружия нет, жрать нечего, зима на носу. Посидят, замёрзнут и выйдут, лапки вверх.
– Дура ты, Ривка, – не выдержала Лида. – Как с тобой разговаривать!
– Сама ты дура! – не осталась в долгу сестра. Вроде старшая, а рассуждаешь, как дитё горькое. Вон дом тёти Нюры. Давай стучи.
* * *
– Вы что, совсем дуры? Так и топали по улице в лапсердаках с этим украшением? – тётка кивает на жёлтые звёзды, пришитые к плечам сестёр.
– Тёть Нюра, мы сегодня с разрешением. У Хацкеля бумагу выпросили, – Ривка в подтверждение своих слов тянет из кармана смятый клочок.
– Засунь его себе… обратно, – зло говорит тётя Нюра. – Бумажка бумажкой, а ходить надо осторожнее. Ничему вас жизнь не учит!
– Но у нас же разрешение?
– Вы Хаю Гликман помните? Басю Тавгер? Риву Райнес? Девки молодые были, смешливые. Вроде вас. Тоже всё хохотали. Где они теперь хохочут?
– Мы поняли, тётя Нюра, – опустила глаза Ривка.
– То-то же! Идёте в город – тише воды, ниже травы. Головы опустили, лица спрятали. Увидели патруль или полицая, хоронитесь в переулок. А они лаются на всю улицу, всем соседям слышно. И на себя беду накличете, и на меня.
Тётя Нюра, подруга Гинды, матери Ривки и Лиды, аккуратно укладывает в корзинку несколько узелков.
– Так, что достала – то даю. Вот здесь – пшена немного, пусть мать кашу сварит. Масло отдельно кладу, глядите, чтоб не растаяло. Яйцо только одно, не раздавите, косолапые! Немчура дюже до яиц охоча. Прямо не достать нынче. Вчера к церкви ходила, так сама видела. Сидит солдат на паперти, у него целая шапка яиц сырых. Десятка два, не меньше. Так он чего удумал. Тюкнет яйцо о карабин, выпьет, скорлупу под ноги бросит. И сидит, лыбу давит. Снова тюкнет и сёрбает шумно на всю площадь. Тьфу, паразит! А в десяти шагах пацанята стоят. Мишка Свойский и Казимир, сын учителя Болеслава. Смотрят на этого солдата голодными глазами. У Свойских на прошлой неделе полицаи корову со двора увели, так им совсем жрать нечего. А учитель и при советах не богат был, теперь вообще непонятно чем питается. Ребятишки есть хотят, а солдат это видит и понимает. Поэтому жрёт напоказ. Двойное удовольствие, чтоб его глисты задавили!
– Тётя Нюра, нам бы лекарств каких, – просит Лида. – У отца с сердцем нехорошо.
– У меня тоже с сердцем нехорошо на всё это глядеть! – ворчит тётка Нюра. – Где я лекарств достану? Залманзон свою аптеку закрыл, во всём городе даже йода не достать. Попробую в больнице выпросить. Молоко туда ношу медсестричке одной. Но не обещаю!
– Что бы мы без вас делали, тётя Нюра. Мать велела в ноги поклониться.
– Идите уже, клуши. Не дай Бог кто увидит у меня. Осторожнее там!
Тётка Нюра утирает глаза краешком платка, неуклюже чмокает в макушку Ривку, торопливо, неловко крестит обеих сложенными щепотью пальцами.
– А-а, чего это я. Ну да ладно, лишним не будет. Топайте уже.
– Спасибо, тётя Нюра.
Сёстры выскакивают за дверь, слыша за спиной старательно заглушаемые рыдания.
* * *
До гетто пробираются перебежками. Бумага-бумагой, но теперь у них в руках драгоценная добыча – корзинка с узелками. Хлеб, пшено, масло. Несколько дней жизни для семьи Аксельродов. Потому страшно, чтоб встречный полицай не отобрал эту корзинку, эту жизнь. Отцу Нохиму за целый день тяжёлой работы немцы дают крошечный кусочек хлеба, сто пятьдесят грамм. На неработающих сестёр и мать достаётся и того меньше. Если бы не их вылазки в город, давно бы ноги протянули. Ещё бы лекарств достать.
Рива первой замечает в сумерках размашисто шагающую фигуру с карабином на плече. Сёстры юркают в крапиву за чьим-то палисадником, таятся. Полицай, пошатываясь, проходит мимо. От него за версту несёт самогоном, табаком, дёгтем, которым он, очевидно, смазывает сапоги. Новый хозяин жизни идёт широко, никого не боясь, вольный забрать то, что приглянётся, сделать то, что пожелает с каждым встречным. Особенно, если у этого встречного нашиты на одежде жёлтые звёзды. И люди в домах крестятся, когда он проходит мимо.
В гетто пустынно, тихо. На улицах никого нет. Все спрятались по домам, набились как сельди в бочке. По 5–6 семей в одном доме. Слышно тяжёлое дыхание уставших за день мужчин, детский плач. Чувствуется запах. Бани не было уже несколько недель. Отовсюду слышен кашель, стоны больных. В гетто тиф, пневмония. В гетто голод.
Сёстры становятся ещё осторожнее. Встречные могут звериным чутьём оголодавшего человека распознать, что у них в корзинке. Броситься, отобрать, разломать корзинку с жалкими, но такими драгоценными крохами. И что тогда принести домой?
Плачут дети, но сёстры проходят мимо, хоть сердца их сжимаются от жалости. Дома мать, голодный отец. Да и сами они с утра съели только по прозрачному ломтику хлеба. А значит – прочь, прочь. Домой!
На робкий стук открывает мать Гинда.
– Вернулись.
Порывисто обнимает сначала младшую Ривку, потом Лиду.
– Я все глаза проглядела.
– Тише, мама. Тише. Тётя Нюра привет передаёт. И вот, – Лида тычет матери в руки корзинкой.
– Храни Бог тётю Нюру, – шепчет Гинда. – Храни их всех Бог.
Утром Аксельроды пируют. Делят на четверых сваренное вкрутую яйцо, огромную луковицу. Каждому достается по несколько ложек пшённой каши. А ещё хлеб. Роскошное пиршество на зависть соседям.
– Ну, будем жить! – Нохим поднимается из-за стола, перед этим аккуратно собирает и стряхивает в рот крошки, упавшие на штанины. – Пора мне.
Идёт на улицу, где уже толпится его бригада. Третий день они чистят уличные туалет, поэтому запах от отца тяжёлый. Но Ривка с Лидой улыбаются ему, охотно подставляют щёки, когда тот наклоняется их поцеловать.
А через час сёстры уже у забора со стороны Слободки. Там заветная доска, заранее выбитая и поставленная на место. Лида упирается плечом, сдвигает её, лезет первая в образовавшуюся щель, Рива следом. Невдалеке проходит полицай, сёстры привычно падают в траву, утыкаются носом в мокрую землю.
– Ушёл?
– Вроде ушёл.
Ривка не выдерживает, поднимается. Отряхивает испачканную землёй юбку.
– Пошли, трусиха.
– Сама ты трусиха.
Лида тоже поднимается, внимательно осматривает одежду.
– К Фроловым зайдём и молока попросим?
– Ага. А по дороге к Фросе Гренко. У них на огороде картошка хорошо уродилась. Дадут несколько штук, не пожадничают.
И сёстры Аксельрод перебежками направляются вдоль улицы. За новыми крохами жизни.
* * *
В октябре стало совсем плохо. Похолодало, а в гетто не было тёплой одежды. Всё, что успели взять с собой при переселении, забрали полицаи. Печи в домах нечем было топить. Уже сгорела каждая щепочка, каждый клочок бумаги и соломинка. Согревались, плотно прижавшись друг к другу. Каждую ночь болезни уносили всё новые жизни.
Рива и Лида стали уходить из гетто на два-три дня. Это было опасно, если бы в дом пришла проверка со списком жителей, то родителям не поздоровилось бы. Но другого выхода не было. В городе стремительно кончалась еда. Даже ушлая и хлебосольная тётя Нюра могла достать едва ли горсточку пшена или несколько картофелин. Сестры уходили в деревни за черту города, просили еду у сельчан. Те делились неохотно, чаще прогоняли. Сёстры не обижались. В деревенских домах хныкали голодные дети. Каждый старался выжить и сохранить семью.
19 октября им повезло. Обойдя соседние деревни, Аксельроды набрали полкорзинки добычи. Картофелины, лук, две порченые полевыми мышами репки. Настоящее сокровище. В город вошли уже затемно, поэтому решили переночевать у тётки Нюры. В темноте идти по городу было очень опасно.
– Обовшивели все, – ворчала тётка Нюра, перебирая сальные Ривкины космы. Мыла бы достать, а лучше постричь вас наголо.
– Нет уж, – Ривка гордо тряхнула головой, и её красивые волосы рассыпались по плечам. – Пусть лучше вшивые, но стричь не дам.
– Перед кем форсить будешь? С кем женихаться? Вы там все голодранцы.
– Вот перед голодранцами форсить и буду, – хихикнула девушка.
– Пейте чай, вот вам по куску хлеба. И спать ложитесь. Находились небось.
– Находились, – согласилась Лида. – Ног не чувствуем.
– Я вам возле печки постелила, – сказала тётка. – И не трясите тут мне вшей. Своих полно.
– Они подружатся с нашими, – хихикнула Ривка. – У них детки будут. Суп сварите. Наваристый.
– Тьфу, гадость какая! – плюнула тётка Нюра. – Тебе лишь бы глупости нести. Ешьте и ложитесь спать.
* * *
Посреди ночи их разбудил рев грузовиков. Колонна шла по улице. Ревущие чудовища с огненными глазами сотрясали стену один за другим. И посуда звякала в шкафах. И дети прятались под кровати.
– Что там? Солдаты? – всполошилась Лида. – Облава?
– Одевайтесь, – выскочила из своей комнаты тётя Нюра. – Будьте готовы. Я сейчас узнаю, что там творится. Кроме меня никому не открывать, сидите тихо, как мышки.
Тётка накинула на голову платок, вышла за дверь.
– Лида, что это? Чего они шумят? – Ривка прижалась к сестре, и та обняла её.
– Может, это советские наступают, – зашептала она на ухо Ривке. – Сейчас соберутся, как ударят, немцы и побегут. И полицаи следом. А мы снова будем жить дома. Вшей всех у тебя повыведем, Мойша Бердич больше не будет над тобой смеяться.
– Если будет смеяться – получит в лоб, – пообещала Ривка, зарываясь Лиде под руку.
Лида вспомнила, когда Ривка была маленькая и, увидев страшный сон или просто испугавшись тени от занавески, приползала под одеяло к сестре. Хныкала и просила спрятать её от ночных кошмаров. А потом засыпала, успокоенная её близостью. И, пакостница такая, разбрасывала по всей постели свои костлявые руки-ноги, одеяло на себя наматывала. А один раз вообще надула сестре под бок из благодарности.
Лида улыбнулась, погладила Ривку по голове.
Стукнула дверь.
– Что там, тётя Нюра?
– Ой, горе-то, – тётка без сил рухнула на скамеечку у самого порога.
– Что там?
– Ложитесь, девки. Утром разберёмся.
– Тётя Нюра, на вас лица нет! – Лида подошла к тётке, взяла её за руку. – Что там?
Нюра закусила губу, подняла глаза на сестёр.
– Плохо дело, девки. Вывозят вас. Нагнали кучу грузовиков к гетто. Уже всех мужиков загрузили. Сейчас за баб, детишек и больных примутся.
– Мама! Там мама! – взвизгнула Ривка и бросилась на улицу.
– Куда-а-а, дура! – тётка стала в дверях, обеими руками толкнула Ривку в грудь. – Они ведь не на курорт везут! Яма для вас всех уже выкопана.
– Пусти! – Ривка нырнула под руку тётки, та только цапнула девушку за рукав, но пальцы соскользнули. – Мама!
– Ну хоть ты послушай! – Нюра обернулась к Лиде – Хоть у тебя мозги есть?
– Пустите, тётя, – твёрдо сказала Лида. – Мы пойдём. Спасибо вам за всё.
Она осторожно поставила на стол заветную корзинку, погладила тётку по плечу.
– Лида… – тётка спрятала лицо в ладони, плечи её затряслись.
– Спасибо, – повторила Лида, вышла за дверь и бросилась догонять сестру.
* * *
На улицах, примыкавших к гетто, было шумно. В темноте грохотали грузовики, слышались лающие немецкие команды. Топали сапоги, рвались с поводков собаки. Темноту разрезали яркие лучи прожекторов, кое-где горели костры и факелы.
Сёстры бросились к входу.
– Куда, девки? – пожилой полицай схватил их за воротники, потянул назад. – Что, не видите, тут такое творится!
– Дяденька полицай, мы отсюда, – заголосила Ривка. – Мы евреи, там мама наша. Пустите.
Полицай посмотрел на них недоверчиво.
– Куда пустить? Туда?
– Да, туда. Нам к маме нужно, к отцу.
– Шли бы вы отсюда, девки! – зло, сквозь зубы процедил полицай. – Придумали тут.
– Нет, дяденька. Нам туда надо, – замотала головой Лида.
– Что тут у тебя, Федченко? – раздался из темноты молодой голос.
– Да вот, девки какие-то рвутся. Говорят – местные.
– Так чего ты с ними разговариваешь? Давай к остальным.
Из темноты показался второй полицай. Посветил фонариком на плечи девушкам, увидел жёлтые звёзды и рявкнул:
– Федченко, тебе два раза повторять надо? Видишь же, что жидовки! Давай их внутрь, там разберутся.
– Слушаюсь, – пожилой толкнул сестёр к воротам гетто. – Ну, идите, дуры!
– Спасибо, дяденька, – пискнула Ривка.
И Аксельроды бросились вдоль по улице. Рядом с их домом уже стоял грузовик. Полицаи, ругаясь, грузили в него лежачего соседа, дядю Абрама. Абрам был больной, тяжёлый, почки не выпускали из него воду, поэтому тело соседа страшно раздуло. У жителей дома не было сил поднять его, несмотря на крики и удары, сыпавшиеся на них. Полицаи торопились, поэтому взялись сами. Лида поблагодарила небо за болезнь дяди Абрама, которая задержала грузовик у их дома, позволила им найти родных.
– Мама! – Ривка, словно кошка, сиганула с земли в грузовик.
– Доченька, – послышался голос Гинды. – Зачем? Зачем вы…
– Пустите, – Лида толкнула полицая, преграждавшего ей дорогу к грузовику. Тот от неожиданности отступил.
– Кто такие? – рявкнули из темноты.
– Аксельроды, – отозвалась Лида. – Рива и Лида Аксельроды. Дочери Гинды и Нохима. Проверьте по своим спискам.
– Сходится, – донеслось из темноты. – Все на месте.
Борт грузовика металлически лязгнул закрываясь.
– Поехали!
– Мама, – шептала откуда-то из глубины Ривка. – Мама, мы успели.
Лида протолкалась через плотно стоящих в кузове людей, нашла по голосу сестру и мать, стала рядом.
Грузовик с рёвом выруливал на Полоцкую улицу, встраиваясь в колонну, которая медленно тянулась к аэродрому. Лиде не было страшно. Они были вместе.
Полина
Полина Аускер
(Борисов, 1941 г.)
Полина его до смерти боялась. Он никогда не кричал на неё, не ругался, даже почти не разговаривал. Когда Полина стучалась в его комнату с ведром и тряпкой, молча вставал и выходил на крыльцо курить. Обходил девушку по дуге, словно опасаясь или брезгуя дотронуться даже до краешка потрёпанного платья.
Иногда Полина ловила на себе его пугающий, пронзительный взгляд. К примеру, позавчера ползает она по кухне, оттирает от половиц чёрные сапожные царапины и вдруг словно кто-то холодными пальцами берёт её за затылок. Обернулась – стоит в дверях. Смотрит. Кривит губы то ли в улыбке, то ли в презрительной гримасе. У Полины всё внутри заледенело, тряпка из рук выпала. Где была, там и села прямо на мокрый пол. А он отлепился от дверного косяка и пошёл к себе в комнату, старательно обойдя помытый участок.
– Снасильничает он тебя, Полинка, – говорила умудрённая жизненным опытом тётя Роза. – Как есть снасильничает. Они тут всё могут. Ты, если что, – молчи. А то прибьёт.
Полина мотала головой, не спала по ночам, плакала. Но утром снова тянулась по проклятой улице к дому, где квартировал Курт. Потому что другой работы в городе не было. Потому что закрыты магазины и мать отнесла на рынок последнюю тарелку из подаренного на свадьбу сервиза, обменяла на горсть пшена. А у Полины два маленьких брата, которые каждый день с надеждой смотрят на мать и сестру. Не просят, не клянчат. Они знают, что в доме нет ни крошки. И тают на глазах.
* * *
В августе Полина с другими женщинами пошла в город на заработки. Брали их неохотно. Горожане боялись даже приближаться к серой кучке женщин с пришитыми к одежде жёлтыми звёздами. Им было приказано не общаться с евреями. При встрече – переходить на другую сторону. И всё же им помогали. Сердобольные старушки совали в руки узелки с едой, отчаянные мальчишки подбегали и бросали под ноги деньги. Всего этого было мало. Полина старалась есть поменьше, отдавала лишний кусок младшему пятилетнему братику. Старший, одиннадцатилетний, обижался.
Однажды Полине повезло. Она постучалась в очередной дом, а когда дверь открыли – замерла в ужасе. На пороге стоял высокий мужчина в белой рубахе с закатанными рукавами. И смотрел на неё чужим страшным взглядом. Немец! Полина скорчилась, стараясь сделаться как можно менее заметной и начала отступать, пятясь к калитке.
– Стой! – рявкнул хозяин. – Имя?
– П-полина, – прошептала девушка.
– Юде? – поморщился тот. – Еды?
– Я не просто так. Мне бы работу какую, – торопливо заговорила Полина. – Братики дома голодные, господин. Мамка больная.
Хозяин дома помолчал, рассматривая девушку с головы до ног. И под этим взглядом ей было одновременно страшно и стыдно. Она уже поверила в то, что сейчас немец крикнет что-то обидное, оскорбительное. Может, даже ударит. Но он внезапно посторонился, кивнул Полине внутрь дома.
– Ведро на кухне. Вода – в колодце. Мой пол.
Так Полина стала работать у австрийского офицера по имени Курт. Работа нетрудная. Два раза в неделю помыть полы, протереть везде пыль, перестирать одежду. Питался Курт вне дома, поэтому готовить не требовал. И не свинячил особо. Накурит, конечно, разбросает пепел по комнате, ещё приятели его придут, натопчут сапогами. Но в доме не пьянствуют компании чужих солдат, никого не рвёт во дворе, никто не мочится в углу кухни. Уже хорошо. Платил щедро, не издевался, не ругал. Вот только смотрел. Так страшно смотрел, что у Полины всё внутри переворачивалось.
Ещё и тётя Роза со своими прогнозами. Да и одна ли тётя Роза. С конца июля любая девушка боялась пройти по улице, попасться на глаза немцам или полицаям. Хватали прямо на глазах соседей и родственников, тащили в ближайшие кусты. И хорошо, если отпускали потом живой. Хаю Гликман, Басю Тавгер и Риву Райнес убили. А за что? Просто так, ради забавы.
Полина боялась. Боялась выходить из дома, показываться на улице. Боялась идущих навстречу людей в чужой форме. Боялась своего хозяина и его страшного взгляда. Думала: «Ну, сегодня точно дождётся, когда пол домою, и коротко кивнёт в сторону койки. Что тогда делать?» Но Курт молчал, только равнодушно смотрел на девушку.
* * *
Прошлая жизнь казалась Полине сном. Второй курс мединститута в Минске. Группа из смешливых девушек, красивых и юных, мечтающих лечить и спасать. Лето, экзамены, старомодные седые профессора в пенсне. Вопросы и билеты. 21 июня Полина приехала на каникулы к родителям в Борисов. Хотела погостить, а потом собиралась в пионерский лагерь вожатой. Но наутро услышала близкие разрывы бомб. 2 июля в город вошли немецкие части.
Две недели Полина пряталась, не выходила из дома. Оккупанты праздновали, пили водку из разграбленного магазина, катались по улицам на машинах, врывались в дома. Потом притихли. Жители вздохнули было свободнее, но тут один за одним посыпались приказы. Не выходить на улицу после наступления темноты, не общаться с евреями, не собираться в группы более трёх человек. И за всё – расстрел, расстрел, расстрел…
По домам ходили вооружённые люди, переписывали жителей. Постучали и к Аускерам. Два наглых и мордатых полицая сопровождали немца в пыльной форме, с усталым равнодушным лицом. Немцу уже надоела вся эта тягомотина, он страдал от жары и постоянно вытирал платком лысину. Полицаи забавлялись.
– Жиды? – хохотнул один.
– Русские, – попыталась соврать мать.
– А соседи говорят – жиды, – рявкнул второй. – Аускеры. Жиды и есть. Пишите, герр Шульц. Юде.
Немец записал. Задал ещё несколько вопросов, потом довольно кивнул. Полицаи пошли в комнаты. Не разуваясь, загрохотали сапогами по полу спальни, детской. Выворачивали полки, сбрасывая на пол барахло Аускеров. Выбирали самое ценное, то, что понравилось. Тащили добычу немцу. Тот кивал, забирая, или отрицательно мотал головой, тогда полицаи распихивали отвергнутое им по своим карманам. Отобрали тёплые вещи, отцовский портсигар, цепочку матери, даже монеты, которые собирали братья.
Через час наконец ушли. Полицаи, хохоча и хвастаясь друг перед другом добычей. Немец молча. Равнодушный чиновник. Высшее существо, разорившее гнездо недолюдей.
* * *
В конце августа Полина в последний раз пришла к Курту. Австриец сидел на кухне, курил, смотрел в окно. Полина отскоблила пол, привычно прошлась тряпкой по полкам. Сложила выстиранную одежду.
– Я пойду, господин?
Офицер кивнул, не поднимая на неё глаз. Какой-то он был сегодня странный. Даже не смотрел в её сторону. И курил уже пятую сигарету подряд. Скоро из ушей полезет.
– В четверг как обычно?
Плечи Курта дрогнули. Он с какой-то злостью раздавил окурок в пепельнице, указал на дверь.
– Иди.
Полина ушла. А 27 августа всех жителей Борисова, отмеченных в списках, согнали на окраину города и увели в гетто.
* * *
Теснота, голод, страх. Общение с внешним миром запрещено, выход только по спецпропускам, которых почти никому не давали. На всех улицах и воротах висели вывески: «Жидоуски равноваход заборонен».
Повсюду полицаи. Чужие и, что самое страшное, свои. Несколько десятков молодых евреев под командованием Хацкеля Баранского следили за порядком, выслуживались перед новыми хозяевами.
В шесть утра построение на площади. Немцы распределяют серую толпу на группы, полицаи ведут на работы. Никто не знает – вернётся ли он вечером домой. На днях старик Хаим устал таскать обломки кирпичей, присел на минуту. Подошёл полицай, ударил его в затылок прикладом. Старику хватило.
Паёк для работающих – 150 грамм. Для тех, у кого работать нет сил – и того меньше. Никакого мыла, про горячую воду давно забыли.
Немцы приказали сдать оставшиеся тёплые вещи, всё золото и серебро. Угрожали расстрелять сначала 500 человек, потом 1200. А какое золото? Всё забрали ещё в августе.
Дошло дело до нижнего белья. Немцы приказали сдать весь шёлк. Когда жители гетто остались голые и босые, на них наложили контрибуцию в 300 тысяч рублей.
В девятитысячном гетто свирепствовали голод, болезни от скученности и грязи. Один за другим умирали самые слабые.
20 октября в шесть часов утра отряды полицаев окружили гетто. Полина жила в центре, проснулась от криков, выстрелов, детского плача. Грузовики шли вдоль по улице, полицаи врывались в дома, выводили жителей, загоняли их в машины и увозили. Дом за домом, шаг за шагом. Всё ближе и ближе.
– Вот и всё, – вздохнул отец. Сел на табурет, сложил руки на коленях.
– Надо бежать. Надо спасаться, – крикнула ему Полина.
– Куда? – безнадёжно махнул рукой отец. – Они со всех сторон идут. Не убежишь.
Тем не менее родители сделали попытку спасти детей. Полину с братьями спрятали на чердаке, мать укрыла их каким-то ветхим тряпьём и досками. Шум грузовиков всё ближе. Всё ближе крики людей. Снова выстрелы. Кто-то пытается бежать, но его догоняют и убивают прямо на месте.
В четыре часа ворвались в дом, где жили Аускеры. Полина слышала, как кричала мать, как просила о помощи. Кого? То ли Бога, то ли ещё какую-то неведомую силу. Немцы торопились, поэтому в тот день на чердак не полезли. Грузовики прошли мимо. Плач стал удаляться.
Полина с братьями тряслись от холода и страха. Младший беззвучно плакал. Слёзы текли и текли у него по щекам. Старший скорчился, прижимаясь к сестре. Они не верили, что им удастся спастись. Они просто ждали.
Три дня продолжался расстрел. Немцы попытались спрятать своё преступление, сохранить его в тайне. Людям, которые жили в домах рядом с гетто, запретили выходить на улицы. На кожевенном заводе, который тоже стоял рядом, объявили три дня выходных. Город замер. Все понимали, что происходит что-то страшное.
Ещё день. Полина с братьями слышит, как пьяные полицаи шарят по домам в поисках хоть чего-то ценного. Находят прячущуюся девушку, выволакивают её на улицу, долго над ней измываются. Она кричит, молит о пощаде, но её тоже убивают.
На третий день Полина слышит шаги, скрип лестницы. Полицай поднимается на чердак. Им приказали лежать с поднятыми вверх руками, потом выгнали на улицу. Почти раздели, отбирая одежду, шаря по карманам. Согнали на соседнюю улицу, где стояла мрачная толпа выживших. Больше полусотни человек. В основном дети, старики. Тех, кто не мог идти, пристреливали на месте.
Их затолкали в грузовик и повезли в сторону деревни Разуваевка. Поле рядом с аэродромом напоминало ад. Оно было всё перекопано, из свежевырытых могил торчали руки, ноги и даже головы убитых. Немцы работали как машины. Выгружали людей из грузовиков, тут же ставили рядом с ямой, стреляли. Следующие. Конвейер.
Полину с братьями тоже выгрузили, снова обыскали. У кого-то нашли документы, фотографии. Полицай напоказ, прямо перед носом владельца порвал их на мелкие кусочки. Братья не плакали. Они двигались как маленькие роботы с белыми пустыми лицами.
Вдруг послышался шум, ругань на немецком и русском. Оказалось, что все ямы заполнены, и новую партию некуда складывать. В работе конвейера произошёл сбой. Откуда-то притащили лопаты, велели копать новые ямы. Над душой стояли немцы, фотографировали копающих, смеялись. Полине несколько раз досталось прикладом по спине. Она отставала. Ей приказали копать яму пошире. Для себя и младшего брата. Мальчик сидел тут же, на куче земли и молча наблюдал, как углубляется его могила.
– Хватит! – скомандовал кто-то со стороны. – Лопаты в сторону, жиды. Становитесь лицом к ямам.
Девушка медленно отложила лопату в сторону. Ну, вот и всё. Она прижала к себе брата, погладила его по голове. Зашуршали ремни карабинов, которые полицаи снимали с плеч.
Полина зажмурилась.
И тут жёсткая рука в кожаной перчатке схватила её за шиворот, выдернула из толпы. Полина споткнулась, чуть не упала, потеряла руку брата, хотела крикнуть, но её уже безжалостно волокли куда-то в сторону, прочь от страшных ям, от гибнущих людей. Кое-как устояла, засеменила, подстраиваясь под широкий шаг похитителя. В голове промелькнули страшные мысли: «Куда ведут? Зачем? Что ещё страшное придумали?»
Но тут её отпустили, и Полина смогла рассмотреть владельца кожаной перчатки.
Перед ней стоял Курт. Как обычно, смотрел равнодушно. И губы его кривились в презрительной, брезгливой ухмылке. А рядом с Куртом переминался начальник полиции Ковалевский.
Полина сжалась в ужасе.
– Что это? – Курт ткнул пальцем Полине в грудь.
– Жидовка, герр офицер, – недоуменно пожал плечами полицай.
– Это не есть жидовка, это есть моя служанка Полина. Почему она здесь? – рявкнул Курт.
– Так в списках же. Всех евреев.
– Это не еврейка! Я сказал – моя служанка. Полы мыть! Понял?
– Понял, герр офицер! – вытянулся в струнку полицай.
И повернулся к Полине.
– Как твоя фамилия, девка?
– Она русская! – с нажимом сказал Курт. – Ты понял?
– Понял. Чего тут не понять, – Ковалевский пожал плечами и отвернулся. У него было много других забот.
– Иди, – Курт грубо толкнул Полину в плечо. – Иди отсюда.
– Куда? – растерянно спросила девушка.
Во взгляде австрийца впервые промелькнуло что-то кроме равнодушия.
– Дура! Иди отсюда! Жди меня вон там!
И снова толкнул её прочь от толпы, от темноты и неминуемой смерти.
И Полина пошла. Курт догнал её через несколько шагов, взял за локоть и поволок к дороге. Там стояла его машина, курил и поглядывал в сторону расстрельных ям солдат-водитель.
– Садись, – скомандовал офицер.
Бросил что-то водителю на немецком. Тот с удивлением посмотрел на начальника. Но спорить не стал, вытянулся, задрав подбородок к чёрному небу. Курт сам сел за руль. Когда машина выезжала с гравийной дороги на асфальт, из темноты послышались первые выстрелы и истошные крики убиваемых людей.
Он вёл машину, не глядя на Полину. Постоянно курил, до скрипа сжимал руль. Километрах в двадцати от Минска остановился у обочины.
– Выходи.
– Куда же мне идти? – прошептала девушка.
– Куда хочешь. Спасайся как можешь.
Курт отвернулся. Полина выбралась из машины.
– Спасибо.
Австриец грубо выругался, надавил на газ. Машина с визгом умчалась прочь. Она осталась одна.
Некоторое время Полина Аускер жила в Минске. Жители белорусской столицы прятали её, подкармливали. Нашлись связи с минским гетто. Этим людям Полина рассказала о том, что произошло в Борисове, о том, что ждёт и Минское гетто. Ей верили. В Минске происходило почти то же самое.
Когда находиться в Минске стало слишком опасно, Полина направилась на восток. К ноябрю 1942-го добралась до Смоленска. Под осенним холодным ветром она стояла на мосту через Днепр и не знала, куда идти. Потом стала расспрашивать прохожих. Ей подсказали, что Смоленское гетто находится в Садках, указали дорогу. В гетто Полина узнала о еврейской семье Морозовых, которой удалось избежать угона в гетто. Морозовы жили в деревне Серебрянка, в двух километрах от города, обещали приютить девушку.
В Серебрянке Полина прожила всего один день. За Морозовыми следил немец-переводчик с льнозавода. Оставаться у них было опасно.
Морозовы передали Полину русской семье Лукинских, которые рисковали своей жизнью, выдавая её за свою дальнюю родственницу. Познакомили с русскими девушками, одна из новых подруг по фамилии Печкурова пошла в паспортный стол, достала документы на имя Ольги Васильевны Храповой. Так Полина стала Олей.
10 ноября немцы арестовали Морозовых. Лукинские успели спрятать их детей, укрыли их вместе с Полиной. Долго не рассказывали им, что родители были почти сразу же расстреляны.