Текст книги "Образы Италии"
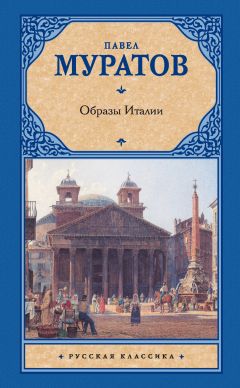
Автор книги: Павел Муратов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
На теперешнего путешественника Болонья производит впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и церквам. После всяких чудес Падуи и Феррары и перед тем, что обещает Флоренция, здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей. Его окружают тучнейшие в Италии житницы и виноградники, дающие прославленное вино. Никакое другое место не может сравниться с Болоньей по изобилию, разнообразию и дешевизне всевозможной снеди, и итальянцы недаром называют ее «жирная Болонья» – «Bologna la grassa».
Но Болонья известна под именем не только «жирной», а еще и «ученой» – «la dotta». Ее древний университет дает ей на это несомненное право. На первый взгляд такое соединение сытости с ученостью кажется странным; оно приводит на ум персонажа, олицетворяющего Болонью в комедии масок, – ученого Dottore Balanzon [27]27
Доктора Баланцона (ит.).
[Закрыть]. Но, говоря серьезно, нет ничего противоречивого между процветанием здешних угодий и возникновением среди них университета. На заре итальянской образованности этот университет был основан юристами, людьми дела. Не здесь, а в Париже Данте слушал уроки «божественной науки», теологии. Болонский университет никогда не был так знаменит своими гуманистами, как Падуанский университет в XV веке. Здравый смысл неизменно хранил Болонью от всяких слишком отвлеченных страстей.
За восемь столетий университет успел удивительно слиться с жизнью города. В XVII веке он сделался рассадником бесчисленных местных «академий». В XVIII веке, таком падком на всякую ученость, университетские люди придавали особый оттенок местному обществу. Болонья славилась тогда своим обществом: своими красивыми женщинами, обильными ужинами, умными разговорами, хорошими концертами. Во владениях папы она была вторым городом после Рима, и управляющий ею кардинал был вторым после папы лицом в церковном государстве. Путешественники гостили здесь подолгу и уезжали отсюда с сожалениями. Для всех Болонья была тогда гостеприимна: де Бросс мог блистать в ее салонах своим остроумием, Гете мог найти в ней многое, чем утолить свою жажду всяческого знания, Казанова был поражен той легкостью и щедростью, с какой она предоставляла всевозможные наслаждения. Стендаль обязан Болонье многими блестящими страницами в книге «Рим, Неаполь и Флоренция». Он провел здесь две недели, посещая приемы тонких прелатов, бродя вместе с Шелли по старым церквам, слушая чтение «Паризины» Байрона в кружке местных красавиц и их томных поклонников, беседуя с прекрасной и умной синьорой Герарди о четырех видах любви. «В Болонье, – писал он, – встречается, как мне кажется, больше ума, темперамента и оригинальности, чем в Милане; характеры здесь более открыты. Через две недели у меня здесь явилось больше домов, где я мог провести вечер, чем сколько их было бы в Милане через три года».
Теперешний путешественник не считает своей обязанностью знакомиться с жизнью того города, куда его привлекли интересы искусства или истории. Он лишен возможности судить поэтому, сохранило ли общество Болоньи хотя часть своей былой прелести. Его беглое впечатление отметит лишь оттенок интеллигентности, свойственный этому городу в большей степени, чем многим другим итальянским городам. Такова сила традиции. Может быть, это она заставила поселиться в Болонье последнего замечательного итальянского поэта и историка литературы Джозуэ Кардуччи, хотя он и был уроженцем Тосканы. А может быть, для человека, свободно выбирающего, где поселиться, этот город всегда имеет какие-то преимущества, которые связаны с порождаемым им впечатлением легкости, но не пустоты, довольства, но не отупения, живости без суеты, образованности без педантизма. В Болонье весело ходить по улицам, и даже бесконечные аркады не делают их монотонными и хмурыми, как в Падуе. Весело и шумно бьет прекрасный фонтан Нептуна на ее главной площади, окруженной живописными старинными дворцами.
На эту площадь выходит огромный неотделанный фасад самой большой из болонских церквей, Сан-Петронио. Местные жители до сих пор с гордостью указывают, что эта церковь больше, чем флорентийская Санта-Мария дель Фьоре. Их слова – отголосок векового соперничества Болоньи с Флоренцией. Любопытно, что оно почти всегда было мирным. Ради него не было пролито столько крови, как ради спора Флоренции с Пизой или Сьеной. Остроты, которая была в тех распрях между близкими родственниками, не могло быть в этом соперничестве. Болонья была слишком далека от Флоренции не потому, что их разделяют Апеннины, но потому, что между ними лежит глубокая духовная пропасть. Во Флоренции – все величие, все гений, все страсть, все край; здесь же – все только середина, только талантливость, только восприимчивость, только благоразумие. Вся историческая судьба Болоньи кажется выкроенной по иному масштабу и иными руками, чем судьба Флоренции. Разумеется, в сущности, не может быть и речи о действительном соперничестве этих двух городов. Ни Сан-Петронио, несмотря на свои размеры, ни иная какая болонская церковь не заставят забыть про великие храмы Флоренции. Лучшее, что есть в Сан-Петронио, это как раз работа тосканского мастера, – предсказывающие Микельанджело рельефы на главном портале, изваянные скульптором из Сьены, Якопо делла Кверчия. Правившей здесь в XV веке фамилии Бентивольо, здешним Медичи, во всем далеко до флорентийских Медичи. Их лица на медалях Сперандео в городском музее или на фреске Лоренцо Косты в церкви Сан-Джакомо Маджоре кажутся менее тонкими, менее одухотворенными. Не слишком верится в их легендарное родство с сыном императора Фридриха II, королем-поэтом, королем-узником, Энцио.
Этому городу, в котором столько веков течет уютная и приятная жизнь, не удалось совершить ничего великого. Болонья ни в чем не достигла высот творчества, она не дала Италии ни одного гения, ни одного святого, ни одного героя. Можно подумать, что окружающие ее плодоносные поля и влажные пастбища не давали подняться от земли воображению ее художников и поэтов. Среди вечного приволья ее лугов, садов и виноградников нет ничего внушающего строгость, – строгость пейзажей Валь д’Арно и Сьены. Вид на Болонью с пригорка от Сан-Микеле ин Боско с первого взгляда немного напоминает вид на Флоренцию от Сан-Миниато. Но уже спустя мгновение сердце начинает грустить по кристаллическим горам Фьезоле, по синеве флорентийских далей, по серебристым оливкам, по благородному коричневому цвету флорентийского камня, по куполу Брунеллески. Немного светлее стены, немного краснее черепица на кровлях, иные линии улиц – и вот уже нарушена стройность образа, в котором раз и навсегда запоминается Флоренция. И тонкая игла болонской падающей башни Азинелли остается лишь беглым воспоминанием рядом с вечным силуэтом кампаниле Джотто.
Если бы написанное здесь каким-нибудь чудом было дано прочесть читателю, жившему сто лет тому назад, оно повергло бы его в немалое изумление. Неужели здесь говорится, воскликнул бы он, о Болонье, той самой Болонье, которая была родиной Болонской школы, отечеством переворота в искусстве, известного под именем второго ренессанса? Неужели можно говорить о художественной скудости города, переполненного произведениями трех Караччи, Доменикино, Альбани, Гвидо Рени, Ланфранко, Гверчино и их бесчисленных учеников? Такова странная судьба художественных вкусов и симпатий. У каждого из нас на памяти примеры перемен в оценке художественных явлений, происшедших за последние полвека. Но ни в одной из этих перемен нет такой удивительной резкости, ни в одной из них прошлое отношение не отделено такой пропастью от настоящего, как в этом примере Болонской школы. От всеобщего признания и поклонения мы внезапно перешли к решительному отрицанию и полному равнодушию. Художники, которые сто лет тому назад считались в избранном числе величайших и знаменитейших мастеров, не вызывают теперь ни в ком ни восторгов, ни даже внимания. Ирония судьбы простирается так далеко, что всем этим известнейшим некогда живописцам немногого недостает, чтобы попасть в число «забытых» художников и дождаться своих воскресителей.
Для образованного путешественника или любителя искусств XVIII и первой половины XIX века Болонья была одним из самых важных художественных центров Италии. Слава ее художественных хранилищ и церквей уступала разве только славе Рима и равнялась славе Флоренции и Венеции. В этом можно убедиться, читая де Бросса, Стендаля. Великий английский портретист Рейнольдс отвел в своих путевых заметках больше места Болонье, чем Флоренции. Он считал своим долгом не пропустить ни одной церкви, где есть алтарные образа Доменикино или Гвидо Рени, ни одного дворца, расписанного фресками Караччи или Альбани. Долгое время здешняя пинакотека была одной из первых галерей в Европе. Ее нарядные залы, теперь почти всегда пустые, слышали в своих стенах не меньше восторгов, чем Уффиции или Лувр.
Для путешественника тех времен заслуги Болоньи перед искусством казались несомненными. Во всех художественных историях тогда рассказывалось, что после Микельанджело и последних венецианцев искусство в Италии быстро склонилось к упадку и что честь его нового возрождения принадлежит художнику из Болоньи, Лодовико Караччи. Этот художник вместе со своими родственниками Агостино и Аннибале Караччи выработал методы и принципы, которые навсегда должны были предохранить искусство от возможности упадка. В конце XVI века Караччи основал в Болонье академию, в которой воспитались такие мастера «второго ренессанса», как Доменикино, Альбани, Гвидо Рени. Создалась обширная Болонская школа, наполнившая своими произведениями не только родной город, но и Рим, и другие итальянские города. XVIII век шумел триумфами этой школы, ее слава завоевала Европу. По общему мнению, Караччи, Доменикино, Гвидо Рени заняли место рядом с великими мастерами Возрождения, рядом с Рафаэлем, Микельанджело, Корреджио и Тицианом. В лице графа Мальвазия художники из Болоньи нашли своего жизнеописателя, своего Вазари. В написанной им книге «Felsina pittrice»[28]28
«Художники Болоньи» (ит.).
[Закрыть] этот горячий патриот требовал для Болонской школы первенства среди всех других итальянских школ.
Репутация болонцев, освященная двумя веками поклонения, казалась чрезвычайно прочной. Но она немедленно рухнула, как только были поняты и оценены художники, жившие в Италии до Рафаэля, и как только утеряла свою силу вера в академию. Это понятно: живопись Болонской школы во всем является противоположностью живописи кватроченто; академия Караччи, с другой стороны, была прототипом всех европейских академий. Отвергая болонцев, наше время выказало лишь последовательность художественного вкуса, ту самую последовательность, которая заставляла некогда людей, воспитанных на Доменикино и Гвидо Рени, не видеть красоты Боттичелли и Пьеро делла Франческа. И естественно, что самые решительные удары болонцам нанесла литература той страны, которая первой признала и полюбила прерафаэлитов. Со своей пророческой строгостью Рескин говорил о Доменикино: «Человек, написавший Мадонну дель Розарио и Мученичество св. Агнессы в болонской галерее, вполне очевидно, не способен сделать что-либо хорошее, значительное или верное в какой бы то ни было области, каким бы то ни было путем и при каких угодно обстоятельствах».
Суровость этого приговора понятна: он был произнесен в пылу защиты великого и справедливого дела. Что иное мог сказать о Доменикино Рескин, которому во всей свежести и чистоте открылось искусство Джотто? Но теперь, когда наше отношение и к болонцам, и к ранним итальянцам стало более спокойным, более критическим, слова Рескина не кажутся справедливыми. Никто не станет отрицать теперь, что Доменикино был очень одаренным художником и что ему удалось сделать немало хорошего. При взгляде на его пейзажные фоны и на его мифологические картины мы понимаем высокое мнение о нем Пуссена. Прекрасное искусство Пуссена находится в не слишком сложном родстве с этим искусством. И странно! Такая очаровательная картина, как «Рай» в римской галерее Роспильози, свидетельствует даже, что в душе Доменикино были черты настоящего примитива, столь любезные сердцу Рескина.
Да и не один Доменикино был талантлив среди болонцев. Овалы Альбани, может быть, не очень серьезны и все-таки по большей части прелестно написаны. Знаменитая «Аврора» Гвидо Рени в римской галерее Роспильози изобличает в нем большого мастера и замечательного колориста. Другие его вещи, разбросанные по Италии, свидетельствуют о недюжинном темпераменте, как, например, пламенное «chiaro scuro»[29]29
«светотень» (ит.).
[Закрыть] в городском музее Пизы. Аннибале Караччи мог быть чрезвычайно энергичным рисовальщиком, и его живопись иногда дерзновенно приближается к высоте живописи Корреджио. Ланфранко умел украшать, как никто, церкви барокко своими великолепно-светлыми плафонами. Гверчино унаследовал от больших венецианцев редкую силу пятна.
Вероятно, и среди других бесчисленных последователей Болонской школы найдутся художники, отмеченные печатью своеобразного и интересного дарования. Скоро придет время, когда мы научимся лучше в них разбираться, чем умеем это делать теперь. Справедливость требует, чтобы болонцам было оказано то же внимание, что и художникам других школ и эпох. Судя их всех en bloc [30]30
в совокупности (фр.).
[Закрыть], мы, может быть, неразумно отказываемся от каких-то подлинных художественных ценностей. Происхождение нашей антипатии к художникам из Болоньи понятно и объяснимо, но преодолеть ее все-таки необходимо. Надо признаться, однако, что труднее всего это сделать именно здесь, в Болонье. Именно в здешней галерее и в здешних церквах полотна Караччи и их соотечественников производят наиболее тягостное, наиболее неприятное впечатление. Как раз в Болонье выступает на первый план то худшее, что было в искусстве Болонской школы. Как раз здесь наименее заметно то индивидуальное, что было в талантах отдельных художников. В Болонье трудно изучать интересные особенности Доменикино, Гвидо Рени, Альбани, потому что здесь эти особенности наиболее полно принесены в жертву пресловутой доктрине, которая легла в основу академии Караччи. В каждой картине и в каждой фреске развертывается тут перед нами живописная хартия Болонской школы.
Не в дарованиях отдельных художников, но в ней, в этой хартии, в этом символе веры болонцев, заключается причина их долгого успеха и быстрого затем падения. Караччи не делали секрета из своих принципов, и они сами нашли им должное наименование. Болонская школа названа эклектической не когда-либо позднее, но самими же ее участниками, притом названа вполне сознательно и намеренно. Эклектизм был точной формулой их академии, ее вполне ясной программой, ее неукоснительно соблюдаемым законом. Уклонения от этого закона, конечно, были, и благодаря им мы кое-что знаем об индивидуальных достоинствах лучших болонцев. Но эти уклонения, разумеется, заслуживали только порицания, с точки зрения самих эклектиков и их главного руководителя, основателя школы, упорного до фанатизма Лодовико Караччи.
Основатель Болонской школы был человеком редкой убежденности и энергии. Люди такого закала вышли на поверхность жизни в ту эпоху, которая называется в учебниках истории эпохой «католической реакции». Родные братья Лодовико Караччи по духу основали орден Иисуса. Бесконечная выдержка, умение руководить людьми, умственный жар и любовь к организации были общими чертами их характеров. Иезуиты изучали людей, оттенки их чувств, особенности их мышления, чтобы потом, подобрав все нужные качества, построить из них идеального слугу воинствующей церкви. Подобно этому Лодовико Караччи изучал произведения великих мастеров Возрождения. У каждого из них он брал то, что считал лучшим. Из соединения всех этих качеств должен был, по его мнению, родиться новый, идеальный художник.
Но в самом Лодовико было слишком мало художника. Проницательный глаз Тинторетто заметил это. Последний из великих стариков Возрождения посоветовал этому молодому человеку из Болоньи, несмотря на все его прилежание, вовсе оставить занятия живописью. Лодовико Караччи не послушался старого венецианца. Жизнь стояла за него, проповедь эклектизма имела полный успех. Первой удачей Лодовико было привлечение своих талантливых родственников Агостино и Аннибале Караччи. За ними в его мастерскую пришли Доменикино, Альбани, Гвидо Рени. Знаменитая академия была основана. Ее «credo»[31]31
«кредо» (ит.).
[Закрыть] было выражено в сонете, написанном Агостино Караччи. «Кто желает стать хорошим живописцем, тот должен располагать рисунком, унаследованным от Рима, движением и тенями венецианцев и благородным колоритом Ломбардской школы. Тот должен владеть силой жизни Микельанджело и чувством природы Тициана, высоким и чистым стилем Корреджио и верной композицией, достойной Рафаэля. Тому надо фоны и аксессуары Тибальди, изобретательность ученого Приматиччио и немного миловидности Пармиджанино». Надо ли удивляться, что эта наивная эклектическая формула получила такое распространение в XVII веке? Все академии, все теоретики искусства и все высокие авторитеты в делах художества на протяжении двухсот пятидесяти лет после Караччи только и делали, в сущности, что развивали эту формулу. Из нее естественно выросло понятие об идеальной красоте, «beau ideal», ради которого написано столько мертвых и ненужных академических полотен. В своих «Рассуждениях о живописи», местами таких глубоких и свежих, Рейнольдс чаще всего является все-таки прямым учеником Караччи. Для него нет лучшего образца в совершенном понимании стиля, как то, что сделано основателем Болонской академии Лодовико Караччи. «Красота и величие в искусстве, – говорит он, – даются способностью стать выше всякой частной формы, всякого индивидуального понимания, всего, что является только особенностью и исключением». Но к общей форме, к «идеальной красоте» можно прийти исключительно только путем изучения того, что сделано великими мастерами. Для Рейнольдса «творчество, строго говоря, есть лишь новое комбинирование образов, собранных и сохраненных памятью».
Эклектизм, вера в то, что можно достигнуть совершенства путем выбора и соединения, стары, как мир, как само искусство. Сонет Агостино Караччи очень близко напоминает рассуждения Лукиана о скульптуре. «Перед нами статуя, возникающая под рукой художника, по мере того как он составляет ее, следуя различным образцам. Только голову он берет у Книдской богини, ибо остальная часть той статуи, будучи нагой, не отвечает его намерениям. Но волосы, и лоб, и нежный изгиб бровей – пусть он оставит это таким, как сделал Пракситель. Округлость щек и переднюю часть лица он должен заимствовать от Алкаменовой богини Садов, точно так же, как по этому же образцу должны быть изваяны рука, кисть и тонко обрисованные пальцы. Но для общего очертания лица, для тонкости кожи и совершенных пропорций носа надо призвать на помощь Афину Лемнию и Фидия, равно как тот же мастер может помочь в расположении рта и шеи по примеру его Амазонки. Затем Созандра Каламиса увенчает ее своей скромной приветливостью, и улыбка ее должна быть благородной и бессознательной, как у Созандры, и у Созандры же будет взято красивое распределение драпировок. Ее возраст, пусть это будет возраст богини Книдской, повторим и это тоже вслед за Праксителем». Эклектизм Лукиана ясно говорит об эпохе глубокого упадка греческой скульптуры. Так и эклектизм болонцев свидетельствует об упадке, наступившем в итальянской живописи в конце XVI века. Эклектики не сознавали, что вся теория и практика их деятельности были выражением этого упадка. Вслед за всякой классической эпохой в искусстве наступает усталость. Все пути испробованы, и всем средствам воплощения найдено совершенное применение. Художник перестает тогда обращаться к природе, к ее сокровищам, будто бы истощенным его великими предшественниками. Он начинает на все смотреть их глазами. Мира для него не существует, существуют только картины. Для него нет иной возможности творчества, как разложение существующих произведений на составные элементы и приведение их в новые комбинации. Красота существует для него, как нечто, что можно повторить за другим. Он перестает понимать, что красота каждый раз рождается в самом процессе творчества.
Так возникают эклектические школы. В сущности говоря, со времен Возрождения живопись, за исключением отдельных художников, осталась подчиненной эклектическим влияниям. Прозреть слабость искусства болонцев было невозможно тогда, когда искусство жило в той же духовной атмосфере, которая когда-то их окружала. Но как только была понята красота и глубина архаического искусства, как только мы научились любить и ценить архаическую Грецию и Италию XIV и XV века, так сейчас же пришел конец славе Болонской школы. Изменилось самое наше отношение к художникам классической эпохи. Для человека XVIII века Рафаэль, Микельанджело и Корреджио были интересны, как начало, как исходная точка для построений болонских и иных прочих академиков. Для нас чинквеченто имеет значение больше как завершительный момент, как конечная точка тех путей, по которым шло искусство, когда оно жило наиболее полной и прекрасной жизнью.
За художниками из Болоньи всегда останется психологический интерес. Они уже нашли сочувственный отклик в театральной, барочной и все-таки подлинно пламенной прозе Мориса Барреса. Устами своего героя он легко приносит в жертву «честное трудолюбие всяких Джотто подъему и мощи Доменикино или нежной грации Гверчино». Он хочет знать только этих патетических живописцев, «тех, кого любили Байрон, Стендаль, кого презирает наша эпоха, новая волна не вынесет их на поверхность моды». «Слава им, – восклицает он, – писавшим о действии энергий и энтузиазмов!» То индивидуальное, что удержалось в картинках болонцев, наперекор учению об эклектизме, те рассказы о них, которые благоговейно сохранил их историк граф Мальвазия, – все это внушает воображению большое любопытство. Это были в самом деле любопытные характеры, живописные фигуры. Доменикино заставляет думать о редкой душевной сложности, когда мы сопоставляем рассказы о его уединенной, монашеской жизни с жестокостью одних его картин и сладостностью других. Альбани рисуется удивительно цельной фигурой вместе со своей красивой женой, позировавшей ему для всех богинь, и вместе с дюжиной ребят, с которых он списывал свои гирлянды амуров. И рядом с ними Гвидо Рени, красивый, как девушка, девственник по рассказам товарищей, стыдливый до того, что убегал из мастерской при виде обнаженной натуры, и в то же время, несомненно, чувственный до приторности в своих картинах и в довершение всего страстный игрок.
Все эти люди находились друг с другом в соперничестве, иногда глухом, иногда переходившем в открытую борьбу. Агостино и Аннибале Караччи долгое время ненавидели друг друга. Они соединились только, чтобы различными интригами помешать слишком блестящим успехам Гвидо Рени в Риме. Вражда Ланфранко к Доменикино доходила до того, что, когда Доменикино умер, молва обвинила Ланфранко в его отравлении. В жизни этих знаменитых художников Болонской школы есть какой-то драматический или, вернее, театральный оттенок. Тут есть, во всяком случае, материал для живописной исторической трагедии, и недаром наш Кукольник брался однажды за эту тему. Но как все это далеко от добрых нравов и светлых душ кватроченто! Как непохожи эти характеры, такие же темные и немного зловещие, как живопись Болонской школы, на характеры, подобные Донателло, Мантенье, Беноццо Гоццоли и Луке Синьорелли.
Эклектическая школа, разумеется, не случайно возникла именно в ученой и практически мыслящей Болонье. И свойственная многим из эклектиков сладкая приятность и жеманная красивость кажется тоже чертой, лежащей в самом характере этого города. Известно, по крайней мере, что этот оттенок «болонизма» существовал здесь и до возникновения академии Караччи. В XV веке художественным учителем Болоньи была Феррара. И если в исполненных здесь работах мужественного феррарского мастера Франческо Коссы еще не видно никакой сладости и расслабленности, то нельзя сказать того же про поселившегося здесь его ученика Лоренцо Коста. А ученик Косты, болонец по происхождению, Франческо Франчиа, является уже чистым «болонцем» как по своим эклектическим наклонностям, так и по своей манерной женственности. От его приторно красивых и неискренно благочестивых мадонн, от его выглаженной живописи остается один шаг до Гвидо Рени. В оратории Св. Цецилии есть фрески Франчии и других современных ему художников из Болоньи. Ни в одном из итальянских городов не было на рубеже XV и XVI веков такой отчужденности художников от существенных задач искусства. Франчиа и его товарищи не искали ни красоты линий, ни могущества формы, ни полноты цвета. Они не искали и содержания, не умея служить ни религии, ни поэзии возродившихся классических мифов. Они прежде всего хотели нравиться, быть приятными. В их искусстве чувствуется ленивое воображение и легкая самоудовлетворенность. Глядя на них, пожалуй, можно повторить восклицание Боккачио: «О singular dolcezza del sangue bolognese!» Но при этом нельзя не вспомнить о другом, настоящем творчестве, о других художниках и о других городах, избранных подлинной благодатью.
Итак, Болонья, ученая, спокойная и приветливая Болонья, не столько дарит эстетическими радостями, сколько наводит на размышления об искусстве. По счастью, есть возможность закончить воспоминания о ней одним эпизодом, в котором нет ровно ничего общего с холодным жаром и придуманностью ее эклектической живописи. Вспоминается сентябрьский вечер и просторная площадь у высоких стен церкви Сан-Франческо. На этой площади в бедном народном квартале можно еще увидеть теперь представления «burratini», театра марионеток, являющегося одним из последних отголосков старой итальянской комедии масок. По мере того как темнеет, как зажигаются первые звезды и редкие фонари провинциальной окраины, на площадь собирается публика. Палатка комедиантов начинает таинственно светиться изнутри, приводя в трепет толпу детей. Кто постарше, занимает места на стульях, поставленных рядами перед кукольным театром. Публика этого бедного и наивного зрелища настроена сдержанно-весело, в ее движениях видна та благородная грация, которая свойственна только итальянской народной толпе. А ведь это всё люди, не дошедшие по лестнице современной цивилизации даже до кинематографа!
Проходит несколько минут ожидания, прерываемых негромким говором, смехом детей и возгласами продавца лакомств: «Caramelle, caramellone!»[32]32
«Сладости, сладости!» (ит.).
[Закрыть] Но вот уже совсем темно, уже луна поднимается над кровлей соседней церкви, и вдруг раздается звонок, наступает молчание, и маленький занавес торжественно раздвигается, открывая маленькую освещенную сцену. То, что представляют куклы, оказывается длинной (целых пять действий) романтической историей, в которой главный герой – «Ринальдо из Альбанских гор». Но для публики, разумеется, интереснее всего шутки на местном наречии исторического местного арлекина, Фаджолино, и злоключения неизбежного «Dottor Balanzon». Последние представители искусства «burratini» относятся так серьезно к своему делу, как могут относиться только итальянцы, серьезные в забавах, как настоящие дети. Куклы «играют» прекрасно, чья-то опытная рука не дает их движениям стать безобразными даже в минуты шаржа. Они вовсе не пищат и мало дерутся. Вся соль представления заключается в контрасте между торжественной трагической дикцией главных персонажей на чистом тосканском наречии и шутками Фаджолино на грубоватом болонском жаргоне.
Публика усердно хлопает и от души радуется, а когда приходит конец и пятому действию, вздыхает, что все так скоро кончилось, и самоотверженно бросает в актерскую шляпу медные сольди. Остается только собрать стулья и очистить площадь для завтрашнего торга, для завтрашних крестьян, которые привезут сюда осенние плоды, тронутые утренним холодом, и огромные кисти винограда. И, точно думая о том, что скоро зима, женщины уходят, кутаясь в большие платки и уводя с собой детей. Площадь пустеет, толпа понемногу редеет, обмениваясь шутками и дружескими прощаниями. Ни ночь, ни мысль о близкой зиме, ни бедность не в силах разрушить простой гармонии, живущей в сердцах этих людей, прослушавших комедию кукол с тем же ясным счастьем, с каким их предки слушали пятьсот лет тому назад и на этой же самой площади строгие мистерии.









































