Читать книгу "Образы Италии"
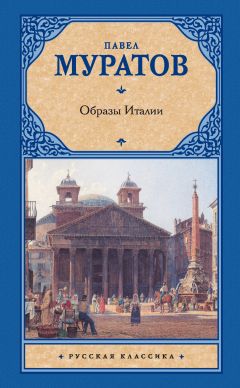
Автор книги: Павел Муратов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Флоренция
От Сан-Миниато«per salire al monte Dove siede la chiesa che soggioga La ben guidata sopra Rubaconte, Si rompe del montar l’ardita foga Per le scalee che si fero ad etade Ch’era sicuro il quaderno e la doga». (Purg. С. XII)[34]34
мы на холм идем, Где церковь смотрит на юдоль порядка Над самым Рубаконтовым мостом, И в склоне над площадкою площадка Устроены еще с тех давних лет, Когда блюлась тетрадь и чтилась кадка… (Чистилище. Песнь XII) (ит.).
[Закрыть].
Эти слова Данте высечены на камне в начале высокой лестницы, поднимающейся от ворот Флоренции к Сан-Миниато. Другие места Флоренции, названные в «Божественной комедии», также отмечены плитой и надписью, содержащей стих Данте. Но нигде итальянский странник не вспоминает с таким волнением, как на этой лестнице, о великой душе, которая жила земной странницей в Италии, «che vivesse in Italia peregrina» (Purg. C. XIII)[35]35
«что обитала пришелицей в Италии…» (Чистилище. Песнь XIII) (ит.).
[Закрыть]. Образ Данте – это прежде всего образ странника; каждая итальянская дорога напоминает нам дороги его изгнаннических скитаний, каждое восхождение под небом Тосканы заставляет вспоминать путь, которым он шел на гору Чистилища. Мы что-то повторяем вслед за ним, когда медленно поднимаемся по бесконечным каменным ступеням между двух рядов старых кипарисов. И, взойдя наверх к Сан-Миниато, мы останавливаемся и невольно глядим назад. «Там сели мы оба, обратившись лицом к востоку, в ту сторону, откуда поднялись, – ибо всякий с удовольствием смотрит на пройденный путь». «A seder ci ponemmo ivi amendui Volti a levante ond’eravam saliti, Che suole riguardar giovare altrui». (Purg. С. IV)[36]36
И здесь мы оба сели отдохнуть, Лицом к востоку; путник ослабелый С отрадой смотрит на пройденный путь (Чистилище. Песнь IV) (ит.).
[Закрыть].
Церковь Сан-Миниато и ведущую сюда лестницу Данте называет в двенадцатой песне «Чистилища». Он приводит ее затем, чтобы показать, как высоки и трудны для смертного были лестницы, иссеченные в склонах священной горы. Вспоминая ее, он опять вспоминает свою Флоренцию. В то время, когда складывались эти строки, он мысленно был здесь, у Сан-Миниато. Его душевный взор летел отсюда над мостом «Рубаконте» и над всем городом, имя которого его горькая ирония скрывает в словах «la ben guidata»[37]37
«юдоль порядка» (ит.).
[Закрыть]. Так это место поэмы доводит до нас горечь разлуки, испытанную Данте, и силу его мечты увидеть снова Флоренцию с высот Сан-Миниато. Ему не суждено было дожить до такого счастья – счастья, которое стало слишком легким достоянием каждого из нас. Мысль об этом должна всегда сопутствовать, как тень былой великой печали, даже нашим обычным вечерним прогулкам на площадке вокруг бронзового Давида.
Нынешняя Флоренция, видимая от Сан-Миниато, мало чем похожа на ту, к которой летело когда-то воображение Данте. За шестьсот лет не переменились в ней лишь Сан-Джованни, лишь этот мост «Рубаконте» или «алле Грацие», да еще высокие темные стены францисканской церкви Санта-Кроче. За мостом и вокруг церкви все стало другим, все говорит о новых столетиях и новых людях. Видя краснеющие купола собора и Сан-Лоренцо, мы задумываемся над сложной и превратной судьбой города, над его великолепной жизнью и над славой его бесчисленных гробниц. И все-таки сердце подсказывает, что эта Флоренция, та самая Флоренция Данте, святыня, за которую он мог положить свою душу, суровую и нежную. В ней что-то навсегда осталось от тех времен, в чистоте и строгости ее очертаний, в синеве ее блаженной долины, в изгибе Арно, текущего с гор Казентина. Она запечатлевается отсюда в одном взгляде, памятном и хранимом потом на всю жизнь. Нет, кажется, человека, в ком этот хорошо известный «общий вид» Флоренции не пробуждал бы чувства близости к высшей, чем земная, красоте.
Упоминая лестницу, ведущую к Сан-Миниато, Данте говорит, что она была построена тогда, «когда государство верно держало всему счет и во всем меру». Данте обращался мыслью к прошлому, потому что оно воплощало для него мечту о добром правлении. Но вот пришло время, когда его век сам сделался прошлым – прекрасным и сияющим, как утренняя звезда. Для нас не важно, что «черные» гвельфы дурно управляли Флоренцией и что много достойнейших граждан были изгнаны ими вместе с Данте и вместе с ним обречены на «горький хлеб и крутые лестницы» чужих домов. История не помнит такого зла, век политической страсти недолог. Время бледнит самые яркие краски событий и заглушает самые шумные споры. Политические заботы и чувства гражданина занимают много места в поэме Данте. Их точный живой смысл утрачен для нас, но никогда не исчезнет питавшая их энергия страсти. Распри гвельфов и гибеллинов, дела Черки и Донати вошли в величайшее из всех написанных на земле произведений поэзии. В его вечном свете потонула темная сторона вещей, правое слилось с неправым, доброе со злым. Стих Данте дал всему равное бессмертие, невзирая на то, что было вложено в него, – проклятие или благословение.
Нынешнему читателю «Божественной комедии» названия мест, связанных с судьбой поэта, имена людей, с которыми он встречался, упоминание событий, которых он был свидетелем или о которых он слышал, внушают особенное, глубокое очарование. Вместе с ними в суровую и беспощадную тему поэмы вливаются притоки, берущие свое начало в жизни. На минуту тогда отходят жгущие воображение видения Ада или Рая, чтобы дать место образам, рожденным в мире и миру возвращаемым. Как раз такие строки больше, чем что-либо другое, сделали творение Данте народным. Италия вошла в него не как героический сюжет, не как пафос поэмы. Она была неотступно подле поэта во всех его мистических странствиях, наделяя его сравнениями, возбуждая воспоминаниями, давая вымыслу силу правды и слову зримую красоту. Благодаря этим строкам «Божественная комедия» как-то слилась с Италией. Без нее неполно все, что узнает здесь путешественник, и без Италии ее терцины не перескажут самой заветной их прелести.
Таких строк особенно много в «Чистилище». Самая атмосфера Чистилища ближе к нам, чем вечный мрак Ада или блистательные сферы Рая. Здесь все еще похоже на землю, и лишь от Стация Данте узнает, что здесь не бывает ни дождя, ни града, ни росы, ни облаков, ни радуги. Есть оттенок печали в том, как тень Стация вспоминает про радугу, «которая там так часто преображает окрестность», «Che di la cangia sovente contrade» (Purg. XXI). И этот оттенок, – след глубокой любви Данте к миру и к его простым чудесам, – нередко встречается в песнях «Чистилища». Едва ли в самом деле счастливыми кажутся поэту навсегда отделенные от земли души, которые он встречает здесь. Глубокую жалость вызывает в нем это «святое стадо», – «la santa gregia». Когда Форезе спрашивает его, почему он скрывает от теней, что он не тень, Данте отвечает: «se te riduci a mente Qual fosti meco, e quale io teco fui, Ancor sia grave il memorar presente». (Purg. С. XXIII).
«Тебе было бы еще тяжко вспомнить, каким ты был, когда мы знали друг друга».
Данте с улыбкой писал о своем старом друге, ленивце Бельаква, который не слишком спешил подниматься на священную гору. И перед самым порогом Чистилища он, Виргилий и толпа теней, все они заслушиваются музыканта Казеллы, забывая даже о вечном спасении ради земных песней о любви. «Lo mio maestro ed io e quella gente Ch’eran con lui, parevan si contenti, Com’a nessun toccasse altro la mente». (Purg. С. II)[38]38
Мой вождь, и я, и душ блаженных стадо Так радостно ловили каждый звук, Что лучшего, казалось, нам не надо (Чистилище. Песнь II) (ит.).
[Закрыть].
Поэма Данте говорит, что даже у предела иной жизни наша душа бывает все еще обращена к земле. У самого входа в Чистилище новые созвездия не мешают поэту встретить вечер так, как он встречал его в своих скитаниях. «Era gia l’ora che volge ‘l disio A’ naviganti, e’ntenerisce ‘l cuore Lo di, ch’han detto a’dolci amici a Dio? che lo nuovo peregrin d’amore Punge se ode squilla di lontano, Che paja ‘l giorno pianger che si muore». (Purg. С. VIII).
«Был час, который заставляет грустить мореплавателей, их сердце умягчает день, когда они сказали «прости» милым друзьям, – час, наполняющий любовью нового странника, когда он слышит далекий звон, и ему кажется, что это плачет умирающий день».
Флоренция внушила ему эту любовь к миру и к иным мгновениям короткой жизни, ради которых можно забыть даже о пути к блаженству. Не делает ли она более ценным существование каждого из нас, ее мимолетных гостей? Этот город, такой обыкновенный в своих лавках, новых домах, новых улицах, где-то хранит для каждого целый клад еще незнакомых чувств, еще неизведанных по тонкости впечатлений. Но даже обыкновенное скоро перестает здесь быть таким, по мере того как жизнь путешественника обращается в поклонение и сам он из простого любопытного становится пилигримом, – любимое Данте слово!
Есть общее в том, как воспринимается Флоренция, с впечатлением от чтения «Божественной комедии». В обоих та же стройность – стройность великолепного дерева, – та же отчетливость и завершенность, та же гениальная легкость в великом. Камни Флоренции, так кажется, легче, чем камни, из которых сложены другие города. Происхождение и природа слов Данте кажутся иными, чем происхождение и природа обыкновенных человеческих слов. В самом коричневатом цвете здешних дворцов есть высшее благородство, – плащ такого цвета был бы уместен на плечах короля, скрывшего свою судьбу под судьбой странника. И подобно тому как бесконечную нежность внушают эпизоды, включенные в суровую повесть Данте, так трепетную прелесть приобретают иные минуты, скользнувшие в строгом и простом течении флорентийской жизни.
Одну из таких минут принес октябрьский вечер, подкравшийся незаметно, когда мы были в церкви Сан-Никколо и рассматривали «Успение» Алессо Бальдовинетти. Оставив погружаться в тень цветочный саркофаг простодушного Алессо, мы вышли из церкви и скоро очутились за городскими воротами. Вместо того чтобы подниматься к Сан-Миниато, мы пошли в гору направо, вдоль взбирающихся по ее хребту зубчатых стен Флоренции. С другой стороны этой узкой дороги тянутся оливковые сады. В тот влажный вечер чище светилось серебро их листьев, омытое теплым дождем. Мы поднимались тихо, глубоко дыша, вдыхая запах оливок, земли, влаги – крепкий запах флорентийской осени. Тихо навстречу нам опускались сумерки. День ушел и растворился в сиянии без блеска, которое было во всем – в светлом эфире неба, в серебре садов, в мокрых камнях старинных стен. Впечатление серафической прозрачности охватило душу с никогда не испытанной до тех пор силой. Глубокое молчание было нарушено лишь шорохом капель и падением маленьких созревших плодов. Было слышно, как бьется сердце, как входит в него, чтобы никогда более его не покинуть, любовь к Флоренции. Никогда не был так светел для глаз мир, как в тот осенний теплый и влажный вечер на ее смиренной окраине. Такая минута – одна из тех минут, которых не заглушит потом повседневная суета горожан и приезжих на Кальцайоли или Торнабуони. Влажное дыхание такого деревенского вечера способно надолго освежить сухость, возникшую от слишком прилежного общения с «пылью веков» в музеях и галереях. Флоренция жива, и ее душа еще не вся в ее картинах и дворцах, она говорит с каждым на языке простом и понятном, как язык родины. И для русского путешественника, может быть, особенно дорого, что здесь всегда чувствуется близость деревни. Смены года, оборот сельского труда и сельского житья здесь всегда заметны, заметны праздники и базарные дни: тогда люднее на улицах и в маленьких тратториях тогда готовят к обеду лишнее блюдо. Тогда на площади перед Сан-Лоренцо любители искусства, которые спешат на поклон к гробницам Микельанджело, смешиваются с толпой загорелых крестьян, только что сваливших на соседнем рынке возы овощей и теперь покупающих всякую всячину на торге вокруг мраморного Джованни делле Банде Нере.
На этом народном торге, где и теперь есть еще несколько ларей с книгами, Роберт Броунинг купил книгу, содержавшую рассказ об одном старинном злодеянии. Он сделал его сюжетом своей великой поэмы «Кольцо и книга». Не есть ли это тоже проявление особенного свойства Флоренции, близости народного и жизненно простого в ней к вершинам творческого и духовного? Простое здесь никогда не было и не может быть низменным.
В первых строках своей поэмы Роберт Броунинг рассказывает, как, совершив покупку, он шел и читал на ходу найденную им книгу, пробираясь сквозь толпу продавцов и покупателей, проходя улицу за улицей, мимо палаццо Строцци, мимо церкви Тринита и затем через мост, пока наконец не дошел до своего дома и не прочел всей книги. Этот дом Броунинга, «Casa Guidi»[39]39
«Дом Гвиди» (ит.).
[Закрыть], находящийся недалеко от дворца Питти, отмечен доской, поминающей его жену, также поэта, Елизавету Баррет Броунинг, «которая сделала из своих стихов золотое кольцо, соединившее Италию с Англией». Во Флоренции прошли лучшие годы Броунингов, и во Флоренции умерла Елизавета. После ее смерти Роберт Броунинг уехал из Флоренции, и, хотя потом еще очень часто бывал и долго жил в Италии, сюда он более уже никогда не возвращался.
Для этого почти современного нам поэта, напоминающего иногда Данте энергией выражения и неустанным стремлением в высоту, Флоренция явилась образом величайшего счастья и величайшего горя всей жизни, как являлась она Данте шестьсот лет тому назад. Броунинг был ей чужой по рождению, по языку, но она вошла в его судьбу как дом его любви и дом его поэзии. Он пришел к ней со всем, что дала ему жизнь, и так должен приходить к Флоренции тот, кто хочет ее узнать. Кто полную свою душу несет сюда, – не один только интерес ума или глаза, но все свои чувства и силы, все, что было в жизни, ее правду, ее обманы, ее радости и ее боль и ее сны, – тот не уйдет отсюда без внутренних наитий.
Ближе всего к Флоренции тот, кто любит. Для пилигримов любви она священна; в ее светлом воздухе легче и чище сгорает сердце. Счастье любви здесь благороднее, страдание прекраснее, разлука сладостнее. На этом древнем кладбище любви слишком много сожжено великих душ и слишком много пролито драгоценных слез, чтобы не верить здесь в искупление. Все, что здесь создано, создано любовью. Храм и картина, фреска и барельеф – это все кенотафии ее долгого сна, не смерти, а только сна. Старое каждый миг оживает здесь, сливается с новым и в нем снова живет. Так, вечное благоухание роз в здешних монастырях приносит новому пришельцу вместе с раздумьем о прошлом весть о его любви. Так, в глубокий синий вечер на площадке у Сан-Миниато, когда порывы ветра налетают из горных ущелий и когда огни Флоренции внизу кажутся тревожными, величавые исторические тени вдруг расступаются, чтобы дать место иным образам и тоске сердца, внушенной ими. Тогда хочется долго и одиноко ходить здесь, слушая, как шуршит ветер песком, встречая опускающуюся дождливую ночь, и затем подойти к решетке и, наклонившись над темным пространством, над Флоренцией, тихо позвать: «О Биче!» Флорентийский поэт сказал о себе:
«…Io mi son un, che, quando Amore spira noto, e a quel modo Che detta dentro vo significando». (Purg. С. XXIV).
«Я тот, кто пишет, когда побуждает к тому любовь, и так записываю я только, что говорит во мне».
Поэма Данте есть создание его любви, и оттого она составляет гордость всех любящих. И оттого Флоренция до сих пор принимает явление каждой любви, готовая увенчать ее ветвями оливок и лавров, фиалками и розами, готовая разостлать на ее пути ковры серебряного света. Здесь нельзя поверить, что Беатриче Дантовой поэмы была лишь идеей любви. Увидя ее снова в Чистилище, Данте восклицает: «Conosco i segni dell’ antica fiamma». (Purg. С. XXX). «Узнаю знаки древнего пламени». И что-то звучит в этих словах, отчего нельзя представить себе пламя, которым вновь вспыхнула душа Данте, бесцветным пламенем идейного горения. В этом «antica fiamma»[40]40
«древнем пламени» (ит.).
[Закрыть] нам чудятся боль и счастье любви живой и явленной. Свет любви Данте, божественный, как все, что связано с этим человеком, навсегда остался над Флоренцией, подобно прекрасной немеркнущей заре. Благодаря этому, быть может, Флоренция стала местом веры и радости. Она заставляет верить каждого, что ее Дантова заря обещает и для него новый день. Каждый, кто смотрит на нее с высот Сан-Миниато, принимает крещение во имя любви. И в его душе воскресает тогда Vita Nuova [41]41
Новая жизнь (ит.).
[Закрыть].
1
Именем кватроченто называют ту эпоху итальянского Возрождения, которая заключена в пределы XV столетия. На необъятном кладбище истории, бесследно поглотившем целые народы, среди запутанного лабиринта могил, приютивших невечные страсти, недовоплощенные порывы, несделанные дела, памятник кватроченто возвышается одиноко и отдельно, прекрасный и законченный, как создание художника. У этой эпохи было изумляющее полнотой жизни существование. Другие эпохи проходят перед нашим умственным взором, как идейные волны нескончаемого исторического прилива. Кватроченто обращается к нашим чувствам, мы постигаем его так же, как постигаем состояние окружающего нас мира, – взглядом, дыханием, прикосновением. Для познания этого прошлого мало одного умозрения, подобно тому как мало его одного для близкого общения с человеком. И в том и в другом случае не столько важно суждение разума, сколько мгновенное впечатление глаза или бессознательное ощущение тела. При каждом приближении к кватроченто до сих пор бывает слышно биение великого сердца, переполненного благороднейшей и чистейшей кровью. Иногда кажется, что история напрасно заключила эту эпоху в свои владения. Ее смерть больше похожа на сонный плен – тот плен, который держит в своих легких оковах людей Флоренции, изваянных флорентийскими скульпторами на флорентийских гробницах. Чуть заметная гордая улыбка на их тонких губах знаменует счастливейшую победу человечества, победу над смертью.
Флоренция была колыбелью кватроченто и его саркофагом. В других итальянских городах путешественник встречается с накоплениями различных исторических эпох, то резко отрицающих друг друга, как в Риме, то странно примиренных, как в Венеции. На улицах Флоренции призрачно все, что было до начала XV столетия; ее «исход» лишь грезится нам над страницами священной книги Данте. Фрески учеников Джотто вмещают такую слабую жизнь рядом с излучающими все силы жизни творениями художников кватроченто. В них вошла целиком судьба чудесного города, и «двери будущего», по выражению Данте, оказались закрытыми. Еще столетие самоуничтожающей борьбы, еще несколько ярких событий, трагических бедствий, монументальных фигур, едва успевающих прикрыть неотвратимое угасание, – и Флоренция перестала существовать. Три века новой европейской истории растаяли в лучах единственного века, который поглотил всю ее энергию. Они едва коснулись ее старых камней, покрывая их золотом и чернью, драгоценным убором времени.
Кватроченто до сих пор остается настоящей жизненной стихией Флоренции. Познание этого прошлого мало нуждается в архивных розысках, в отвлеченной работе восстановления по законам исторической логики. Для того чтобы проникнуть в дух кватроченто, достаточно жить во Флоренции, бродить по ее улицам, увенчанным выступающими карнизами, заходить в ее церкви, которые хранят на стенах фрески, напоминающие цветом вино и мед, следить взором за убегающими аркадами ее монастырских дворов. Историю ее гения можно прочесть в изгибе нарисованной линии, в тонкости барельефа, в начертании колонны. Предмет наших розысков здесь – всегда дело рук человеческих, и мы, как некогда Фома, прикосновением руки можем увериться в этом посмертном бытии, в этом торжестве над смертью. Как в евангельском событии, здесь является бессмертным не только бесплотный дух, но и телесное его воплощение, сохранившее голос, улыбку на устах, теплоту тела и свежесть незакрывшихся ран.
Кватроченто выражает все свое содержание в накопленных им вещественных образах. У этой эпохи нет стремления к глубине, она может показаться бедной идеями и прозрениями. Данте увлекает наше воображение в подземные пропасти или уносит его к небесным сферам. Даже Чистилище его имеет форму горы; его мысль знает только восхождение и нисхождение, углубление и полет, она всегда уходит от поверхности земли. Но кватроченто как раз больше всего любило землю, ее оно покорило и ей служило, разливаясь широко и свободно по ее поверхности. Когда его платоники созерцали небо, каким, в сущности, далеким казалось им сияние звезд! И когда до острого слуха его героев доходил гул подземных пустот, с каким легким сердцем возвращались они после минутного раздумья к прерванному делу своего великолепного дня!
Содержание кватроченто исчерпывается таким простым понятием, как жизнь в мире. Исполнение этого простейшего из всех назначений человека привело к полному и быстрому расцвету искусства, который представляется чудом для нас, верных иной заповеди, обреченных на жизнь в себе и отделенных от мира. Отношение флорентийца XV века к природе и жизни было беднее оттенками, чем наше, оно не могло включать всех тонкостей нашей спиритуализации. Но оно было прочнее, искреннее и вернее. Там, где мы чувствуем себя как в гостинице, где недоверчиво располагаемся на несколько дней и ворчим на равнодушного хозяина, там флорентиец кватроченто чувствовал себя как в своем родовом имении. Для него все было делом его рук или делом предков. Он знал каждое дерево в своем саду жизни и терпеливо верил, что каждое из них даст плоды если не ему, так его детям. Нас поражает чувство вечности, которым проникнуто искусство кватроченто, нам непонятна его настойчивая мысль о будущем. Но эта неожиданная на первый взгляд мудрость, не есть ли она в сущности бессознательная мудрость всякого хозяина своей земли и всякого господина своих дел? Окинуть взглядом лежащий вокруг мир, услышать зов его вещей и протянуть к ним руку, отдать им свое сердце, ничего не утаивая из дарованных ему сил, – в такую минуту человек перестает быть гостем на земле и бросает в нее полновесное зерно будущего.
Для того чтобы флорентиец кватроченто мог окинуть взглядом свои владения, они не должны были быть безмерны. Мир, в котором он жил, был невелик, и горизонт его был замкнут лысыми Апеннинами Пистойи с одной стороны и усеянными виноградниками холмами Кианти – с другой. Еще не пришло время для беспокойных и себялюбивых душ, считающих своим отечеством весь мир, но, в сущности, всему чужих и везде лишних. Отечество – это Флоренция, она – новый Рим и новые Афины, она – храм, мастерская, место, хранимое Богом и любимое богами. Все в ней должно быть понятно, все освящено историей и украшено искусством. Каждая новая жизнь, отданная ее благу, каждый талант, поглощенный служением ей, направлены рукой ее художественного гения.
Искусство кажется главным занятием Флоренции XV века. Для создания того, что остается до сих пор и что уже исчезло, были необходимы усилия целой расы художников. Было необходимо, чтобы художественное сквозило во всем, как основа жизни. Историки культуры знают, как кватроченто сделало искусством все – любовь, просвещение, торговлю, даже политику, даже войну. Никогда человечество не было так беззаботно по отношению к причине вещей и никогда оно не было так чутко к их явлениям. Мир дан человеку, и так как это – малый мир, то в нем драгоценно все, каждое движение нагого тела, каждый завиток виноградного листа, каждая жемчужина в уборе женщины. Для глаза флорентийского художника не было ничего малого и незначительного в зрелище жизни. Все составляло для него предмет познания.
Но знание вещей, к которому стремился человек кватроченто, нисколько не похоже на то знание, которое составляет гордость нашего века. Наше положение в мире всегда напоминает положение ученого, который, прогуливаясь по саду, не узнает в нем ни одного дерева, хотя отлично знает общие законы роста деревьев. Рядом с этим флорентиец XV века кажется садовником, который зорким глазом или прикосновением любящей руки узнает каждое дерево и его отдельную судьбу. Там, где мы видим общее и, значит, всегда чужое, там художник кватроченто видел особенное и свое. Это сделало возможным торжество индивидуализма во флорентийском искусстве и флорентийской истории. К этой истории едва ли даже можно подходить с безличным собирательным понятием о народе. Может быть, единственно верным рассказом об истории Флоренции в XV веке был бы рассказ о судьбе каждого из ее обитателей, следившего мальчиком за сооружением дверей Гиберти и глубоким старцем пришедшего вместе с другими, чтобы сравнить картоны Леонардо и Микельанджело, заказанные им Флорентийской республикой.
Когда с высоты прошедших лет мы смотрим на Флоренцию кватроченто, мы не видим на ее улицах нестройной и гудящей одним звуком толпы современных городов. Наше понятие о человечестве становится облагороженным, когда мы видим там лишь отдельные фигуры, бросающие каждая свою резкую тень на гладкие коричневые стены флорентийских дворцов. Мы свободнее наблюдаем страсть на лицах немногих убийц, сжимающих кинжалы, которых заговор Пацци привел в просторный неф Санта-Мария дель Фьоре. Мы яснее слышим беседы кружка гуманистов, собравшихся вокруг Леоне Баттиста Альберти под соснами Камальдолей. Нигде, даже в военном лагере, даже около окруженного лесами собора, даже в товарных складах Калималы, мы не увидим человека, униженного до положения обитателя улья или муравейника. Одинокие и важные фигуры виднеются там в мраморной пыли скромной мастерской или у неоконченной фрески на еще сырой и прохладной стене церкви. Их имена, медленно прочитанные одно за другим, составляют историю гения кватроченто.
2
Происхождение искусства кватроченто до сих пор остается одной из исторических загадок. На протяжении XIV века Италия видела начало, распространение и упадок художественных школ, представлявших в живописи традиции Джотто, в скульптуре – традиции пизанских мастеров. Как случилось, что в ту самую минуту, когда оба эти искусства оказались изжитыми и одряхлевшими, Флоренция дала жизнь новому искусству, более зрелому, более могущественному и более прекрасному? Откуда явились в ней, другими словами, Донателло и Мазаччио? Вот чего мы до сих пор не знаем. Иногда кажется, что и здесь, как перед Джотто, не остается ничего другого, кроме признания таинственной воли гения. Но история искусства не любит прибегать к этому последнему средству: слишком частые ссылки на гениальность могут сделать непрочным все возводимое ею здание. Простое объяснение давала некогда легенда о подражании Донателло античным образцам. Новейший критицизм отвергнул эту легенду, и она не принадлежит к числу тех, о которых хотелось бы пожалеть. Время первых опытов Донателло и юности Мазаччио представляется теперь в гораздо более сложном освещении, чем представлялось оно, когда господствовало убеждение, что итальянское Возрождение было только возрождением классической древности.
Это время теперь еще больше привлекает воображение угадываемым в нем великим брожением душ. Начало кватроченто полно тем самым волшебством пробуждения, которое заставляет грезить и прислушиваться на летнем рассвете или ранней весной в лесу. Оно приближает к сокровенному моменту новой эпохи, к таинственному рождению ее творческих сил. Там сквозь туман столетий мы смутно различаем образование ее линий жизни, ее художественных верований, надежд и тяготений. Для нас ясно только, что источники нового существования были многочисленны и разнообразны. Легенда о влиянии античного не была, разумеется, совершенно праздным измышлением. Записки современника и соперника Донателло, Лоренцо Гиберти, открывают в одном месте отношение художника начала XV века к сохраненному для него в итальянской земле классическому наследству. Описывая найденную статую гермафродита, он говорит: «Высота мастерства здесь была такой, что человеческая речь бессильна выразить ее красоту… Повреждения не мешали угадывать чудеса, которые статуя представляла взору, когда была в своем первоначальном виде. И когда взгляд постигал наконец в ней все, тогда оказывалось, что осязание может открыть в ней еще новые совершенства». Такой же энтузиазм перед классическим, несомненно, испытывал и Донателло, но он не сделался от этого робким учеником и подражателем древних. В его искусстве есть черты, чуждые формальности тех античных фрагментов, которые могли быть ему известны. Почти повсюду в его произведениях виден беспокойный дух, видна немного дикая энергия, находящаяся в каком-то родстве со скульптурами готических соборов.
Еще прежде, чем Донателло и Мазаччио были призваны к великой деятельности, в различных итальянских городах появились художники, предвещавшие кватроченто своим чувством природы. Зрелище мира открывалось для них в образах их деревенской родины. Джентиле да Фабриано первый проникся детской, «подробной» любовью к природе, к цветам, птицам и травам. Для него привлекательной была прежде всего нарядность всех этих пестрых и приятных вещей. Они тешили его наивное и недалекое воображение так же, как придуманные им миловидные принцы, выставляющие напоказ свои расшитые золотом камзолы. Но уже у другого художника, современного Джентиле, у Пизанелло, родом из Вероны, мы встречаем гораздо более серьезное чувство природы. Немногие картины и многочисленные рисунки, оставшиеся после Пизанелло, показывают, что он был одержим настоящей страстью ко всему, что живет, движется и дышит в доступном ему мире – в том малом мире, в котором художники кватроченто находили неиссякаемые источники искусства. И Пизанелло, и Джентиле да Фабриано ездили по всей Италии, как бы исполняя этим возложенную на них историей миссию. Они были, конечно, и во Флоренции; здесь сродные с их чувством природы склонности уже обнаруживались в живописи Мазолино и Фра Анджелико. У Мазолино учился Мазаччио, но мало что передалось от учителя ученику. Настоящим духовным отцом Мазаччио был Донателло. В этих двух мастерах обнаружились подлинные черты флорентийского гения. Благодаря им Флоренция сделалась столицей кватроченто, так как от них пошла та главная, большая дорога, по которой направилось искусство этого века.
Умиленное и ребяческое отношение к природе кроткого Джентиле и романтическая мечтательность Пизанелло не пришлись к месту во Флоренции. Здесь родилась более героическая и торжественная концепция мира. Над флорентийцами как будто с самого детства тяготело сознание выпавших на их долю великих предначертаний. Оно заставило Донателло проявить колоссальное напряжение энергии. Никакой другой художник не спешил сделать так много, не стремился так настойчиво закрепить каждую мелькнувшую перед ним художественную возможность. Произведения Донателло – это сам олицетворенный труд художника кватроченто, они сохраняют весь пыл его замыслов, всю самоотверженную честность его порывов. Обращаясь к ним, мы как будто еще и теперь застаем его за работой, мы никогда не видим его почившим от дел для умудренного созерцания. Великий флорентийский скульптор всегда кажется нам похожим на изваянного им святого Георгия, – он едва успевает перевести дыхание между двумя совершенными им подвигами; мысль о новых подвигах никогда не сходит с его чела.









































