Текст книги "Роксолана. Полная история Великолепного века"
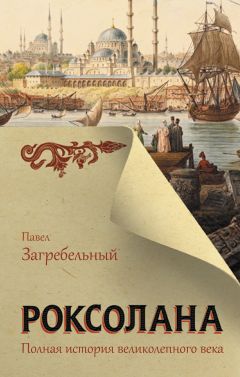
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
У Сулеймана тюрбан был намотан до самого верха шапки, белоснежная ткань ложилась ровно, тщательно, образуя изысканное сооружение, величественное и тяжелое, наползавшее на самые брови. Говаривали, что султан прикрывает им свою вечную раздвоенность, неуверенность, колебания перед принятием решений, внутреннюю муку, не дававшую ему ни подбодрить кого-либо как следует, ни напугать, как полагалось бы в его положении правителя. Но ведь был, наверное, и решителен по-своему, если уже с первых своих шагов в Стамбуле дал понять, что не станет смешивать силу со справедливостью, а разделит их без малейших сомнений и выжиданий. Два павлиньих пера на своем тюрбане украсил крупными рубинами, опять-таки подчеркивая, что не разделяет вкусов своего отца. Селимов изумруд был положен в сокровищницу султанского серая. Держался Сулейман холодно, был молчалив, словно бы равнодушный или сонный. Колебался или чего-то выжидал? Провинции беспредельной его империи склонились перед новым султаном. Лишь сирийский наместник Джамберди Газали поднял бунт и провозгласил себя султаном. Газали, прозванный Славянином, оказал помощь покойному Селиму во время похода на Египет. Тогда он переметнулся от мамелюков к Османам, теперь же поднял восстание против нового султана с намерением сбросить с Сирии османское иго. Начал с того, что перебил в Дамаске пять тысяч янычар, потом с пятнадцатью тысячами всадников и тысячью аркебузников пошел на Стамбул. Неопытный в военном деле Сулейман растерялся и даже струсил. Вынужден был послать против Газали своего зятя Ферхад-пашу, хотя, по обычаю своих предков, должен был сам повести войско, чтобы покарать изменника. Ферхад-паша в конце января 1521 года разбил Газали под Дамаском. Бунтовщик, переодетый дервишем, попытался бежать, но был пойман, приведен к султанскому сераскеру[37]37
С е р а с к е р – главнокомандующий.
[Закрыть], где его уже ждал карающий меч. Ферхад-паша привез Сулейману голову Джамберди Газали, и радость нового султана была так велика, что он сразу решил было послать эту голову, как подтверждение своего непоколебимого могущества, в дар венецианскому дожу Лоредано. Баило Пресветлой Республики в Царьграде Марко Мини насилу отговорил молодого султана от столь варварского поступка. Сулейман спохватился и после того замкнулся в себе еще больше. Знал: мир следит за каждым его жестом, прислушивается к каждому слову, слетавшему с его уст. В этом радость, но и ужас власти.
Все же постепенно привыкал к власти. Не позволял между тем себе никаких излишеств, никакой пышности. Советовался с визирями, ходил в мечеть, время от времени упражнялся в стрельбе из лука, почти ежедневно бывал в султанских конюшнях – эту привычку приобрел еще в юности. Еще в Крыму научился сноровисто подковывать коней, любил зайти в конюшню и заработать аспру, которая, как сам говорил, «не загрязнена была потом и кровью райи[38]38
Р а й я – христианское, феодально зависимое население в Турецкой империи.
[Закрыть]». Из придворных ближе всех допускал к себе Ибрагима, почитал великого визиря Пири Мехмед-пащу, своего воспитателя Касим-пашу и летописца, мудрого Кемаль-пашу-заде. Его характера до конца, пожалуй, не знал никто, даже самый приближенный к нему Ибрагим; на вопрос Грити, как относится султан к женщинам, Ибрагим лишь пожал плечами.
– Не могу сказать. Пожалуй, он равнодушен к ним. Он не пренебрегает гаремом, но и не поддается чарам своих рабынь. Кажется, валиде Хафса была этим весьма обеспокоена, побаиваясь, чтобы сын не пошел в своего отца и не порвал с женским миром насовсем. По матери она черкешенка, поэтому вознамерилась разбудить в сыне мужчину, подыскав для него достойную жену из своего племени. Женщине почти всегда удается добиться задуманного. Последние три года Сулейман постепенно становился рабом гарема. Ибо там появилась Махидевран.
– Я слышал это имя, – поглаживая бороду, сказал Грити с видом человека, для которого не существует тайн. – Слышал еще тогда, когда она была в Манисе. Я купец, а купец должен покупать также и вести обо всем, что происходит вокруг. Особенно вести высокие. О Махидевран могут заговорить повсюду еще больше, чем о самом Сулеймане. Не так ли, Ибрагим?
Ибрагим молча усмехнулся. В глубине души считая себя умнейшим из людей, с которыми он сталкивался, он не любил провидцев, а еще знал наверное: купить можно действительно все, даже наибольшие тайны, но купить знание грядущего еще никому не удавалось и не удастся никогда.
– Посмотрим, – уклончиво ответил он. – Сулейман только что сел на престоле Османов.
– Но ведь вы знаете султана как никто! – воскликнул Грити.
– Я не знаю даже собственных снов, – жестко ответил грек и повторил: – Даже собственных снов.
МАХИДЕВРАН
Пожалуй, знала до конца своего сына лишь валиде Хафса. Знание это досталось ей горько. Посвятила Сулейману всю жизнь, потемнела устами от многолетнего презрения, которое претерпевала от султана Селима, заведшего, по примеру деда своего Мехмеда Фатиха, целый гарем из миловидных юношей, отдала все силы души на служение единственному сыну, выстраивала здание его жизни упорно и заботливо. Не было обычной любви между матерью и сыном, объединяла их неизбежность, может, страх или даже ненависть, но разъединиться уже не могли: слишком боялись друг друга, слишком много лежало между ними тайн, которых не должен был знать мир.
Женщины не относились к тайнам, недоступными тоже не были для султанского внука, а впоследствии сына. Как только у Сулеймана начали пробиваться усы, он получил свой гарем, не пошевелив ради этого и пальцем. Сказано же: «…женитесь на тех, что приятны вам, женщинах – двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то – на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы».
Смолоду приученный к распутству, Сулейман, однако, не бросился в него алчно и исступленно, но и не пренебрегал женщинами, как его отец. Он мечтал и тосковал о переживаниях более чистых, утонченных и благородных; надоедливых, тупых женщин-девочек, роскошных глупых одалисок было у него предостаточно, хотел теперь рядом с собой видеть женщину красивую и гордую, привлекательную и мудрую не только одним телом, но и сердцем, женщину, которая могла бы понять его и быть равной ему всюду и всюду сделать счастливым: за трапезой и в беседе, в постели и в державных делах, которые были предначертаны ему в будущем неминуемо.
Искать такую женщину не мог и не умел. Султаны и их сыновья не ищут жен. Это делают за них другие. Часто все решает простой случай. Валиде Хафса не могла полагаться на случай. Помог ей, как это ни невероятно, сам султан Селим. В неудержимой жажде завоевательства он замахнулся на землю, размерами равную его империи, а богатством и могуществом намного ее превышавшую, – на Египет. В Египте вот уже чуть ли не целых сто лет господствовали мамелюки из родного Хафсе племени черкесов. Прежние бедные наемники-воины с далекого Кавказа захватили власть в этой великой державе и распространили ее на все близлежащие земли со святынями мусульманскими и христианскими – Меккой и Иерусалимом. Селим, раззадоренный легкой победой над персидским шахом, повел своих янычар на мамелюцкого султана Кансуха ал-Гурия. Перед боем под Халебом султан сказал своим воинам: «Если нам суждено погибнуть, – наше царство небесное; если же победим врага, нашим будет царство земное». Преданный наместником Халеба Хаир-бегом, восьмидесятилетний султан Кансух ал-Гурия был разгромлен под Халебом, а нового мамелюцкого султана Туман-бея предал его воевода Джамберди Газали. Селим щедро вознаградил предателей: Хаир-бега посадил наместником в Египте, а Джамберди Газали – в Дамаске, отдав ему всю Сирию. Селимов великий визирь Юнус-паша сказал султану: «Половина исламского войска погибла в боях и осталась в песчаных пустынях, и единственная польза от этого та, что Египет перешел во власть своих предателей». Селим велел задушить визиря за такие слова. Воспользовалась же разгромом мамелюцких султанов Египта совершенно неожиданно валиде Хафса. Как только она узнала о первой победе Селима под Халебом и о смерти Кансуха ал-Гурия, немедленно снарядила своих доверенных гонцов на далекий Кавказ, к своему племени, и велела передать старшинам: «Чего вы еще ждете в своих горах? Всемогущественный султан побил черкесских мамелюков, вскорости придет со своим исламским войском и на Кавказ. Шлите его сыну лучшую из своих девушек, так же непревзойденную красотой и достоинствами, как непревзойдена сила султанского войска».
Гонцы ездили долго, поскольку дорога из Манисы далекая, тяжелая и полна опасностей: пустыни, горные цепи, бурное море и еще горы, чужие, суровые, дико-неприступные. Как отыскать там маленькое племя черкесов, как до него доступиться и приступиться? Когда же вернулись, были с ними три брата-черкеса, привезшие завернутый в огромную мохнатую бурку живой дар. Духом далеких ветров, ночных костров, крепкой конской силы било от братьев и от того спрятанного в черной бурке дара, и валиде, хотя никогда не знала духа черкесского племени, хищно раздула ноздри – в женщине голос крови звучит и на расстоянии поколений.
Где та Маниса и что Маниса, а вот ведь донесся из нее голос султанской жены до неприступного каменного Кавказа, услышали его благородные черкесы, и хоть никому никогда не покорялись, столетиями вели жизнь дикую и кровавую, но услышали в этом голосе нечто, может, и близкое, мгновенно откликнулись и послали неведомому шах-заде, сидевшему в еще более неведомой Манисе, драгоценнейшую жемчужину своего племени.
Только один большой черный глаз увидела валиде Хафса в косматости бурки – скользнул по ней с холодным равнодушием, а ее ударило в самое сердце тем взглядом, почувствовала, как проснулась в ней кровь диких предков, вскипела и заиграла, как в танце кафенир, во время которого черкесы делают признания в любви единственно дозволенным у них способом стрельбой перед избранницей.
Братья, гортанно перекликаясь, ловко размотали бурку, вытряхнули из нее одетую в узкий шелковый бешмет глазастую тоненькую черкешенку, такую нежную, как лепесток розы, зацветающей по весне, когда еще не вялит и не обжигает зной, и валиде, хоть и была приучена к жестокой османской сдержанности, не удержалась, воскликнула:
– Гюльбахар!
Гюльбахар означало – весенняя роза. Может, женщин всегда следовало бы называть именами цветов, но эту девушку иначе никто бы и не назвал. Так и стала она с той первой минуты Весенней Розой – Гюльбахар.
Не дожидаясь, пока девушку вымоют и натрут благовониями, чтобы прогнать с нее дух просторов, принесенный из длительного путешествия, оденут в гаремные шелка и научат хотя бы турецкому приветствию, валиде показала Гюльбахар Сулейману. Побаивалась, что девушка смутится, растеряется и покажется ее ученому сыну слишком дикой, но смутился и растерялся Сулейман – так гордо повела себя с ним юная черкешенка, так холодно взглянула на него своими умными большими глазами, на дне которых залегла незамутненная, но уже неистовая чувственность.
У Гюльбахар не было выбора. Была привезена сюда для утех этому высокому понурому султанскому сыну, ею гордое ее племя кланялось будущему султану, была брошена в бурную горную речку в надежде, что выберется на берег без чьей-либо помощи, послана в пасть львенку с верой в то, что не даст себя проглотить, а станет такой же хищной львицей, должна была повести себя здесь с достоинством, не чувствуя себя жертвой, поразить своего повелителя не одной лишь красотой и нетронутостью, но и врожденным умом, богатством души, которого если и не имела достаточно, то должна была обрести быстро, умело и незаметно. Знала для этого единственный способ: гордость, прикрываясь которой можно достичь всего на свете.
Она стала султаншей прежде, чем Сулейман султаном. Такая царственная походка была у нее, такой взгляд, голос. Валиде едва сдерживала дрожь, пронзавшую все ее тело. Кровь ее предков, ее собственная кровь пробудилась в этой гибкой девушке, в ее бархатных очах, в острых, твердых персях, в крепких бедрах, в розовых пальчиках смуглых ног, которые черкешенка с удовольствием показывала всем в гареме, расхаживая босиком, в широких шелковых шароварах и в длинных прозрачных сорочках с широкими рукавами. Смуглое тело проглядывало сквозь тонкую ткань черкесской сорочки так сладко, что Сулейман напрочь забыл о своей сдержанности и настороженности ко всему, что так или иначе посягало на его собственную свободу, он не мог оторваться от Гюльбахар, забыл даже о своем любимце Ибрагиме, о ночных бдениях с мудрыми знатоками законов и сладкоречивыми поэтами, об охоте и конных скачках, о стрельбе из лука и подковывании коней.
Женщина, присланная для любви, должна любить. А если любит горячо и верно, должна рожать сыновей. Каждая одалиска хотела бы родить сына для шах-заде, чтобы самой стать законной женой – кадуной, а там и султаншей. Но семя Османов падает лишь в избранное лоно! Чего не смогли рабыни-одалиски, то совершила вольная черкешенка. За год родила Сулейману сына Мехмеда, потом еще одного сына, названного Мустафой, затем третьего Мурада. После второго ребенка из тоненькой, хрупкой, почти прозрачной девушки Гюльбахар неожиданно превратилась в полную, округлую, мягкую гаремную любимицу, но не утратила очарования для Сулеймана, продолжала рожать ему детей, и когда, уже будучи султаном, нетерпеливо ждал из Манисы свой гарем в столицу, она была в близком ожидании четвертого ребенка – и это за неполных четыре года!
И теперь почти никто не вспоминал ее нежного имени Гюльбахар, а называли по-новому, соответственно положению, которое заняла при дворе, Махидевран, то есть Госпожа Века.
Прибыла в Стамбул полновластной султаншей, уже не было у нее в памяти ничего о далеком своем и, собственно, нищем роде, ибо дала начало пышному роду султанскому, не знала она, что может значить ум для нее, ибо могла заменить его всемогущественной державой; не заботилась о душе, имея безраздельную власть; была чужда милосердию, озабочена только раздачей повелений. Ходила по гарему низенькая, толстая, почти квадратная, увешанная драгоценностями, вся в золоте и самоцветах, бугрившихся на ее округлостях, точно острые камни на утоптанной горной дороге. Походка ее была царственной. Незаметно отдавала служанкам самые неожиданные повеления: подать чашу с напитком, поправить одежду, подложить подушку под ноги, погладить волосы, почесать за ухом, ласково пощекотать пятки.
И это должна была увидеть Настася, которая была приведена сюда ночью, черными, как ночь, евнухами, – они затолкали ее в какую-то длинную и неприветливую комнату, где вповалку спало с десяток, а то и больше растрепанных и злых (это проявилось утром) гаремных наложниц, а теперь выпустили в общие покои, где лениво слонялись молодые, небрежно одетые одалиски и где уже с утра царила эта толстая султанша. Если бы Настася не увидела Махидевран собственными глазами, она бы никогда не поверила, что на свете может существовать такая женщина. Но, удивившись и даже испугавшись поначалу, Настася, какой несчастной и униженной ни чувствовала она себя в то утро, дерзко поклялась в душе: «Научусь еще получше!»
Одалиска-сербиянка сказала Настасе, что у Махидевран здесь семьдесят служанок.
– А у меня будет сто семьдесят, а то и больше! – засмеялась Настася.
Махидевран мгновенно отметила этот не свойственный гарему смех, но не поинтересовалась новой рабыней. Да и зачем? Разве выпросить ее у валиде для самых унизительных прислуживаний? Но даже этого не позволила себе Махидевран. Ибо заметить – значит унизить себя, свою султанскую гордость, которая не имела ничего общего с прежней гордостью девушки из дикого горного племени, а стала высокомерием и важностью.
Так бедной Настасе суждено было столкнуться с чванливой черкешенкой, прежде чем увидела она повелительницу гарема валиде Хафсу и высочайшего властителя всех этих заблудших душ – султана Сулеймана. Пока не видела их, не верила до конца в то, что с нею случилось. Чванливая Махидевран даже развеселила девушку, и Настася еще долго, не в силах сдержаться, смеялась при воспоминании о черкешенке, и удивленные одалиски, ждавшие от новенькой вздохов, слез и отчаянья, а не веселья, назвали ее уже в тот первый день Хуррем – веселая, смеющаяся.
С этим именем она должна была вскоре предстать перед всемогущей валиде. Слово Хуррем еще не предвещало беды никому: ни валиде Хафсе, ни султанским сестрам, ни жилистому старшему евнуху, чернокожему кизляр-аге, ни всемогущественной Махидевран. А между тем скрывалась в нем угроза, как во всем необычном, ибо необычное ломает установленный порядок, а это неизбежно влечет за собой несчастья для кого-то, особенно для женщин, которые всю свою жизнь тратят на отчаяннейшие усилия навести хоть какой-то порядок в той смеси хаоса и случайностей, из которых и состоит, в сущности, жизнь, если на нее взглянуть глазом непредвзятым и немужским.
ХУРРЕМ
Только попав за двойные, окованные железом двери султанского гарема, поняла Настася, какую возможность она потеряла на море, поняла и пожалела. Броситься бы с кадриги в разбушевавшиеся воды, понесло бы да понесло ее, как щепку, как того дельфинчика, подстреленного безжалостным Синам-агой, и не было бы ни позора, ни мук, ни неволи. Вспоминалась Марунька Толодова из Рогатина, обесчещенная гусаром. Зимой пропала, не могли найти, а по весне, когда взломало лед на пруду у мельницы Подгородского, всплыла она в водяной пене, и долго еще Настасе становилось жутко от одного воспоминания про Маруньку, слишком болела душа, когда думала, как страшно было Маруньке бросаться в прорубь, как рвалась, наверное, из-подо льда и умирала, задыхаясь, – ни крика, ни жалобы, ни последнего рыдания. А теперь, может, и завидовала Маруньке!
Брошена была ночью за двойные, окованные железом двери, гремели тяжелые засовы на тех дверях. Будто в церковной ризнице или в богатых подвалах на Рогатинском рынке. Заснула только под утро на часок, попробовала побродить по дебрям гарема и ужаснулась. Целый мир! Запутанный, бесконечный, разделенный, монотонный и страшный в своей безвыходности. Длиннющий мабейн – коридор, освещенный окнами с крыши, по обе стороны множество комнат, в одной из которых ночевала и она вместе с десятком таких же девушек. Дальше – помещение для служанок. Может, и она служанка, кто ж это знает? Гарем расползался не только по земле – он поднимался и выше, к султанским покоям, к покоям валиде и султанских жен и любимиц, евнухи не пускали туда никого постороннего, но Настася проскользнула вслед за водоносами – и там увидела уже в первое свое гаремное утро Махидевран, ужаснулась ее власти, сердце сжалось еще сильнее от отчаяния, но в то же время душа ее встрепенулась и захотелось жить, как никогда!
Ее повели купаться, какие-то престарелые ведьмы ощупывали каждую ее косточку, выщипывали каждый волосок на теле, она плескалась в теплой воде, брызгала на ведьм, они бормотали что-то по-турецки и немножко по-славянски, – в гареме смешались языки турецкий и славянский, тут сошлись два мира, враждебных, чужих, непримиримых, но нужно было находить взаимопонимание хотя бы словами, ибо приходилось жить даже в ненависти и безнадежности.
Настася плескалась в воде, напевала: «Ой, на горі ставочок, на ставочку млиночок, а в млиночку млинярка, мала ж вона три доньки. Одну дала до татар, другу дала до турок, третю дала до волох. Котру дала до татар, то тій дала весь товар, котру дала до турок, то тій дала сто курок, котру дала до волох, то тій дала сито блох». Может, когда уже нет не только собственной сорочки на теле, но и надежд, то тогда ты беззаботнейший человек на свете. В детстве часто сдуру хотела умереть от малейшей обиды. Теперь, когда у нее не было ничего, даже самой возможности жить, жить неистово хотелось. Все люди, пожалуй, живут тем, что ждут: что-то должно произойти, какое-то событие, какая-то перемена, перелом в жизни, счастье, чудо. И ради этого можно вытерпеть все: голод, холод, унижения, позор, бедность, несправедливость, тоску. А неволю?
Жирный евнух просунулся в купальню, остановился у дверей, пялил буркалы на голую Настасю в потоках воды, слушал ее припевочки – удивлялся или возмущался? Пусть!
Душа в ней умерла, тело живет, хочет жить. Утренняя заря встает где-то над лесами, звери выходят на водопой, на охоту, и она тоже зверь, тоже хищник кровожадный! Уничтожено все вокруг нее, уничтожено все в ней, а она – живая и невредимая! Это ли не чудо! И мир вокруг теплый, как эта вода, большой, цветистый, как те дивные гаремные покои наверху, все в золоте, в каменной резьбе и таинственной красоте. Не принимать ничего близко к сердцу, не ждать милосердия, жить как эти людоловы, разбойники, звери, хищники! Стерпеть все, пожертвовать всем, но только не телом! Нет тела – нет тебя.
Если бы ей сказал кто-нибудь в Рогатине, что ее продадут раз, и другой, и третий, она бы даже не смеялась. А теперь это случилось. Жила в неволе лишь несколько месяцев, а впереди не видно конца. Должна была привыкать к мысли, что иной жизни теперь ей никто не даст никогда и поэтому надо все свое отчаянье, всю свою гордость проявлять уже здесь, выказывать как можно более щедро, бороться, драться, толкаться, кусаться, грызться, чтобы прожить свой век хоть и в неизбежном унижении, зато и не без некоторых возмещений. Есть ли возмещение для свободы? Существует ли? И может ли существовать? Ограничена жизнь человеческая, и человек также ограничен. Только не многим суждено поломать и разрушить даже темницы, возвыситься над всеми и всем, проявить величие духа и устремиться в беспредельность свободы. Это великие люди. Но женщина неспособна на это. Настася не слышала о таких женщинах. Святые великомученицы? Они были жертвами, а она жертвой быть не хотела. Хоть и без надежды на освобождение, но надо жить. А на что надеяться? На случай? На чудо? На бога? На дьявола?
Надеялась только на себя, на свой легкий нрав, на добрую душу, которая должна теперь соединить в себе, может, и зло с добром. Неосознанно избрала своей защитой ясный смех, заприметив, что этим удивляет всех вокруг и как бы склоняет к себе даже самые мрачные сердца. Можно дразнить людей, бросать им злые слова, дышать ненавистью, а можно радовать, веселить сердца, надеясь на добро, ибо кто бросает злость, получает тоже злость, кто показывает слезы, в ответ увидит тоже слезы, а кто дарит смех, неминуемо услышит в ответ тоже смех, может, и скрытый, подавленный, загнанный в глубину души.
Евнух приблизился к Настасиной купели, одной рукой подбирая полы широкого халата, неуклюже уклоняясь от своевольных брызг воды, другой алчно потянулся к шее девушки, точно хотел удушить ее, – Настася испуганно отшатнулась, но черные сильные пальцы уже вцепились в золотую цепочку, на которой висел золотой крестик, дернули раз и другой, рвали цепочку вот-вот она не выдержит и рассыплется мелкими колечками, не соберешь!
– Не тронь! – крикнула Настася. – Ты его мне вешал?
Схватилась за крестик, как за свою душу. Выскочила из купели, тряхнула длинными красноватыми волосами, словно даже обожгла ими евнуха, тот попятился, забыв про крестик, заботясь лишь о том, чтобы не замочить свои расшитые золотом сафьянцы.
– Живо одевайся, тебя ждет ее величество валиде! – пропищал тонко.
Когда Настася увидела валиде Хафсу, ее потемневшие губы и жутко бледное лицо, поняла, что есть люди, которые никогда не смеются.
Валиде сидела на толстом белом ковре, обложенная парчовыми подушками, вся в темном, как и ее губы, жесткая и немилосердная. Настася огляделась в большом покое. Высокие окна с деревянными решетками – кафесами – внизу, над ними еще один ряд окон, полукруглых, с разноцветными стеклами, на которых змеи и червячки чужих букв, наверное, стихи из их Корана. Ужасная роспись стен в холодных, как глаза валиде, красках. Множество низеньких столиков, шкафчиков, подставочек, все угловатое, восьмигранное, украшенное слоновой костью, перламутром, панцирем черепахи, серебром. Сделано было из дерева, было когда-то деревом, живым, растущим. Как ему было больно, когда калечили его тело, из округлостей вытесывали эти шероховатые восьмиугольники, врезали в живую плоть мертвые куски кости, панциря и холодного металла. Цвело, зеленело, шумело, а теперь мертвое, как эта окаменелая в своей неприступности султанская мать. А может, и она несчастная, как все здесь вокруг?
После купели Настася чувствовала себя как бы вновь рожденной. «Омываетесь и очищаетесь в купели, в ее светлых водах…» Не могла вспомнить, как оно там дальше. Разве что из Книги Иова: «Зачем дан свет человеку, коего путь закрыт и коего бог окружил тьмой». Лучше не вспоминать ничего и ни о чем. Забыть бы обо всем и радоваться жизни! Но как ты забудешь, очутившись перед этой каменной молчаливой женщиной с устами, точно из старого мертвого дерева…
Валиде указала Настасе, чтобы та села возле одного из столиков. Здесь повсюду господствовал язык знаков, язык презрения и угроз. Но что поделаешь? Настася свернулась в клубочек на ковре. Ей было холодно после купанья. Хотя бы спросила эта женщина, не замерзла ли она. Мерзнут ли они сами когда-нибудь? Или так и снуют по тем длиннющим полутемным переходам то босиком, то чуть ли не голыми? На столике халва, обсыпанная сахаром, какие-то словно бы вяленые фрукты, длинношеий медный графин, низенькие широкие чашки. Тошнило от одного взгляда на эти неживые лакомства. Утром тоже не могла ничего съесть, только выпила воды. Настася устраивалась поудобнее, улыбнулась не то болезненно, не то горько.
– Мне сказали, что тебя зовут Хуррем? – быстро проговорила валиде.
– Разве я знаю?
– Ты любишь смеяться?
Настася пожала плечами. Кто же не любит?
– Правда, что ты королевская дочь?
Никакая женщина не может побороть любопытства, которое сидит в ней испокон века.
Ни подтверждения, ни отрицания. Смех почти издевательский. Отец звал ее королевной. А она – себя. Разве запрещено? Единственное утешение побыть королевной хотя бы В МЫСЛЯХ. Что еще ей оставалось? К тому же тут так холодно. Боже, как она замерзла! Чтобы не стучать зубами, разве что смеяться. Единственное спасение. Султанская мать вся в теплых мехах, она может сидеть тут сколько ей захочется, а Настасю тянет к печке. Прижаться спиной к теплому, выгнуться, потянуться.
Валиде не замечала чужих переживаний. Знала только собственные обиды. Смех нахальной девчонки оскорбил ее. Она сказала пренебрежительно:
– Смех – вещь недостойная человека. Это низшая ступень человеческой души. Он идет от дикого своеволия, а не от бога. Аллах не смеется никогда. Ты знаешь об этом?
Настася снова пожала плечами. Засмеялась с вызовом. Разве она знает? Тут никогда не смеется их аллах, у нее дома бог тоже суровый, окружил себя великомучениками, не смеется никогда. Отец поучал, что смех от ада, а не от рая. А в раю – постное блаженство. Глаза под лоб, голова закинутая, рот раскрыт – от восторга или чтобы вскочила в него благодать? А ей теперь все безразлично. Благодати не дождется ниоткуда. Единственное, что осталось ей человеческого, – это смех.
Странная женщина вдруг неожиданно сказала:
– Смеешься – это хорошо. Имя дали тебе хорошее. Будешь здесь Хуррем.
Помолчала, внимательно изучая Настасю взглядом (какая же она Хуррем!), потом велела:
– Должна изучить языки. Турецкий и арабский.
Настася тряхнула волосами. Что там учиться! Разве ее этим испугаешь? Язык приходит сам по себе, незаметно, как дыхание. В Рогатине, когда шла к пекарю-караиму Чобанику, должна была говорить с ним по-караимски, с резниками Гесемом Шулимовичем и Мошком Бережанским хорошо было перекинуться словом по-еврейски, с сапожниками братьями Лукасянами по-армянски, викарий Скарбский учил ее латыни и немецкому, а польский знала и без того: полек-подруг было у нее больше, чем украинок-русинок. Разве испугается она какого-либо языка? Выучит – никто и не опомнится. А даст ли ей хоть какой-то язык утраченную волю, сможет ли вернуть ее?
– Умеешь петь и танцевать? – спросила валиде.
Спросила бы об этом сразу, чтобы не пропадать ей тут от холодища, не гнуться и не ежиться на полу. Вскочила на ноги, закружилась на ковре, напевая звонкую веснянку. А за окнами была мглистая зима, хотя деревья и зеленели вечной и от этого словно бы мертвой зеленью, и валиде тоже сидела под темной стеной, с темными губами, вся в темных мехах, как зима, женщина без весен, отныне и навеки!
– Подойди ко мне ближе, девочка, – позвала она, позвала голосом, глазами, кивком пальца, унизанного перстнями с крупными самоцветами.
Настася подошла, остановилась, грудь ее вздымалась высоко, рвала тесные шелка, волосы золотыми волнами лились книзу, освещая живым блеском мрачный покой. Султанская мать рассматривала Настасю долго, внимательно и медленно.
– Гм. Дивные волосы, – молвила как бы себе самой. – Но ничего помимо них. Что ты умеешь?.. Ах, не все понимаешь? Умеешь хотя бы покачивать бедрами? Догадываешься, что разглядываю тебя для самого падишаха? Каждая юная красавица должна придавать блеск яркому свету его радостей. Ты не красавица, но у тебя особенное тело. Твоя нежная плоть, как удлиненное озеро наслаждения, должна согреть его усталость и наполнить душу горячей струей радости.
Валиде говорила скороговоркой, выталкивала из себя слова целыми охапками, так что если бы Настася и понимала по-турецки, то и тогда бы не разобрала всего. Уловила несколько уже знакомых слов, стало ей смешно, не утерпела, засмеялась над странным разговором немой с глухой.
Валиде хлопнула в ладоши, и в покое, неведомо откуда взявшийся, появился черный кизляр-ага, знакомый Настасе с ночи. Звериная ловкость и вкрадчивость были в его мощном теле, а в лице под белыми складками тюрбана что-то молящее, словно бы даже собачье. Лишь впоследствии Настася постигла, что это глаза. Не узнавала их, пока они предупредительно ловили каждое движение валиде, когда же остановились на ней, уставились на нее, прилипли, приклеились жестоко и неотступно, узнала вмиг и чуть не вскрикнула от неожиданности. Глаза Стамбула, настороженные, недоверчивые, подозрительные, острые. Глаза выслеживания, преследования, глаза неволи. От них не спрячешься, не освободишься, не убежишь, не спасешься, наверное, и в смерти.
– Пусть натрут ее тело маслом герани, мускусом и амброй, чтобы прогнать из него дикий дух степей, – сказала валиде (а Настасе хотелось закричать: «Лещины дух! Зеленых листьев и трав!») – Чтобы оно было как сад, в котором щебечут птицы блаженства, из которого нет сил выйти. Нужно также позаботиться, – спокойно наставляла кизляр-агу валиде, – чтобы Хуррем предстала перед падишахом в искусном пении и танце, не допуская варварской нечестивости.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































