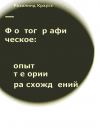Текст книги "На пике века. Исповедь одержимой искусством"

Автор книги: Пегги Гуггенхайм
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Все это оставило во мне такой болезненный след, что с тех пор я старательно избегала Центрального парка. Я обходила его стороной, даже когда вернулась в Нью-Йорк в начале 1940-х. И все же одним жарким летним вечером Альфред Барр привел меня туда. Я пыталась обнаружить призраки своего детства, но все переменилось. Верным моим воспоминаниям остался только Рэмбл с его древним замком.
Мало того что мое детство было до крайности одиноким и тоскливым; в нем мне пришлось пережить множество испытаний. У меня была нянька, которая грозилась отрезать мне язык, если я расскажу матери, какие она говорила мне гадости. От отчаяния и страха я все же на нее нажаловалась, после чего нянька была немедленно уволена. Я была слабым ребенком, и родители постоянно пеклись о моем здоровье. Они воображали у меня всевозможные болезни и без конца водили по врачам. В какой-то период моей жизни, когда мне было около десяти, они решили, что у меня некое пищеварительное расстройство, и нашли врача, который назначил мне кишечные орошения. Выполнять их поручили няне Хейзел, которая едва ли обладала нужной квалификацией для проведения этой процедуры, что в результате привело к катастрофе. Со мной случился острый приступ аппендицита; меня пришлось срочно везти в больницу и оперировать. Несколько дней мне ничего не говорили об операции, потому что считали, что я для этого слишком маленькая. Но я не верила их выдумкам и не сомневалась, что живот мне-таки разрезали.
Вскоре после этого моя сестра Бенита подхватила коклюш и меня пришлось изолировать, чтобы я, не дай Бог, не заразилась и свежий шов на громадном разрезе не разошелся от кашля. Мама сняла дом в Лейквуде, Нью-Джерси, и уехала туда с Бенитой, а меня поселили в отеле с медсестрой. Надо ли говорить, как одиноко мне было той зимой – мне только иногда позволяли издалека переговариваться с Бенитой на улице. У моей матери было несколько племянниц на выданье, и она постоянно устраивала для них приемы, запирая Бениту в другом крыле дома. Бенита в результате очень загрустила. Меня, по всей видимости, считали не по годам развитой и испорченной, раз позволяли навещать мать и развлекать ее гостей. Я влюбилась в одного из них. Его звали Макс Россбах, и он учил меня играть в бильярд.
Еще через какое-то время со мной произошел несчастный случай, пока я каталась на лошади в Центральном парке. Там мальчишки катались на роликовых коньках по мосту, и когда я проезжала под ним, от грохота лошадь испугалась и понесла. Моя учительница верховой езды оказалась не в состоянии удержать зверя. Я выпала из седла и свалилась на землю, после чего лошадь еще долгое время волокла меня за собой. Нога у меня застряла в стремени, а юбка зацепилась за луку. Если б я не сидела боком, этого бы не случилось. Я не только повредила ногу, но и сильно ударилась лицом. Я сломала челюсть в двух местах и потеряла передний зуб. Потом этот зуб нашел в грязи полисмен и прислал мне его в письме, а на следующий день дантист его продезинфицировал и вставил обратно. На этом мои беды не закончились – мне нужно было вправить челюсть. Во время операции хирурги разругались между собой в пух и прах. В конце концов один из них одержал верх и вдолбил мою несчастную челюсть на место. Поверженный дантист, по фамилии Буксбаум, никогда не забыл той обиды. Он считал, что у него на мою челюсть особое право, раз он годами правил мне зубы. Я же была только рада тому, что на этом мучительное восстановление моей внешности подошло к концу. Поначалу сохранялся риск заражения крови. Когда эта опасность миновала, единственное, чего мне нужно было опасаться, это ударов по лицу, от которых мой еще не прижившийся зуб мог снова выпасть. В те дни моими единственными противниками были теннисные мячи, и на время игры я придумала себе способ защиты: привязывать на рот чайное ситечко. Все, кто меня видел, должно быть, думали, что у меня гидрофобия. Когда я полностью оправилась, отец получил счет на семь с половиной тысяч долларов от дантиста, который так и не признал своего поражения. Отцу неохотно пришлось убедить этого джентльмена принять две тысячи.
При всех стараниях, которых мне стоило сохранить зуб, я знала, что он останется со мной в лучшем случае на десять лет, а потом его корень полностью рассосется и зуб придется заменять фарфоровым. Мне удалось предугадать время его жизни с точностью практически до дня. Через десять лет я записалась на прием к врачу, чтобы заменить зуб, пока он не выпал – что он и сделал за два дня до приема.
Одним из моих сильнейших увлечений был актер Уильям Джилетт. Я ходила на все его дневные спектакли и во время пьесы «Тайная служба» буквально каждый раз кричала ему, что в него сейчас будут стрелять.
После происшествия, как только мне позволили, я снова стала заниматься верховой ездой, но на этот раз не рисковала. Я не только пошла к учителю-мужчине, но и стала сидеть в седле по-мужски. В четырнадцать я влюбилась в своего тренера. Он был очаровательным ирландцем и флиртовал со всеми ученицами.
Бенита в детстве была моей единственной спутницей, и потому я глубоко к ней привязалась. Нас всегда сопровождали француженки-гувернантки, но они так часто менялись, что я ни одной толком не запомнила. Хейзел, будучи сильно младше, имела свою няньку и жила несколько отдельной от нас жизнью. Свою мать в те годы я совсем не помню.
Когда мне было пять или шесть, отец начал заводить любовниц. В нашем доме жила медсестра, которая делала ему массаж головы – он мучился невралгией. Со слов моей матери, эта массажистка стала корнем всех бед в ее жизни и каким-то образом дурно повлияла на отца, хоть сама и не была его пассией. Матери потребовались годы, чтобы избавиться от ее отравляющего присутствия в кругу семьи, поскольку отец крайне нуждался в ее массажах. В конце концов она ушла, но было слишком поздно. С того времени отец сменил целую череду любовниц. Маму чрезвычайно оскорбило, что мои тетки продолжили поддерживать отношения с той медсестрой, и долго враждовала с ними из-за их дружбы. Все это сказалось на моем детстве. Я постоянно оказывалась втянута в дрязги моих родителей и оттого рано повзрослела.
Отец всегда называл меня Мегги; Пегги я стала сильно позже. Он заказывал для нас прелестную бижутерию по собственным рисункам. Однажды он в честь моего имени – Маргарет – презентовал мне маленький браслет, похожий на венок из маргариток, из жемчуга и бриллиантов. Мать получала от него более солидные подарки, в том числе великолепную нить жемчуга.
Я обожала отца, потому что он был красив и обаятелен и еще потому что он любил меня. Но я страдала оттого, что он делал мою мать несчастной, и порой ссорилась с ним из-за этого. Каждое лето он возил нас в Европу. Мы побывали в Париже и Лондоне, где мама навестила сотни французских и английских Селигманов. Еще мы ездили на модные курорты. Моя мать очень скупилась на чаевые, и я помню, как однажды, к моему ужасному стыду, я обнаружила на наших чемоданах нарисованные мелом кресты. Когда мы уезжали из Трувиля, швейцары пометили их так в предостережение для носильщиков следующего отеля – наших будущих жертв.
Отец нанял особу по имени миссис Хартман обучать нас искусству. Мы взяли ее с собой в Европу, где ее обязанностью было культурно нас просвещать. С ней мы посетили Лувр, музей Карнавале и замки Луары. Она учила нас истории Франции и познакомила с Диккенсом, Теккереем, Скоттом и Джорджем Элиотом. Еще она дала нам полный курс по операм Вагнера. Несомненно, миссис Хартман сделала все, чтобы стимулировать наше воображение, но лично меня в то время больше занимали другие вещи. Например, я сходила с ума по папиному другу Руди. Сейчас не могу себе представить, чем этот типичный повеса меня очаровал. Но тогда я безумно влюбилась и писала пылкие письма о своей страсти, где говорила, что мое тело распято на кресте из огня. Когда Руди женился на одной из моих кузин, которую мама пригласила с нами в Европу и чей плачевный брак, по моим опасениям, организовали они с папой, я рыдала горькими слезами и не могла простить такого предательства. Я причитала, что он не имел права играть чувствами двух женщин одновременно. Мне тогда было примерно одиннадцать.
Помимо сердечных метаний у меня в жизни было и более приземленное хобби – я собирала изящных куколок из воска и одевала их по последней моде, самостоятельно придумывая и делая для них наряды. Меня вдохновило на это лето в Трувиле, где нас окружали шикарно одетые леди и куртизанки.
Однажды, когда мы с Бенитой и нашей гувернанткой пили чай в кафе «Румпельмейер» в Париже, мое внимание привлекла женщина за соседним столиком. Я не могла оторвать от нее глаз. Мы, похоже, вызвали у нее такую же реакцию. Спустя много месяцев я допытывалась у гувернантки, кто же любовница моего отца, и в конце концов она ответила: «Ты ее знаешь». У меня перед глазами сразу же вспыхнуло лицо женщины из «Румпельмейера», и гувернантка подтвердила мою догадку.
Та женщина оказалась графиней Таверни. Она не была ни красива, ни молода. Я никогда не могла понять, чем она так страстно увлекла моего отца. Однако в ней ощущалась та же притягательность (наверное, чувственная), что и в его массажистке. Она была смуглой и напоминала мартышку. У нее были некрасивые зубы – мать презрительно говорила, что они вовсе «черные». В Париже мы встречали ее повсюду и из-за этого оказывались в крайне неловких ситуациях. Как-то мама отправилась со мной и Бенитой в ателье портного Ленва и зашла в комнату, где уже сидела графиня Таверни. Мама тут же бросилась прочь, и мы последовали за ней. Персонал ателье отнесся к случаю с французским пониманием и выделил нам отдельный зал.
Графиня, как мы называли ее, или Г.Т., как кратко обращался к ней отец, одевалась в высшей степени элегантно. У нее был костюм, полностью сшитый из меха ягненка. Однажды во время утренней прогулки по парку на Авеню-дез-Акасья мы встретили графиню в этом самом костюме. Мать обрушилась на отца с упреками в излишней расточительности. В надежде задобрить ее, он дал ей денег, чтоб она сшила себе точно такой же костюм. Будучи предприимчивой женщиной, мать взяла деньги, но вместо этого вложила их в акции и облигации.
Графине Таверни предшествовала другая особа. Той женщине, которую я так ни разу и не видела, практически удалось женить на себе отца. Моя мать всерьез думала разводиться. Но все семейство Гуггенхаймов, группами и поодиночке, умоляло ее изменить свое решение. Поток посетителей в нашем доме не иссякал ни на минуту. Все они как один стремились во что бы то ни стало предотвратить катастрофу. В конце концов мама сдалась. Я не знаю, когда завершился их роман, но мне известно, что разочарованной любовнице достался богатый утешительный приз, и на протяжении многих лет она регулярно два раза в год получала часть моего дохода.
Графиня Таверни продержалась недолго, и за ней последовала молоденькая блондинка-певица. Она была с моим отцом, когда он утонул на «Титанике» в 1912 году, и оказалась в числе выживших, добравшихся до Нью-Йорка.
В 1911 году отец освободился от нас, насколько мог себе это позволить. Он оставил бизнес своих братьев и основал собственный в Париже. Несомненно, им двигало желание жить более привольной жизнью, но последствия этого поступка оказались куда более серьезными, чем он мог предположить. Расставшись с братьями и начав собственный бизнес, он лишился своей доли в колоссальном состоянии. У него была квартира в Париже, и он владел, частично или полностью, предприятием, которое построило лифты в Эйфелевой башне. Весной 1912 года он собирался наконец вернуться к нам после восьми месяцев отсутствия. Он забронировал себе место на борту парохода, но рейс отменили из-за забастовки кочегаров. По роковому стечению обстоятельств ему суждено было лишиться жизни: новый билет он купил на злосчастный «Титаник».
14 апреля на выходе из здания Метрополитен-оперы людей встречали крики «Экстренный выпуск!», возвещавшие о трагическом крушении гигантского лайнера в его первом же плавании. В надежде поставить рекорд по времени рейса Брюс Исмей, президент судоходной компании «Уайт Стар Лайн», лично присутствовавший на борту, и капитан корабля проигнорировали предупреждение об айсбергах и продолжили путь, невзирая на опасность. «Титаник» несся навстречу своей гибели. Первый же айсберг на его пути распорол ему днище. Корабль потонул за час, и его корма и нос ушли под воду одновременно, после того как его расколол пополам чудовищный взрыв. Спасательных шлюпок хватало только на четверть людей на борту. Кто умел плавать, замерз в ледяной воде еще до того, как на помощь поспел капитан Ростром на почтовом судне «Карпатия». Спаслось семьсот человек из двух тысяч восьмисот. Трагедия потрясла весь мир. Все ждали задержав дыхание, когда «Карпатия» достигнет берега и станет известно, кому же посчастливилось выжить. Мы отправили телеграмму капитану Рострому с вопросом, на борту ли наш отец. Он ответил: «Нет». По какой-то причине мне сообщили об этом, тогда как мать держали в неведении до последнего момента. Две мои кузины поехали встречать выживших. Они встретили его любовницу.
Вместе с отцом погиб очаровательный молодой египтянин, Виктор Джильо – его секретарь. Ему довелось пережить в прошлом непростые времена, и он был счастлив работать на отца, полагая, что теперь его беды остались позади. Я увлекалась этим юношей, но папа не одобрял моего пыла. Выживший стюард «Титаника» пришел передать нам от него последнее послание нашего отца. Он рассказал, что отец и его секретарь решили одеться в вечернее и встретить смерть, как подобает джентльменам, галантно уступив места в шлюпках женщинам и детям, – очевидно, что и произошло.
Тело моего отца не нашли, поэтому он не похоронен в Галифаксе с другими жертвами, чьи тела вынесло на берег. На борту «Титаника» погибли и многие другие известные личности, в том числе, Гарри Элкинс Уайденер, Джон Б. Тайер, Джон Джейкоб Астор, Эдгар Мейер и Исидор Штраус с женой, которая отказалась оставить супруга. В те дни, до Первой мировой войны и потопления «Лузитании», крушение «Титаника» считалось трагедией мирового масштаба. Разумеется, проводилось расследование, но капитан покончил с собой, а точнее, был достаточно порядочен, чтобы пойти на дно вместе со своим судном. С тех пор мы чурались компании «Уайт Стар Лайн» как чумы.
На момент смерти отца мы жили в отеле «Сент-Реджис», – дом мы сдавали одной из моих теток, – где занимали огромные апартаменты. В те дни отель «Сент-Реджис» был оплотом семейства Гуггенхаймов. Мой дядя Даниэль арендовал целый этаж под нами. Каждую пятницу там проходили семейные встречи, на которых дяди говорили о бизнесе, а тетки собирались в углу и обсуждали моду. Само собой, им всем было что сказать на этот счет, поскольку одевались они у лучших портных Нью-Йорка.
После смерти отца я ударилась в религию. Я регулярно ходила на службы в храм Эману-Эль и с особенной трепетной радостью поднималась во время кадиша (молитвы по умершим). Смерть отца оставила во мне глубокий след. Мне потребовались месяцы, чтобы справиться с мыслями о чудовищной трагедии «Титаника», и годы, чтобы смириться с потерей отца. В каком-то смысле мне так и не удалось смириться полностью, и я искала ему замену всю свою жизнь.
После смерти отца его дела остались в кошмарном беспорядке. Мало того что он потерял огромное состояние, разорвав партнерство со своими братьями, но и те деньги, которые у него были, порядка восьми миллионов долларов, он потерял в Париже. Те крохи, что от них остались, он вложил в акции, которые не приносили никакой прибыли и обладали такой низкой ценностью, что продать их не представлялось возможным. Однако моя мать об этом всем не знала и продолжала жить с прежним размахом. Мои дяди Гуггенхаймы галантно давали нам любые ссуды, продолжая держать нас в абсолютном неведении. В конце концов мать узнала правду и решительным образом покончила с этой иллюзией. Для начала она стала жить на собственные деньги. Мы переехали в более скромную квартиру и отказались от части прислуги. Она продала свои картины, гобелены и драгоценности. Она справлялась очень неплохо, и мы никогда не бедствовали, но с тех пор во мне поселился комплекс, что я больше не настоящая Гуггенхайм. Я чувствовала себя бедным родственником и испытывала ужасное унижение от мысли, что я неполноценный член семьи. Через четыре года после смерти отца умер мой дед Селигман, и от него матери досталось небольшое наследство. Им мы немедленно расплатились с братьями отца. Через семь лет мои дядья разделили отцовское имущество. Давая нам ссуды, они в результате добились того, что моим сестрам и мне досталось по четыреста пятьдесят тысяч долларов и чуть больше – моей матери. Половина моей доли перешла в доверительный фонд, и дяди убедили меня добровольно распорядиться так же и второй половиной.
Конечно же, мы носили траур. Я чувствовала себя очень важной и сознательной в черном. К моему облегчению, к лету нам позволили надевать белое. Мы поехали в Алленхерст на берегу Нью-Джерси, где летом отдыхало большинство наших знакомых еврейских семей. Точнее, не в самом Алленхерсте, а поблизости – в Дил-Бич, Элбероне и Вест-Энде, большую часть которых составляли дома еврейской буржуазии. Это было самое уродливое место на свете. На голом берегу не росло ни кустов, ни деревьев. Из цветов я помню только вьющиеся розы, настурции и гортензии, которые я с тех пор не выношу. У дедушки был семейный особняк в Вест-Энде, где родились все его дети, в том числе моя мать, младшая. И именно в этом жутком викторианском поместье во время Первой мировой войны мой дед умер в возрасте девяноста трех лет.
Моим дядям Гуггенхаймам принадлежали самые роскошные дома на побережье. Жена одного из них была родом из Эльзаса, и с ее французским вкусом они выстроили точную копию Малого Трианона в Версале. Другой дядя владел роскошной итальянской виллой с мраморными внутренними дворами в помпейском стиле, красивыми гротами и садами, утопленными ниже уровня земли. По сравнению с ними дом дедушки Селигмана обладал скромными достоинствами. Его оба этажа полностью окольцовывали две террасы. На этих террасах всюду стояли кресла-качалки, на которых целый день сидело и раскачивалось все семейство. Этот дом доходил до такого уродства в своем викторианском совершенстве, что не мог не завораживать. Довершали все это семейные портреты. Мою мать с ее двумя сестрами и пятью братьями в детстве написали в костюмах того времени, из черного бархата и с белыми кружевными воротниками. В руках они держали птиц, Библии или обручи. Все они на этих портретах выглядели очень сонными, чем безошибочно выдавали свое семитское происхождение.
Поскольку большую часть того побережья населяли евреи, оно почти превратилось в гетто. В Алленхерсте, антисемитском городе, напротив нашего дома стоял отель, куда не пускали евреев. Тем летом, к нашему большому удовольствию, он сгорел дотла; мы стояли поодаль и за этим наблюдали. На том ужасном берегу мы проводили каждое лето, что не ездили в Европу. Мы купались в неистовых волнах Атлантики, играли в теннис и ездили на лошадях. Тем не менее я предпочитала Европу, и на следующий 1913 год мы уговорили мать взять нас туда.
Когда в 1914 году началась война, мы снова были в Англии в гостях у одного из маминых кузенов, сэра Чарльза Селигмана. Я помню, как я возмутила его своим легкомысленным и экстравагантным аппетитом. Он волновался, что с приходом войны есть будет нечего, а я просила добавки говядины, чтобы прикончить остатки горчицы.
Глава 2. Девичество
Летом на шестнадцатом году жизни я впервые получила опыт сексуального характера. Впечатления от него у меня остались печальные и пугающие. Началось все с моей нежной влюбленности в Фредди Зингера, племянника владельцев компании по производству швейных машинок «Зингер». Мы жили в одном отеле в Аскоте. Его брат влюбился в Бениту, и мы все вместе танцевали, играли в теннис и прекрасно проводили время. Но после этого со мной произошел случай, который привил мне отторжение и страх к физической близости. Я гостила у одной из своих двоюродных теток в Кенте. У нее в доме жил молодой студент-медик из Мюнхена, который родился в Америке и потому не был интернирован. Он явно пытался совратить меня, а мой страх, по всей видимости, только раззадоривал его. Никогда еще я не испытывала такого ужаса. Когда я позже встретила его в Нью-Йорке, он снова принялся обхаживать меня – на этот раз с целью женитьбы. Я убедила его вместо меня взять в жены мою кузину. Она была моей лучшей подругой, и он испытывал чувства к нам обеим. Я тогда училась в школе, а кузина была уже взрослой женщиной и на пятнадцать лет старше нашего воздыхателя. Их брак оказался успешным, и они стали родителями двух очаровательных девочек-близняшек.
Во время войны меня наконец отправили учиться в школу. В частной школе Джекоби в Вест-Сайде учились девочки-еврейки, и я каждый день ходила туда через Центральный парк из нашей квартиры на углу Пятой авеню и Пятьдесят восьмой улицы. Но уже через несколько недель я слегла с коклюшем и бронхитом и всю зиму провела в постели. Я чувствовала себя одинокой и покинутой, поскольку в том году Бенита дебютировала в свете и мать занималась только ею. Каким-то образом я умудрилась самостоятельно делать все домашние задания, чтобы не отставать от класса и сдать экзамены. Я вовсе не наделена выдающимся умом, и далось мне это чрезвычайно трудно. Однако я любила читать, и в те дни я не расставалась с книгой. Я читала Ибсена, Харди, Тургенева, Чехова, Оскара Уайльда, Толстого, Стриндберга, Барри, Джорджа Мередита и Бернарда Шоу.
Мой второй год в школе проходил несколько успешнее первого. Я регулярно посещала уроки, если не считать того недолгого времени, что болела корью. Зимой мы были заняты репетициями постановки «Маленьких женщин» для выпускного. Миссис Куайф, наша прекрасная учительница драматургии, всю жизнь относившаяся ко мне с большой теплотой, познакомила меня с поэзией Браунинга и дала мне в пьесе роль Эми. После окончания школы я отказалась от идеи пойти в колледж, не без влияния Бениты. Она отговорила меня, как я отговорила до того ее. Я жалела об этом решении многие годы.
На втором году школы я начала вести социальную жизнь. Я организовала маленький танцевальный клуб вместе с одноклассницами и еще несколькими девочками. Мы сами вносили средства на организацию ежемесячного бала. Нам разрешалось приглашать на него не больше одного-двух юношей. Мы составили список подходящих молодых людей из нашего еврейского круга, и я провела шуточный аукцион, победительницам которого выпала честь пригласить избранных кавалеров. Эти танцы проходили очень весело и безо всякого пуританства.
Примерно в то время, когда я заканчивала школу, я близко подружилась с прелестной девушкой по имени Фэй Льюисон. Она походила на Джеральдину Фаррар, что казалось крайне уместным сравнением с учетом того факта, что в ее доме регулярно собиралась труппа Метрополитен-оперы. Я испытывала к Фэй чувства куда более сильные, чем она ко мне; тогда я этого не осознавала, но теперь подозреваю, что эти чувства по характеру были близки «Девушкам в униформе». Возможно, Фэй об этом догадывалась. В любом случае, ее интересовали юноши.
Мать Фэй, миссис Адель Льюисон, и ее бабушка, миссис Рэндольф Гуггенхаймер, были очаровательными хозяйками. Они щедро развлекали не только певцов, но и интеллектуальную элиту Нью-Йорка. К сожалению, мы с Фэй были еще слишком юны, чтобы принимать в этих развлечениях участие. Или вернее было бы сказать, что Фэй противилась этому не меньше, чем я участию в социальной жизни своей матери. Ее семья жила в доме на Пятой авеню с причудливым балконом на верхнем этаже с каменными женскими изваяниями наподобие кариатид. Миссис Льюисон души во мне не чаяла, а я в ней; многие годы спустя, когда я встретила ее в Париже, она сказала мне, что высоко ценила нашу дружбу с Фэй и жалела, что того же нельзя было сказать о ее дочери. Она считала меня серьезной девушкой, тогда как Фэй думала только о развлечениях.
Летом 1915 года меня впервые поцеловали. Сделал это юноша, который каждый вечер катал меня на автомобиле моей матери. После этого он неизменно его одалживал, чтобы доехать до дома, и возвращал на следующий день в семь утра по дороге на станцию, откуда ехал на работу в Нью-Йорк. Мама не одобряла моего поклонника, ведь он ничего не имел за душой. Она держала себя в руках ровно до того вечера, когда он поцеловал меня в первый и последний раз. Мы были в гараже, и он, наклонившись ко мне, случайно нажал на гудок автомобиля, чем разбудил мою мать. Она обрушилась на нас с потоком ругани. «Он решил, что мой автомобиль – это такси?» – кричала она. Разумеется, больше этого юношу я не видела. Мама торжествовала, но через несколько лет Судьба показала, какую она совершила ошибку с точки зрения собственных стандартов: молодой человек получил в наследство миллион долларов.
После окончания школы я оказалась в неприкаянном состоянии. Я по-прежнему запоем читала и посещала курсы истории, экономики и итальянского. Моя преподавательница по имени Люсиль Кон оказала на меня влияние сильнее, чем какая-либо другая женщина за всю мою жизнь. Из-за нее в моей судьбе произошел роковой поворот. Случилось это постепенно и не в одночасье. Она была одержима стремлением сделать мир лучше. Я прониклась ее радикальными взглядами и благодаря этому наконец смогла вырваться из удушающей атмосферы, в которой меня растили. Мое раскрепощение заняло долгое время, и хотя несколько лет ничего особенного не происходило, семена, которые она посеяла, всходили и росли в таких направлениях, о которых моя преподавательница едва ли могла и подумать. Ее круг интересов ограничивался политикой и экономикой. Она безоговорочно верила в Вудро Вильсона. Однако, когда он не смог осуществить свою программу, она, разочаровавшись, присоединилась к рабочему движению. Я не смогла сделать того же, поскольку была на тот момент в Европе, но поддерживала ее крупными суммами. Позже она сказала, что этими деньгами я тоже изменила ее жизнь. Она заняла важный пост в своем движении и после этого многие годы рьяно трудилась на его благо.
Во время войны я научилась вязать. Однажды начав, я не смогла остановиться. Я брала с собой вязание всюду – за стол, на концерты, даже в кровать. Я достигла такого мастерства, что могла связать носок за один день. Я помню, что дедушка Селигман не одобрял моих скоростей, потому что я тратила слишком много денег на шерсть. Боюсь, его бережливость превосходила даже его патриотизм.
Во время войны мы не могли ездить в Европу, и на одно лето мама повезла нас в Канаду. Мы проделали весь путь на автомобиле. Почти всю дорогу я вязала и пропустила большинство прекрасных видов за окном. Иногда я все же поднимала взгляд и сполна получала вознаграждение за эту жертву. В Канаде мы завели близкое знакомство с канадскими солдатами, дислоцированными под Квебеком. Мы с Бенитой и нашей подругой Этель Франк замечательно проводили с ними время. По дороге домой в Вермонте нас вежливо, но твердо отказались пускать в отель из-за нашего еврейского происхождения. Поскольку закон запрещает отелям отказывать в размещении на ночь, нам разрешили остаться до утра, после чего сообщили, что наши комнаты сданы. От этого во мне развился новый комплекс неполноценности.
Позже я пошла в коммерческую школу учиться стенографии и машинописи. Я надеялась получить военную работу, но слишком отставала от девушек из рабочего класса и чувствовала себя среди них посторонней. Я быстро сдалась.
В 1916 году состоялся мой дебют в свете. Я устроила большой прием в честь високосного года в зале отеля «Ритц». С тех пор я постоянно разъезжала по приемам и проводила вечера в компании молодых людей. Пускай я любила танцевать и хорошо это делала, я находила такой образ жизни нелепым. Для меня все это отдавало фальшью, и я никогда не могла найти серьезного собеседника.
Потом мы переехали в дом двести семьдесят по Парк-авеню. Моя мать разрешила мне самой выбрать мебель для моей спальни и записать на ее счет. Увы, я ослушалась ее и отправилась за покупками в священный День искупления – великий иудейский праздник Йом-Кипур. Мне строго-настрого запретили это делать, и я была жестоко наказана за свой грех. Мама отказалась платить за мебель. Я оказалась в огромном долгу, который мне предстояло выплатить из своих карманных денег. Бенита пришла мне на помощь и несколько недель помогала мне. Я помню, как помимо всего прочего она заплатила за меня в салоне красоты Элизабет Арден.
С самого моего раннего детства к нам домой ровно в двенадцать приходила скорбная пожилая дама по имени миссис Мак. Эта шепелявая особа была закупщицей, которая записывала в свой маленький блокнот все, что требовалось в доме. В один день это могли быть три ярда кружева, бутылка клея и шесть пар чулок; в другой – упаковка мыла, швейный шелк и зеленое перо для шляпы. Ближе к Рождеству для нее наступало самое хлопотное время; тогда она уже приходила с большой тетрадью и с глазу на глаз узнавала у моих сестер и меня, что мы хотим приобрести в подарок для миссис Дэн, миссис Сол, миссис Саймон, миссис Мюррей и так далее – так она называла моих теток из семейства Гуггенхаймов. Затем она отправлялась по магазинам, где у нее были открыты счета и где ей полагалась десятипроцентная скидка. Поскольку она неизменно покупала не то, что нужно, большую часть своей жизни она тратила на обмен вещей. Когда мы покупали все сами, мы справлялись быстрее и выигрывали не меньше, потому как все записывали на ее счет.
В 1918 году я получила военную работу. Я сидела за конторкой и помогала нашим офицерам-новобранцам покупать униформу и прочие принадлежности по сниженным ценам. В мои обязанности входило давать консультации и составлять бесконечные рекомендательные письма. Я работала вместе с Этель Франк, моей ближайшей подругой по школе. Когда она заболела, я взяла на себя ее долю обязанностей, но долгие рабочие часы оказались для меня чрезмерной нагрузкой. Я сломалась. Началось все с потери сна. Затем аппетита. Я неуклонно худела и становилась тревожней. Я обратилась к психологу и сказала ему, что мне кажется, будто я теряю рассудок. Он ответил: «А вы уверены, что вам есть что терять?» При всем остроумии его ответа мои опасения имели основания. Я собирала с полу все спички, попадавшиеся мне на глаза, и не могла заснуть по ночам, переживая за те дома, которые могли сгореть из-за того, что какую-то спичку я пропустила. Отмечу, что все они были уже сгоревшие, но я боялась, что среди них могла оказаться и целая. В отчаянии мама наняла для присмотра за мной мисс Холбрук, сиделку моего покойного деда. Я бесцельно бродила, прокручивая в голове проблемы Раскольникова и размышляя над тем, как много общего у меня с героем «Преступления и наказания» Достоевского. В конце концов мисс Холбрук усилием воли заставила меня думать о чем-то другом. Постепенно я вернулась в нормальное состояние. В то время я была помолвлена с оставшимся в стране офицером-летчиком. За время войны я сменила несколько женихов: мы все время развлекали солдат и моряков.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!