Текст книги "Московская стена"
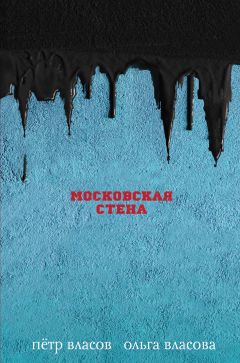
Автор книги: Петр Власов
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Когда два офицера в черном ввели Быкова за ширму, Голдстон на секунду подвис. Физики в его понимании выглядели иначе, живенькими и юркими как элементарные частицы. Напротив, стоявший перед ним человек, казалось, давным-давно постиг все земные истины и теперь рассеянно наблюдает за теми, кто муравьями суетится у него под ногами. Излучателем этого благожелательного безразличия ко всему вокруг являлась огромная, скудно прикрытая редкими светлыми волосами голова. Голова явно имела свою, особую ценность по отношению к остальному телу. Все находившееся ниже шеи воспринималось как обслуживающий ее второстепенный придаток. Лоб казался бесконечно высоким, во многом из-за лысины, с которой незаметно сливался на выпуклом черепе. Где-то у самого основания лба, под белесыми бровями затаились серо-голубые глаза с едва уловимой жесткой примесью. Фокус с ходячей головой получался еще и от того, что физик был среднего роста, хотя и весьма плотной комплекции. Его широкую фигуру обтягивал старенький свитер салатового цвета со смешными синими оленями, которые везли сани Санта-Клауса.
– Садитесь, пожалуйста, – сказал по-русски Голдстон, пытаясь услышать собственный акцент.
Физик молча, не отводя взгляда, приземлился напротив. Задел коленом стол так, что тот зашатался. Кажется, совсем не удивился русской речи.
– Меня зовут Джон Голдстон. Моя специализация – поиск талантливых ученых для европейских исследовательских центров. Ваше дело попало к нам, и мы заинтересовались им. Поболтаем немного? Ну и пообедаем заодно… Надеюсь, от вина тоже не откажетесь?
Голова – как он назвал про себя Быкова – на секунду вышла из статичного состояния. Глаза сфокусировались на быстро заполняющей бокал бледно-рубиновой жидкости. Не ответив, физик взял его и сделал пару объемных, торопливых глотков.
– Урожай седьмого года, – Голдстон мечтательно вздохнул, рассматривая этикетку на бутылке. – Пожалуй, последний хороший год. А потом словно что-то сломалось. Кризисы, войны, эпидемии. Просто идеальный шторм какой-то…
Пока он прикидывал, как повернуть разговор куда надо, физик сам сделал первый ход.
– Про седьмой год не согласен. Сломалось уже довольно давно. Просто, наконец, дошло до предела.
Голдстон переставил ногу – под подошвой ботинка что-то хрустнуло, наверное кусок стекла.
– Давно?
Обведя стол прежним отсутствующим взглядом, Быков кивнул. Начал говорить – так, словно дискутировал сам с собой.
– Этот вопрос до сих пор задают себе миллионы людей. Почему все так легко рухнуло? Суперсложная глобальная система, которой вроде бы жить да жить… В тюрьме мне давали газеты. Поразительно, но все еще спорят об экономике. Мол, надо было здесь подкрутить, тут подклеить – и работало бы дальше. Но экономика – это ерунда. Сломался сам человек.
Голдстон откинулся на спинку стула.
– Сломался? Как это?
– После долгой и опасной болезни. Что-то вроде серьезного расстройства психики, поразившего огромные массы людей.
– Вы о депрессии?
– Депрессия – лишь один из симптомов. Сама же болезнь… Давайте назовем ее раскол. Человек лишился собственной природы, раскололся пополам. И добровольно отказался от одной своей половины. Вообще об этом много чего понаписано… Вы читали, например, Юнга?
Голдстон сделал пару быстрых, ненужных глотков. Дорогое вино показалось неожиданно кислым.
– Читал. Правда, главным образом, о символике сновидений.
Принесли суп-пюре из шпината и свежеиспеченный белый хлеб, нарезанный толстыми, пухлыми ломтями. Быков, втянув ноздрями горячий, поджаренный запах, взял себе сразу два куска. Подумав немного, вернул один обратно.
– Нет, я про личное и коллективное в человеке. Наш собственный опыт и сидящий у нас в подсознании опыт миллионов лет земной жизни, наследуемый генетически или как-то там еще. Вроде бы чудовищное противоречие, из которого, тем не менее, вырастает сама человеческая природа. Сначала желание обособиться, выпятить себя – и тут же тяга слиться с чем-то бо́льшим, стать его частью… Можно сказать, история человечества – это непрестанный поиск нужного баланса между «я» и «мы». В какой пропорции их смешать, чтобы воцарилось всеобщее счастье? Последние лет триста, безусловно, были эпохой «я». Чем больше «я», тем лучше! Настоящая революция, если вдуматься! До того ценность человеческая определялась родом занятий, вкладом в общий труд. Важно, не кто ты внутри, а чем занимаешься. Крестьянин, стражник, подмастерье… И вдруг человек превращается в существо вообще с другой начинкой. В личность! Что-то ценное, напротив, именно своей отдельностью и непохожестью. Как следствие, невероятный толчок креативности везде где только можно, перевернувший всю нашу жизнь! А потом… Потом начались побочные эффекты, потому что не удалось вовремя остановиться, найти ту самую точку равновесия. Человек так зациклился на себе, на малейших оттенках своего «я», что совсем упустил из виду «мы»… Вебер[13]13
Макс Вебер (1864–1920) – немецкий социолог и политэкономист. В отличии от Карла Маркса позитивно оценивал роль капитализма, который, по его мнению, возник благодаря протестантской этике.
[Закрыть], конечно, был прав, когда писал, что люди не способны развиваться как вид не выделившись из общего. Но мог ли он себе представить, что человеческая индивидуальность станет проблемой, к примеру, для создания семьи? Знаете, какой забавный термин придумали в начале века по этому поводу в Швеции? «Семья, состоящая из одного человека». И на такие семьи приходилось больше половины населения!
Голдстон, хотя и чувствовал уже довольно давно призывный запах супа, никак не мог оторваться взглядом от физика.
– То есть в нас осталось так мало «мы», что мир взял да и рассыпался? Все так просто?
– Именно. Наш современник – «я» почти в чистом виде. Отдельный, независимый атом. Продукт повседневного опыта: дом, офис, знакомые, семья… Да, социальные, экономические связи сложны и многочисленны, но не способны компенсировать глубинные потребности человеческой психики. «Мы», которое нам нужно, не просто семья, друзья, фанаты любимой команды. Если вернуться к Юнгу, он, собственно, дальновидно предсказывал социальные потрясения по причине коллективных проблем с психикой. Винил же во всем Реформацию и последующий упадок религии. Считал, что религиозные обряды и праздники, воздействуя на подсознание, давали людской массе ощущение «мы», так сказать, нужного масштаба. Человек в церкви – не песчинка, не секунда в истории. Вместе с Богом, вместе с другими людьми он ее важный творец, направляющий ход событий от Адама к Апокалипсису…
Кажется, был внешний толчок. Пойманное краем глаза неуклюжее движение официанта или звук в зале, вырвавшийся из общего пчелиного гула. В голове у Голдстона лампочкой зажглась мысль: над столиком витает нечто крайне важное и физик вот-вот как фокусник вытянет это из воздуха. Быков, правда, напротив, замолчал, упершись взглядом в раскинувшиеся по тарелке полупрозрачные лепестки окорока. Голдстона от этого молчания охватила необъяснимая паника. Он торопливо выпалил первое, что пришло в голову:
– Разве Лютер[14]14
Мартин Лютер (1483–1546) – немецкий богослов, инициатор Реформации.
[Закрыть] был атеистом? Разве не выступал только против продажи индульгенций и прочей… балаганщины?
Физик, вздрогнув, ожил. Вспомнил о разговоре.
– Конечно же, Лютер не был атеистом. Главный тезис его учения – прямой диалог Бога и человека, не замутненный посредничеством церковнослужителей. Напротив, он хотел приблизить человека к Богу, чтобы лучше слышать и понимать Творца. Как и большинство гуманистов той великой эпохи, к которым Лютер, безусловно принадлежал. Таким путем они мечтали создать «людей нового типа» – образованных, добродетельных и свободных.
– Что же пошло не так?
– Я думаю, что все дело в тайне.
Физик неожиданно с ухмылкой подмигнул ему. Кажется, он быстро пьянел.
– Да, именно в тайне. Понимаете, церковь разными способами создавала реальность, которую нельзя было понять – только воспроизвести в себе, став ее частью. Но все эти величественные соборы и торжественные многотысячные процессии воспринимались протестантами лишь как дань тщеславию церковников. В общем-то они, наверное, правильно понимали, что Богу не нужны подобные знаки внимания. Но заблуждались в том, что это не нужно человеку, чтобы встретиться с Богом. Без тайны, без священного религия обмелела, стала частью повседневного опыта какого-нибудь немецкого торговца свининой. Немудрено, что Бог, превратившись в абстракцию, вскоре испарился из придуманной Лютером схемы. Осталось только пресловутое служение[15]15
Имеется в виду ключевое положение концепции Лютера о «призвании». Согласно ей Бог предназначает людей к тому или иному виду деятельности и через мирской труд также можно достичь высшей благодати.
[Закрыть], примерный труд и, как награда свыше, рост богатства, признание в обществе. Отсюда и народился капитализм, что быстро и агрессивно, как сорняк, подчинил себе всю планету. На самом деле побочный эффект попытки гуманистов Возрождения создать более совершенного человека. Теперь же саму эту идею лукаво подменили идеей постоянного роста благосостояния, научно-технического прогресса и так далее. Но есть ли прямая связь между улучшением человека и, например, научно-техническим прогрессом? Нацистская Германия, самое чудовищное государство в истории с точки зрения человечности, было притом и самым передовым в техническом отношении…
Голдстон внезапно почувствовал раздражение. Нить разговора ускользнула у него из рук и теперь ее крепко держал физик. Над ним же словно прохудился потолок. Он съежился, вжал голову в плечи, пытаясь увернуться от потока непривычных слов, уносящих его за горизонт понятного и контролируемого. Но они все текли и текли, затопляя с головой, мешая думать и даже дышать. В конце концов, он перестал сопротивляться и пустым чемоданом безвольно поплыл по течению извилистой, но широкой мысли Быкова.
– Образно выражаясь, человек измельчал. Да, он стал более гуманным, креативным и хорошо пахнущим… Но он страшно измельчал! Между тем, поверьте, масштаб – крайне важное измерение для человеческого существа… Правда, капитализму как раз и нужен был такой мелкий человек. Человек-запчасть, встроенный в систему, единственной задачей которой является бесконечное увеличение капитала. Но капитализм сам в конце концов угодил в эту ловушку и накрылся медным тазом. Мелкий человек не способен воспринять большой идеи. А без того вы никогда не выведете человечество на следующий уровень…
– Большие идеи? – тихо переспросил оглушенный Голдстон, вспоминая речи Кнелла. – Что вы имеете в виду? Конкуренцию разных социальных моделей?
– У человечества, если честно, может быть только одна идея. Развитие человека, того потенциала, который в него запрятали. Все, что помогает этому – благо, мешает – зло. Большие идеи дают образ будущего, где наши потомки на голову, может, на десять голов выше нас. Более совершенный, добродетельный, эффективный человек – вот цель, вокруг которой должна строиться вся наша жизнь. Только такие, уходящие в будущее идеи способны преображать мир…
– Вы про христианство?
– Или про коммунизм, который хотел создать «нового человека» и «светлое будущее»… Знаю, знаю. В религиозных войнах и коммунистических чистках погибли десятки миллионов людей. Не буду отрицать. Но, тем не менее, обе эти идеи парадоксальным образом гуманизировали мир, задав ему новую планку.
– Значит, вопрос цены не имеет значения? Цель и в самом деле оправдывает средства?
С минуту Голдстон наблюдал за тем, как крупные, лопатообразные ладони Быкова ловко управляются с суповой ложкой, и та серебристой молнией буквально мелькает в воздухе. После заданного вопроса ложка замерла на мгновенье, потом скребущие движения возобновились с прежней интенсивностью. Потом физик все-таки ответил, пусть и неохотно. Словно не был уверен, что его поймут.
– Исходя из горизонта одной человеческой жизни мы вряд ли узнаем, какова эта цена – и вообще что была за сделка. Может, происходящее сегодня обретет смысл только лет через двести? Большое заблуждение полагать, что главной заботой истории является максимально сытое и продолжительное существование каждого из нас. Я вижу историю как движение усредненного человека от животного к человеческому – или в обратном направлении. Если человечество не развивается, оно деградирует. Что, собственно, и произошло.
Голдстону представилась популярная картинка-клише – эволюция от стоящей на четвереньках обезьяны до распрямившегося гоминоида. Только сейчас место обезьяны занял обыватель с гамбургером и бутылкой кока-колы, а гоминоида подменил одухотворенный трудящийся с книгой и телескопом под мышкой, сбежавший сюда с плакатов советской эпохи.
– Не хотите сначала спросить у людей, чего они хотят? Страдать ради чьего-то будущего или спокойно жить в сытости?
Быков опять ответил не сразу. Отхлебнул еще вина, аккуратно вытер куском хлеба тарелку из-под супа. Потом неожиданно поднял голову и воткнулся в Голдстона колючим взглядом.
– Представьте – вы живая клетка. Одна из миллиардов клеток огромного организма. И вот, вы ставите этому организму ультиматум – мне до тебя нет никакого дела, хочу жить сама по себе. Что с вами произойдет? То-то же! Человечество, нравится это нам или нет, существует только как единое целое. Как общее движение в неизвестность. Ошибки, потрясения, разочарования неизбежны. Любая обращенная в будущее идея на порядок шире и выше среднего человека своей эпохи. Отсюда все издержки.
Голдстона внезапно больно полоснуло по коже чувство собственной ущербности. При всем желании он не мог сейчас встать на то место, откуда величаво обозревал мироздание Быков, и глянуть вокруг его глазами. Даже затем, чтобы сказать – полная чушь, нет здесь ничего. Первой, естественной реакцией была ирония над наивностью услышанных от захмелевшего физика рассуждений. Утопичность будущего, где морально чистые интеллектуалы будут заниматься саморазвитием, забыв о стремлении к доминированию, богатству, разврату, безделью, была очевидной. Однако тут же пришла другая мысль: в тот грязный, неприглядный тупик, где сейчас упокоилось человечество, его привели, возможно, именно эти дорожные указатели.
– Капитализм попытался сделать из человека деталь, обладающую нужными качествами и исправно работающую в определенном месте огромной системы. Это вовсе не экономическая эксплуатация, как считал Маркс. Это эксплуатация самой человеческой сущности, рассчитанной на совсем иной масштаб… Но человек – не деталь. Насилие над его природой ведет к массовым психическим расстройствам. Одиночество и страх, ничем не выводимый ужас смерти. Западная культура была одержима предчувствием Апокалипсиса последние лет сто точно… Видели Стену? Как думаете, зачем здесь, в мертвом городе, выстроили такую махину? Это памятник бесчисленным страхам одинокого, маленького человека…
Похоронно звякнув, с полом встретилась отпущенная пальцами вилка. Голдстон проводил ее непонимающим взглядом. Мир Быкова, только что казавшийся бессмысленным нагромождением терминов, вдруг придавил реальной тяжестью. Совпадение их ощущений не просто поразило. Оно звучало как доказательство всему, что Быков сказал до того.
– Стена… – пробормотал Голдстон. – Почему же именно стена?
– Символ, который дает ощущение контроля. Победы над хаосом, в который погрузилось человечество, распавшееся на миллиарды замкнутых в себе эгоистов.
Сглотнув, Голдстон аккуратно, чтобы не растревожить, нащупал внутри себя давно живущее с ним послевкусие от ночных кошмаров.
– Вы говорили про страх. В чем его непосредственная причина?
Прищурившись, физик обшарил его глазами.
– Вы чего-то боитесь? У вас проблемы с психикой?
Спазм паники. И одновременно облегчение. Как будто нашел врача, способного поставить правильный диагноз – а, значит, и вылечить.
– Я… я тоже размышлял о Стене. Что это нечто большее, чем просто военное сооружение.
Быков вяло кивнул своей монументальной головой. Кажется, впервые за весь разговор в его глазах мелькнуло что-то похожее на интерес.
– Проблема человека в том, что границы, в которых он способен познавать мир, несравненно шире тех границ, где он может на этот мир воздействовать. Задумайтесь – мы исследуем галактики, добираться до которых даже со скоростью света понадобилось бы миллионы лет. Эта диспропорция между нашим физическим ничтожеством и способностью осмыслить реальность во вселенских масштабах есть у каждого. Если ее не компенсировать – религией, философией, чем-то еще, дающим хоть какое-то объяснение, – то рано или поздно она вызовет серьезные психические сдвиги. Правда, когда человек встроен в стабильно работающую систему, эти позывы слабы и невнятны. Есть ощущение осмысленности того, что он делает изо дня в день. Тоже, если хотите, Стена… Когда же все рухнуло, наш с вами современник, вылупившийся из привычного обывательского мирка как из яйца, встретился, извините за пафос, лицом к лицу со всей непостижимостью Вселенной. Как тут не ужаснуться?.. У вас есть ручка? Сейчас попробую наглядно…
Расправив пухлыми пальцами салфетку, физик нарисовал на ней корявый круг, затем вписал в него квадрат, а в центре, проткнув бумагу насквозь, поставил жирную точку.
– Круг – это Вселенная, точка – то, как ощущаете себя вы, квадрат – Стена в нашем подсознании. Вроде бы защита, но на самом деле клетка, в которую человек сам, по собственной воле, себя загнал и оттого же страдает… В идеале точка и круг должны совпадать. Но квадрат не дает точке стать кругом.
Прибытие главного блюда, жареного барашка по-албански, они встретили в полном молчании. Только когда Быков уже почти разобрался с барашком, оглушенный беседой Голдстон вспомнил наконец о поручении Кнелла.
– Ваши мысли весьма… занятны… Наверняка есть и… конкретные идеи, как вывести человечество из нынешнего тупика?
Рука физика, державшая вилку, замерла в воздухе на полпути к уже приоткрытому рту. Положив через пару секунд вилку обратно на тарелку, Быков с какой-то медицинской тщательностью вытер салфеткой чистые губы. Спросил отстраненно:
– Не знаете, случайно, что на десерт?
Больше разговор у них так и не заладился.
* * *
Странная беседа с физиком сильно наследила внутри у Голдстона, оставив длинный шлейф ощущений. Он чувствовал себя емкостью с водой, куда на ночь щедро засыпали дрожжей. Теперь в емкости булькало, шипело и бурно делилось без его ведома нечто живое и загадочное. А еще появилась боль. Там, где сегодня проткнула тело воображаемая рука Мэри. Подумалось что-то дикое.
«Уж не шрам ли это? Место, где нас, по словам физика, разделили надвое?»
Голдстон, сидя на кровати медленно, почти со страхом, расстегнул пуговицу, залез пальцами в образовавшуюся прореху. Осторожно дотронулся до кожи. Тело ответило ноющим, идущим из глубины раздражением. Пальцы, слегка пританцовывая, прошлись туда-обратно, пытаясь обнаружить малейшую неровность. Нет, ничем не поврежденная, гладкая кожа. Никакого шрама или рубца. Он заставил себя иронично ухмыльнуться. Но легче не стало. Напротив, вспомнился единственный, стыдливый, год или около того назад, визит к психиатру.
– Повторяющиеся сны – часто симптом того, что подсознание требует разрешить проблему в реальной жизни.
– Что-то связанное с сексом?
– Теории, что подсознание – лишь психический отстойник, куда вытесняются табуированные желания, уже не в тренде. Скорее это центр накопления информации.
– Какой именно?
– Абсолютно всей, которую мы так или иначе получаем из внешней среды. Похоже на универсальное записывающее устройство. Сервер, соединенный с операционной программой-сознанием. Информация хранится там и используется по мере надобности. Задача сознания – запрашивать нужную информацию в нужный момент.
– А кошмары?
– Страх играет ту же роль, что и боль в организме. Симптом проблемы. Сигнал о том, что подгрузка с сервера не работает. Что-то мешает соединению.
Сегодня, похоже, ему рассказали что именно. Философский треп захмелевшего физика звучал сейчас в ушах как медицинский диагноз. «Синдром Стены» один в один напоминает симптомы измысленного Быковым массового психического заболевания, из-за которого якобы и рухнул весь миропорядок. Здесь, в Москве, он проявляется ярче и чаще оттого, что раскол внутренний вступает в резонанс с расколом внешним. Куда ни пойдешь, повсюду тридцатиметровая бетонная стена. А за ней – терра инкогнита, штриховка на карте… Галлюцинации в госпитале, вдруг осенило Голдстона, пыльный, тоскливый город за циклопической стеной. Это же мое подсознание!
Окатило ознобом. Он дернул руку из-под рубашки – так резко, что оторвал пуговицу. Та отстучала длинную дробь по полу и, наконец, затихла под книжным шкафом. Голдстон даже не проводил ее взглядом. Если физик прав, исцелиться от кошмаров проще простого. Нужно вернуться в этот город за Стеной и найти из него выход.
* * *
В жизни Голдстона был короткий, но хорошо запомнившийся период, месяцев пять или шесть, на которые он с головой занырнул в природу снов, управление подсознанием, астральность и прочую эзотерическую дребедень. Случилось это так. Когда он понял, что кошмары повторяются, началась паника. Но идти к психиатру означало признать себя ненормальным. Кроме того, он опасался, что информация утечет в министерство. Потому-то в один прекрасный день обложился пособиями по «тайным методикам» и занялся «самонастройкой». Выход в подсознание был любимым коньком разнообразных гуру в области медитации. Тогда особой пользы эти духовные опыты не принесли, кошмары не прекратились, но сейчас у него имелось наготове сразу несколько рецептов, как же следует поступить. Например, лечь на спину, глубоко дышать и вспоминать при том яркие моменты своей жизни (кажется, так в книгах обычно описывают смерть, подумал Голдстон). Или вот – опять же, лечь, расслабиться, представить себя со стороны – увидеть в деталях каждую часть тела, затем будто слепить его заново из кусков и установить в абстрактной пустоте. Вообразить тропинку, шоссе, любой путь и создать на нем далекий ориентир. Дерево, церковь, гору. После чего двигаться к ориентиру, не отвлекаясь ни на что другое… Голдстон в самом деле лег на кровать – сначала словно Христос, раскинув руки в стороны. Затем, подумав, плотно прижал их к бокам, как прыгун в воду на краю доски. Начал медленно, размеренно дышать, стараясь вытолкнуть из себя с каждым выдохом все повседневное. Вспомнилась фраза из книжки по медитации: «научитесь слышать через музыку в наушниках пение далеких птиц». Но с птицами получалось не очень. Наверху кто-то расхаживал по комнате туда-сюда будто в тюремной камере. За окном над Кремлем прострекотал вертолет. Потом по коридору уборщик с грохотом провез тележку. Голдстон выругался, приложившись с досады кулаком по кровати. И сразу же понял, как надо поступить. К черту пение птиц! К черту шум моря и махи огромного космического маятника. Нужна Стена! Образ, однажды сам всплывший «Титаником» из темных бездн его подсознания. Странный, необъяснимый ужас, который она внушает, быстро пропитывает насквозь тело и затем утаскивает его, отяжелевшее и безвольное, в эти пространственно-временные норы… Он начал дозированно, в режиме замедленной черно-белой съемки, вспоминать сегодняшнюю встречу со Стеной. Отдельные кадры, один за другим. Красная площадь. Советский герб над входом в здание телеграфа. Зеркальная витрина кафе «Елисейские поля», отразившая его прямую, худую фигуру. Бледное, нерадостное лицо курящей девушки у входа в нелегальный бордель… Помогло и выпитое за обедом с физиком вино. Минут через десять Голдстон в самом деле соскользнул – может быть в сон, может, в собственное подсознание, пойманное в ловушку психоделическими трюками.
Нельзя утверждать, что это был тот же самый город и та же самая комната. Но была комната с крохотным, мутным оконцем, а еще прежнее предчувствие – вот-вот за ним придут. «Перестань дергаться, – сразу приказал себе Голдстон. – Это не сон. Если сам не захочешь, никто не придет». Придушив панику, он осмотрелся. Глинобитные серые стены без единого украшения, точно такой же пол с парой оборванных, бесформенных циновок. Узкая кровать с матрасом, больше похожим на простыню. Стол оказался здесь единственным предметом, представлявшим хоть какую-ту ценность. Мощный, крепкий, похожий на толстоногого слона, что возвышается над голой саванной. На столе лежала какая-то бумага. Голдстон подошел и взял ее в руки. Записка. Всего два слова: «Ищи рыжего». Похоже, собственное подсознание оставило ему подсказку. Напоминает о том, что он и сам когда-то знал.
Дощатая дверь едва не свалилась с петель, когда Голдстон настежь распахнул ее. В лицо сразу же плеснуло едкой пылью. «Главное не чихнуть, иначе проснусь», – мелькнуло в голове. Неприглядная улочка, состоявшая из кривобоких одно-двухэтажных домов, выглядела полностью вымершей. Он вспомнил про раздачу хлеба. Может быть, как раз самое время? Глянул сначала направо, потом налево, словно переходил дорогу с движением. Почему-то решил, что центр города должен быть справа. Он прошел двести или триста метров, прежде чем увидел первого живого горожанина. Это был одетый в прежнюю мешковину старик с потухшими, согласными со всем глазами и черной короной волос, переходящей в загорелую лысину.
– Где я могу найти рыжего?
Старик грустно посмотрел на него, вздохнул. Потом все-таки ответил:
– Его все ищут.
– А как его найти?
– Я вот и говорю – все, все его ищут.
Хорошо, попробуем иначе.
– Как выглядит этот рыжий?
– Как? Ну конечно он рыжий!
Махнув рукой, Голдстон тронулся дальше. Наконец, впереди начал нарастать шум людских голосов. Улочка, изобразив еще пару заковыристых поворотов, оборвалась каменной лестницей и влилась в кишащую людьми круглую площадь, где Голдстон немедленно впал в ступор. Никогда в жизни он не видел столько рыжеволосых людей в одном месте. Его взгляд беспомощно скользил по головам, из которых едва ли не каждая вторая была рыжей.
– Ищете кого-то? Наверное рыжего?
Он оглянулся. Рядом стоял полненький, услужливо улыбающийся человечек в круглых золотых очках. Захотелось коротко, без размаха, вмазать снизу вверх прямо по ухмыляющейся челюсти. Но Голдстон все-таки удержался. Ответил коротко:
– Угадали.
– Да вот же он!
Человечек ткнул пальцем в самый центр площади.
– Где? Где?
– Да вот же! Разве не видите?
Голдстон разочарованно сплюнул и, сбежав вниз по лестнице, со злостью, как ледокол врубился в ожидающую раздачи хлеба толпу. Пока более-менее успокоился, со злорадством отдавил не одну ногу. Натолкнувшись на человека с рыжей шевелюрой, спросил с вызовом:
– Вы рыжий?
Тот ухмыльнулся:
– Это как посмотреть! С одной стороны, может, и рыжий. А с другой – может, и совсем нет!
Взвыв от бессилия, Голдстон снова вступил в схватку с людской массой, расталкивая ее направо и налево. Обессилев наконец, стал оседать на землю, утыкаясь взглядом сначала в чьи-то облаченные в мешковину туловища, потом в лес голых лодыжек. Следующее, что он увидел, была округлая, массивная кошачья морда. Здоровенный черный кот, откуда он здесь?
– Рыжий! Вот ты где!
Сверху опустилась человеческая рука, краном подцепила кота, и тот начал уплывать куда-то вверх. Голдстон вскочил как ошпаренный.
– Но он же черный! Почему рыжий?!
Хозяин кота, человек с блеклым лицом, на котором будто едва уловимыми черточками были набросаны нос, глаза и рот, пожал плечами, одно из которых было выше другого:
– Все называют его рыжим.
– Хорошо, – не стал спорить Голдстон, – мне уже все равно, черный он или рыжий.
– Это почему же?
– Меня, видимо, разыграли. Сказали, что рыжий знает, где находится выход из Города.
Хозяин замотал головой.
– Почему разыграли? Рыжий ходит, где хочет. Может, и за Стеной бывает. Кто ж его спрашивал? Нам туда нельзя, а ведь у котов свои правила!
Голдстону уже никого не хотелось бить. Просто очнуться, пока сам не сошел с ума.
– Ну спросите, может скажет… – пробормотал он скорее самому себе.
– Сейчас, – отозвался хозяин. – Надо только дать ему хлебца.
Как раз в этот момент людская масса пришла в движение – Голдстон еще ничего не видел, но уже почувствовал перемену. Оказалось, на дальнем конце площади начали раздавать хлеб. Стоящие первыми не оставляли его себе, а передавали дальше – круглые, плотно сбитые лепешки словно плыли по воде, покачиваясь на волнах. Заполучив свою лепешку, кривоплечий отщипнул кусок и скормил его сидящему на плече коту. Потом, придвинув кошачью голову к губам, что-то прошептал ему в ухо. Странно, но кот вслед за тем в свою очередь прижался к уху хозяина. Тот начал многозначительно покачивать головой.
«Что за цирк», – тоскливо подумал Голдстон, но все равно поинтересовался:
– Так что же сообщил ваш кот?
– Да, из Города можно выйти.
– Где?!
– В любом месте. Нужно просто знать, куда идешь. Знать, что находится за Стеной.
– Откуда же я узнаю?!
– Неужели ты глупее кота?
Голдстон задумался. Ответить на вопрос почему-то оказалось непросто. Потом что-то вспомнилось. Не целиком, а так, будто видишь одну деталь из разобранной вещи и пытаешься представить, какая она на самом деле. Обезьяны. Он был не глупее обезьян. Даже гораздо умнее. Почему это кажется сейчас таким важным?
* * *
Болезненное, мутное состояние, поразившее Кольку в лифте из-за припадка, никак не проходило, вцепилось крепко в затылок. Все происходящее ощущалось как диковинный, бредовый сон – смотришь, разинув рот, но в голове ни единого вопроса, кто и зачем измыслил такую дичь. Необъяснимый факт, что приняла их в подземном городе компания не кого-нибудь, а святых отцов, окончательно лишил Кольку воли к действиям. Найди они здесь людей-мутантов или крыс величиной с бульдога, он уж точно знал бы, что делать – жать на гашетку. Но как вести себя с хором попов в черных рясах, не представлял себе ни он, ни Диггер, ни даже, похоже, Ворон. Поэтому те, взяв гостей в плотное живое кольцо, беспрепятственно повлекли их за собой, распевая малопонятные хоралы на старославянском и дымя, как паровоз, пахучим, отчего-то жутко разжигающим аппетит, ладаном.
Миновав очередную гермодверь, торжественная процессия вступила в широкий тоннель с рельсами, красиво отделанный до середины гладким кирпичом. Через одну или две светили депрессивные желтоватые лампы, оплетенные железной сеткой. Было прохладнее, чем вверху на станции, но дышалось заметно легче. Выходы вентиляционных колодцев – темные, зарешеченные проемы, будто пустые клетки в зоопарке, откуда шел едва ощутимый ток воздуха – регулярно попадались справа по ходу движения. Приметил Колька и датчики разных типов – то ли для анализа воздуха, то ли еще для чего. Само собой, через каждые метров тридцать – камеры. Правда, почти все мертвые, без зловещих красных огоньков. В одном месте они наткнулись на вмурованную в стену плиту из светлого металла. Что-то вроде памятника. На плите – профиль с бородкой и подпись «В. И. Ленин – 1967 год – год 50-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции». Про Ленина Колька много слышал от Ворона, потому знал, кто он такой и почему по всей стране ему при коммунистах наставили памятников. «Без разницы, какой Ленин был человек, плохой или хороший, – пояснял командир. – Ленин – это вождь восстания, которое зрело до того почти сто лет. Было неизбежным из-за жадности, глупости и трусости царей. История просто предложила ему роль – хитрую, тяжелую, кровавую – и он на нее согласился. Не всякий принял бы ее на себя, поверь мне. Может, революция и запоздала на целое столетие, потому как все отказывались». Упорство создателей подземного города вызвало у Кольки боязливое уважение. Даже если на поверхности будет свирепствовать жестокая ядерная зима и от мира останутся лишь постепенно разрушающиеся радиоактивные руины, тут, на глубине в сотню метров, по любому должны царствовать символы коммунистического учения… Впрочем, сегодняшние обитатели подземелий никакого пиетета к своим предшественникам, напротив, не испытывали. Плите явно досталось тяжелым предметом, ломом или молотком. Рядом подземные вандалы изобразили на стене мазками копоти огромный черный крест. Видимо, тот должен был нейтрализовать негативное воздействие памятной доски на окружающее пространство. Далее по маршруту «наскальные письмена» плотно и без зазоров, как татуировка у якудзы, покрывали всю стенку тоннеля. Сделанные грубо белой краской или копотью рисунки и надписи. Кресты, головы с нимбами, буквы какие-то непонятные. Кто их мог тут оставить? Уж точно не пещерные люди… Неряшливая мазня усиливала общее тягостное впечатление от следов упадка и запустения, коловших глаз почти на каждом шагу – раскиданный мусор, сваленная в неряшливые кучи ржавая арматура, застывший на боку, словно прилег отдохнуть, микроавтобус древнего года выпуска.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































