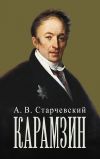Текст книги "Заметка о записке Карамзина, представленной в 1820 году, Императору Александру I касательно освобождения крестьян"

Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Петр Вяземский
Заметка о записке Карамзина, представленной в 1820 году, Императору Александру I касательно освобождения крестьян
Изложение записки, сколько помнится, довольно сходно с подлинником: если не в самой редакции, то в мыслях и в сущности. Только подана она была Государю Александру Павловичу не чрез руки графа Каподистрия, а прямо и лично самим графом Воронцовым.
В записке не было испрашиваемо, чтобы составившееся общество было под руководством управляющего Министерством Внутренних Дел, а сказано, под председательством лица, которое благоугодно будет Государю по этому делу назначить. Подписали эту записку граф Воронцов, князь Меншиков, генерал-адъютант Иларион Васильевич Васильчиков, генерал-адъютант граф Станислав Потоцкой, три брата Тургеневых (Александр, Николай и Сергей, впрочем, за Сергея подписались братья, потому что сам он был тогда заграницею) и князь Петр Вяземской, только что приехавший в Петербург на время из Варшавы. Других подписей, кажется, не было. Вот как дело происходило: граф Воронцов заблаговременно предварил Государя о желании некоторых помещиков подать ему всеподданнейшее прошение такого рода. Государь очень милостиво принял это предложение и сказал, что оно совершенно соответствует давнишним и всегдашним желаниям его.
О таковом Высочайшем отзыве граф Воронцов уведомил вышепомянутые лица. Записка была немедленно составлена, не упомнится теперь кем именно, но вероятно Александром или Николаем Тургеневым. Назначен был от Государя день, в который граф Воронцов должен был привезти эту записку в Царское Село. Она была всеми означенными лицами подписана. Но накануне поездки графа Воронцова в Царское Село генерал Васильчиков сказал графу, что он одумался и отказывается от участия в этом деле, на том, между прочим, основании, что он не считает себя вправе подписывать такую бумагу, потому что он не отделенный сын при отце и сам никакими крестьянами не владеет. Разумеется, бумага тут же была изорвана, снова переписана и подписана прежними лицами за исключением Васильчикова. На другой день явившись в Государю, граф Воронцов нашел его уже в совершенно другом настроении в отношении в делу, которое он еще так недавно приветствовал охотно и благодушно. Император торопливо принял бумагу из рук графа Воронцова, торопливо прочел ее и сказал ему: – «Здесь никакого общества и комитета не нужно, а каждый из желающих пускай представит отдельно свое мнение и свой проект Министру Внутренних Дел, тот рассмотрит его и по возможности даст ему надлежащий ход». Таким образом дело принимало другой оборот. Во первых, ясно оказывалось, что Государь уже не доверял рукам, которые должны были подготовить вопрос для дальнейшей государственной и окончательной разработки. Во вторых. также несомненно оказывалось, что дело пошло бы обыкновенным бумажно-канцелярским порядком, и благополучно опочило бы в пещерах министерства на вечные времена.
В тот же день граф Воронцов встретился с князем Вяземским в Царском Селе, на вечере у князя Федора Сергеевича Голицына. Но, вероятно из осторожности и опасения огласки, не сказал ему ни слова об исходе или, вернее, о падении зачатого дела, а поручил Жуковскому его о том уведомить. Тем дело и закончилось. Неизвестно, что могло или кто мог повредить в уме Государя предприятию, которое началось так благонадежно и с такими залогами прочного и желанного осуществления. Впрочем, как эта попытка не держалась втайне, но, вероятно, что-нибудь о ней да проскользнуло в городские слухи Вследствие того противники освобождения крестьян, а может быть и недоброжелатели некоторых из подписавшихся лиц, нашли доступ к Государю, представили дело в превратном виде и успели зародить сомнения и подозрения в осторожном и малодоверчивом нраве Императора Александра. рассказывали тогда, что граф Потоцкой, после претерпенной неудачи просил на коленях прощения у Государя и каялся пред ним, как будто в преступном замысле. Но нельзя полагать, чтобы все это дело оставило в Государе невыгодное впечатление и неудовольствие против подателей помянутой записки. По крайней мере несколько дней спустя, Государь встретясь, в обыкновенной утренней прогулке по Царскосельскому саду, с Карамзиным, сказал ему: – «Вы полагаете, что мысль об освобождении крестьян не имеет ни отголоска, ни сочувствия в России, а вот получил я на днях прошение, противоречащее вашему мнению. Записка подписана все известными лицами, между коими и ваш родственник князь Вяземский». Сей последний не говорил о тон Карамзину, не потому что он считал Карамзина противником освобождения, а потому что положено было держать это дело втайне. Упомянув о Карамзине, ныне при ожесточенных нападках на него в некоторых журналах наших, невольно хотелось бы войти в исследование и оценку воззрения его на вопрос освобождения крестьян и на другие так называемые либеральные вопросы. Но ответы и возражения на обвинения ополчившихся против памяти Карамзина вовлекли бы в слишком далекую полемику. Можно ограничиться на первый раз изложением некоторых мыслей и указаний. В означенных нападках нередко встречаешь глубокое неведение о том, что было, и поверхностное и одностороннее воззрение на то, что есть: что также равняется неведению. Оценщики Карамзина и среды ему современной покушаются и силятся выставить его человеком отсталым, даже в свое время и врагом всякого изменения и улучшения в государственном устройстве. Такой суд над ним совершенно ложен. Мишенью для обстреливанья и чуть ли не расстреливанья Карамзина служит обыкновенно записка о древней и новой России. Нет сомненья, что эта записка может быть признана политической и гражданской исповедью автора. Из неё видно, что Карамзин не сочувствовал поспешным и, по мнению его, нередко мало обдуманным нововведениям, которые должны были прирости к почве на развалинах. Как историк, он опасался крутой ломки настоящего, которое, так сказать, на глазах его воплотилось из событий минувшего. Он знал из опыта веков, что история и судьбы народов не упрочиваются скачками, а совершаются постепенно и медленно, как всякое благоразумное и благонадежное развитие. Есть школа историческая и та, что можно назвать скороспелою школой публицистики. Карамзин умом, верованиями и душою принадлежал первой.
Кто-то сказал о Сперанском, что, при всех многосторонних и гибких способностях и дарованиях его, он был ничто иное как чиновник огромного размера. Карамзин мог также не признавать в нем творческого и глубокого государственного деятеля. Ему могло казаться, что Сперанский более изучил чужеземные законодательства, чем Россию, чем нравственный и политический быт её, потребности, свойства и ту степень зрелости, которая в состоянии выдержать разные попытки и эксперименты. Ему могло казаться, что Сперанский более способен ломать, нежели строить; более способен пересаживать, нежели сеять. Позволяя себе строгие суждения о политических и гражданских понятиях Карамзина, забывают одно важное обстоятельство, а именно – эпоху, в которую он действовал. В то время над Европою и над Россией постоянно тяготел Дамоклесов и Наполеоновский меч. России угрожала все ближе и ближе подходящая к ней опасность. Карамзин мог бояться крутых изменений в государственном быту России, бояться, чтобы под этой ломкою, в ожидании будущих благ, не ослабели и не рассеялись силы России, столь нужные ей для отпора, когда настанет день роковой и сокрушительной борьбы. Впрочем нельзя отрицать, что Карамзин в известной записке своей может быть иногда слишком горячо, резко, а иногда и насмешливо отзывался о Сперанском и преобразованиях его. Но он по совести и убеждениям своим хотел предостеречь правительство и, так сказать, отвлечь его с пути пролагаемого Сперанским. Для убеждения Царя ему должно было не щадить вожатого, по мнению его опасного, притом должно сказать, что не смотря на кротость и благодушие, Карамзин мог иногда и нечувствительно поддаваться увлечению слова. Он был автор. И в записке его полемической писатель подчас нарушает спокойствие, беспристрастие и воздержность судии. Но он не был ни завистником, ни личным врагом Сперанского и быть не мог потому, что зависть и вражда были чужды чистой и возвышенной душе его. Напротив, был он того мнения, что в известной мере можно и должно било воспользоваться дарованиями Сперанского. Вот тому доказательство. Государь однажды жаловался Карамзину на недостаток людей, которые могли бы служить помощниками ему. Карамзин указал ему на Сперанского, который тогда только-что возвратился в Петербург. Но ответ Государя, кажется, выразил мнение не совсем благоприятное Сперанскому.
Спустя шестьдесят лет некоторые судят о Карамзине по нынешним понятиям, выработавшимся силою времени и событий, многие судят о нем не только по нынешним, созревшим понятиям, но и по нынешним увлечениям, чуть ли не угадывая и не присваивая себе и завтрашнее. Один Французский писатель сказал: «надобно уметь входить в чужие мысли и уметь выходить из них, точно также, как надобно уметь выходить из своих мыслей и возвращаться к ним». Такое передвижение везде редко встречается, а у нас и подавно. Наши умы сидят дома с своими домочадцами и единомыслителями при запертых дверях и с закрытыми ставнями. Ничего нет легче, как промышлять, так сказать, дешевым и готовым либерализмом. Для этого только стоит прочесть две – три книги известных западных публицистов и выписать из них рецепты для составления всех возможных политических и гражданских вольностей. Но трудность заключается в том, чтобы во время и смотря по сложению пациента, применять эти рецепты. Карамзин не был в сущности врагом законносвободных учреждений; так Император Александр переводил слово либеральный. Но Карамзин не верил в действительность и силу сочиняемых и писанных конституций или законоположений – тоже перевод Императора Александра. И Карамзин не верил этим бумажным программам, опять по той же причине, что он был историк.
В Англии нет писанной конституции, но она, так сказать, воплощена в государстве и в народе. Там в прениях палат не ссылаются поминутно на такую-то или другую статью государственной хартии, для защиты того или другого общественного права. Во Франции в писанных многостатейных конституциях недостатка нет. Выбирай любую: при каждом политическом перевороте является новая; а все толку мало и Франция около ста лет все еще не может досочиниться до конституции и до государственного порядка, которые дали бы ей средство жить правильною и здоровою жизнью. Если Карамзин был не охотник до писанных и, так сказать, канцелярско-бумажных конституций, то он был враг всякого насилия, всякой несправедливости, всякого произвола. Лучшая конституция, которую вы в настоящее время можете дать России, говорил он Императору, заключается в твердой и ни в каком случае непоколебимой воле истребить произвол в самом себе и в тех, которых облекаете вы властью.