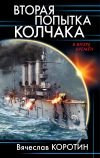Текст книги "Судьба адмирала Колчака. 1917–1920"
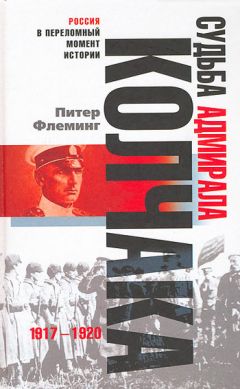
Автор книги: Питер Флеминг
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 6
Кукловоды
«Ужасное впечатление у меня осталось от Харбина, – сказал Колчак следователям. – Например, в Харбине я не встречал двух людей, которые бы хорошо высказывались друг о друге».
По словам адмирала, прибывшего в Харбин в начале мая, русская община находилась в крайней степени деградации и разъединения. Генерал Хорват возглавлял отставшую от времени клику, претендующую на звание правительства. Еще одно правительство, пестрая группа из Сибири под предводительством одесского еврея Дербера, проживала из милости Хорвата в нескольких железнодорожных вагонах на станции; они никем не правили, никого не представляли, однако время от времени посылали каблограммы президенту Вильсону. Харбин мог похвастаться и полудюжиной армий, правда очень маленьких. Одна состояла только из большого штаба без единого солдата. В другой все рядовые были китайцами… Все «армии» имели собственную контрразведку, занятую личной местью, вымогательством и торговлей опиумом. Самую сомнительную репутацию имело соединение полковника Орлова, но у него были настолько плохие отношения с Семеновым, что вопрос об отправке его людей в Забайкалье на борьбу с большевиками практически не обсуждался. По словам Колчака, он быстро понял, что в харбинской сточной канаве вряд ли найдется материал для создания движения за национальное возрождение России.
Во всей Северной Маньчжурии реальной властью обладали только японцы. Они контролировали поступление оружия и боеприпасов. У них было полно денег и готовность передавать их своим протеже без формальностей, что очень устраивало получателей. (Уже в иные времена, в 1927 году, разразился крупный политический скандал, вызванный – в разгар волнений в японском парламенте – обвинениями в неправильном использовании секретных военных фондов во время интервенции. Обвинения, в которых упоминалось 500 миллионов иен, что приблизительно составляло 50 миллионов фунтов стерлингов, так и не были опровергнуты.) Японская марионетка Семенов расположился на одном конце Китайско-Восточной железной дороги, на другом – в местечке под названием Пограничная – утвердился есаул Калмыков, фигура менее значительная, но в некоторых отношениях еще более отталкивающий бандит, чем Семенов, и еще более зависящий от своих японских покровителей.
Гораздо важнее всего этого надувательства было то, что в середине мая Япония заключила с Китаем тайное военное соглашение, обеспечивавшее сотрудничество между вооруженными силами обоих государств в том случае, если «враг» станет угрожать либо их территориям, либо «всеобщему миру и спокойствию на Дальнем Востоке». Поскольку враг не был идентифицирован, географические границы Дальнего Востока не определены и не растолковывалось, в чем же могла состоять угроза всеобщему миру и спокойствию, соглашение, по существу, давало Японии право размещать свои войска на территории Китая под любым предлогом всякий раз, как у нее возникало желание.
Таким образом, задолго до того, как во Владивостоке сошел на берег первый японский солдат, Япония создала на континенте очаг влияния, который – и до и после начала интервенции – предоставлял ей большие возможности для плетения интриг, что и было главным в ее континентальной политике.
Из всех участвовавших в интервенции стран Япония на протяжении всего того периода была самой реалистичной. Ее правительство не имело единого мнения по вопросу вооруженного вмешательства во внутренние дела России, сие вмешательство ни в какой мере не поддерживал народ, и о нем некоторое время запрещено было упоминать в газетах. Однако ее политика была жесткой и последовательной, стратегия – продуманной и осторожной.
Япония объявила – отчасти обоснованно – о своем «особом положении» в Сибири. У нее были там экономические интересы, вполне законные, и политические, которые таковыми не являлись. Кроме того, огромное значение для Японии, безусловно, имело то, кто контролировал Владивосток. Она имела веские причины и необходимые ресурсы для независимой от других стран интервенции. Искушение «сделать это в одиночку» постоянно усиливалось призывами из Лондона и Парижа. (11 мая сэр Генри Уилсон, начальник британского Генерального штаба, отметил в своем дневнике: «С военной точки зрения японская армия не могла вторгнуться в Сибирь слишком быстро и не могла продвинуться слишком далеко… Я всегда убеждал в этом мое правительство и надеялся, что и японский Генеральный штаб убеждает в том же свое правительство».)
Однако Япония не сдавала позиций: она войдет в Сибирь только при поддержке американцев. Эта сдержанность окупилась с лихвой. Когда США решили спасать чехов, президент в своей Памятной записке предусмотрел тесное сотрудничество американских войск с «небольшим военным соединением вроде (нашего) собственного из Японии». Правда, эту часть плана не позаботились заранее согласовать с японцами. Таким образом, страны поменялись ролями. До сих пор японская экспедиция нуждалась в американской поддержке, теперь же совсем наоборот. Более того, американцы уже связали себя обязательствами. По моральным причинам они не могли отказаться от своего благородного предприятия, по военным – не могли осуществить его без японцев. Как указывает Кеннан, «понимал это президент Вильсон или нет, но японцы загнали его в угол».
Япония продолжала к своей выгоде использовать американский проект в его первоначальном виде. Заявление японского правительства – аналогичное Памятной записке Вильсона, но опубликованное двумя неделями позже, – по сути, приглашало к сотрудничеству другие страны-союзницы, кои Вильсон надеялся исключить. Японцы отказались ограничить численность своих войск 7 тысячами, то есть численностью американского контингента, – решили для начала выделить дивизию (около 12 тысяч человек) и сохранить право при необходимости послать пополнение, причем общее число никак не ограничивалось и в конце концов возросло до 72 тысяч и более, чем в десять раз превысило ожидания американцев, или то, чего они могли бы ожидать, если бы воспользовались своим правом на какие-либо ограничения.
Хотя Япония и ввела в бой силу, которая вкупе с чехословаками оказалась во много раз больше всех других союзных контингентов, вместе взятых, она ограничила операции сферой своих непосредственных интересов. Япония всегда заявляла, что ее войска не продвинутся дальше Иркутска, они и не продвинулись. Очистив от большевиков Амурскую железную дорогу, японцы успокоились и перешли в основном к гарнизонной службе. В интересах международной безопасности они посылали летучие отряды на борьбу с партизанами, но никогда не воевали на фронте с регулярными войсками Красной армии. Японцы были единственной ударной группой, посланной Антантой в Сибирь, однако так никогда и не нанесли удара.
Весь период интервенции борьба с переменным успехом велась между соперничавшими фракциями в японском правительстве, между правительством и Генеральным штабом, между Генеральным штабом и полевыми командирами. В результате образ японской политики, со стороны такой кристально чистый, при ближайшем рассмотрении слегка мутнеет и искажается. Япония не намеревалась аннексировать (захватывать) ни Приморский край, ни тем более Забайкалье. Она не желала укреплять свое уже существующее влияние в Маньчжурии. Ее планы относительно Монголии были ориентировочными и весьма неопределенными. Япония – по стратегическим мотивам – хотела бы нейтрализовать Владивосток; она выискивала любые возможности получить экономическую выгоду и на всем театре интервенции от Тихого океана до озера Байкал не теряла решимости, по выражению Кеннана, «не выпускать руля из своих рук».
Таким образом, конечные цели Японии – хотя и негласно – были диаметрально противоположны целям ее союзников. Ей совершенно не нужно было сильное, стабильное русское правление в Сибири, к чему стремились другие страны Антанты. Япония была заинтересована в анархии или по меньшей мере в режиме военной диктатуры, который с ее помощью так ярко представлял Семенов. Японии было совершенно безразлично, что там происходило с Чехословацким легионом. Из всех провозглашенных целей интервенции ее волновало лишь желание Антанты «поддержать любые попытки самоуправления или самообороны, в которых сами русские пожелали бы принять помощь», но волновало совершенно определенным образом: сделать все возможное, чтобы усилия, направленные на достижение этой цели, потерпели неудачу. Исходя из этого, Япония щедро помогала негодяям и мешала патриотам. Для русских «ценой британской и французской помощи было национальное единение, а ценой японской помощи – полнейшее разобщение» (Уайт Аж. А. Интервенция в Сибири).
В последний раз Япония выступила в сфере международного военного сотрудничества в Северном Китае в период Ихэтуаньского восстания. Контраст между ее поведением в 1901 и 1918—1922 годах, между высокой репутацией, завоеванной в Пекине, и позором, сопровождавшим уход из Сибири, показывает, как быстро менялся национальный характер, как быстро самурайские традиции уступали место безнравственности Пёрл-Харбора и лагерей для военнопленных. Во время осады иностранных дипломатических представительств маленький японский военный контингент – меньший, чем любой другой, – был «основой и мозгом обороны»; японцы были единственным народом, который не подвергался критике в подробных отчетах об осаде, и в международных силах по снятию осады японские войска вынесли основную тяжесть боев. Тогда они вели себя безукоризненно.
В Сибири все было по-другому. Когда приходилось вступать в бой, японцы сражались с обычной для них храбростью, однако как оккупационная армия они вели себя безжалостно, высокомерно и занимались вымогательством. Они были жестоки к своим союзникам и предавали их. В покровителях столь низкопробных злодеев, как Семенов и Калмыков, трудно было признать стойких и благородных героев Пекина.
Ни одной из держав Антанты интервенция в Сибирь не принесла славы. Однако за всеми их ошибками и просчетами – в основании безрассудной затеи, от которой пришлось в конце концов отказаться, – было желание творить добро. Поражение Германии, спасение чехословаков, даже «возрождение» России – все эти цели, общие для союзников, сами по себе не были постыдными. Япония никогда их не разделяла. Она преследовала свои собственные цели и, вступив в Сибирь «на плечах» интервенции, неизменно саботировала сей процесс, как только видела в этом личную выгоду.
В конце Русско-японской войны раненый Колчак попал в плен к японцам. С ним обращались уважительно, и у него не осталось никаких предубеждений против японцев. А вот они его появление в Харбине не приветствовали. Черты его характера, высоко оцененные британцами – честность, умение повести за собой, – автоматически делали его персоной нон грата для японцев. В их дальневосточных планах не было места этому русскому – неподкупному и пользовавшемуся уважением своих соотечественников. Японцы понимали, что при удобном случае Колчак навел бы относительный порядок в слабохарактерном, раздираемом дрязгами полусвете, лидерами которого японцы так легко и выгодно манипулировали, и повел бы его за собой. По этим соображениям, как только Колчак появился на арене, японцы вынесли ему приговор.
Генерал Накадзима, глава японской военной миссии в Маньчжурии, казался американскому генералу Гревсу «самым важным японским чиновником без каких-либо специальных обязанностей». Накадзима и его миссия были частью того, чему предстояло превратиться в постоянный государственный аппарат японской экспансии – маленькой, но влиятельной военно-политической организацией, подчиненной Генеральному штабу, но независимой от регулярных войск, чем-то сродни Арабскому бюро, созданному британцами в 1916 году. Самым выдающимся из его преемников был, пожалуй, генерал Доихара, «маньчжурский Лоуренс», работавший в тридцатых годах. Накадзима был человеком умным и – редкость для японского офицера – с изысканным утонченным вкусом. Прежде он был военным атташе в Петрограде и начальником военной разведки, знал русский и французский языки.
Первая беседа Колчака с ним сложилась не очень удачно. Адмирал разъяснил свои планы по расширению и координации небольших русских военных отрядов в зоне железной дороги и попросил помочь в их вооружении. Накадзима скептически оценивал шансы Колчака на успех, но согласился предоставить некоторое количество пулеметов и другого вооружения. Затем, к удивлению Колчака, японец спросил: «Какую компенсацию вы можете предложить?» Колчак заявил, что не уполномочен вести переговоры, однако оружие наверняка будет оплачено Китайско-Восточной железной дорогой. Накадзима ответил, что «денежный вопрос его вовсе не интересует», подразумевая, что его хозяева заинтересованы в неких политических уступках. Затем был поднят вопрос – не совсем уместно – о возможности направления всей японской помощи независимым русским отрядам через центральную организацию. Реакция Накадзимы на это разумное предложение не отмечена в протоколе, но вряд ли она была благоприятной. Перед расставанием генерал спросил Колчака, собирается ли тот встретиться с Семеновым, и адмирал ответил утвердительно.
Второй незначительный поход Семенова в Забайкалье закончился неудачей. Семенова оттеснили за границу, но ему удалось сохранить штаб-квартиру в Манчули. В это захудалое местечко 15 мая и прибыл специальным поездом Колчак на первую и последнюю встречу с человеком, впоследствии оказавшим пагубное влияние на его судьбу. Колчак или кто-то из его штаба предупредил о приезде телеграммой, по слухам, неудачно сформулированной. Белые русские лидеры склонны были легко обижаться, и на платформе встречающих не оказалось.
Манчули представлял собой железнодорожную станцию, расположенную в центре широкой голой равнины, и маленького китайского городка, за стенами которого теснились монгольские юрты. В таком жалком месте Семенов, естественно, не мог достойно встретить гостя, и его невежливость была демонстративной, тем более что сам он (как вскоре выяснилось) находился в своем личном вагоне недалеко от поезда Колчака. Здесь после тщетного, оскорбительного ожидания, проглотив обиду, и нашел его адмирал.
Колчак, согласно собственной версии этой встречи, вел себя разумно и ссориться не желал. Он сказал Семенову, что приехал не как начальник, а дабы выяснить, в какой материальной помощи нуждается войско атамана; в его обязанности входит координация подобных вопросов в зоне Китайско-Восточной железной дороги, а потому он привез с собой 300 тысяч рублей от управления дороги.
Колчак, вспыльчивый по натуре, имел серьезные причины для гнева; вряд ли он вел себя так смиренно, как ему казалось. Однако в любом случае, как бы тактично ни был предложен мир, вряд ли его могли принять. Уж Накадзима позаботился об этом заранее. Семенов ответил уклончиво: он, мол, ни в чем не нуждается, все необходимое получает от Японии, просить ему нечего, и никаких пожеланий и просьб у него нет. «Тогда я убедился, – вспоминал Колчак, – что, в сущности, разговаривать не о чем». На самом деле адмирал сказал Семенову, что снимает с себя всякую ответственность, и они расстались в наихудших отношениях.
За этой бесполезной встречей через несколько дней последовала беседа с Накадзимой в Харбине, во время которой Колчак потерял самообладание («Я бываю очень сдержан, но в некоторых случаях я взрываюсь»). К тому времени адмирал уже не пользовался влиянием в Маньчжурии. Более хитрый человек мог бы чего-то достичь, подыгрывая японцам, обменивая пустые обещания на оружие и деньги. Харбин был набит русскими, с некоторым успехом делавшими это в небольших масштабах. Однако хитрость даже ради благой цели никогда не была свойственна Колчаку. «Знаете, – позже, тем же летом, объяснял ему русский посол в Японии, – вы поставили себя с самого начала в слишком независимое положение от Японии, и они поняли это. Вы позволяете себе разговаривать с ними слишком независимым тоном… Они себе составили мнение о вас как о своем враге». Можно не сомневаться, прямолинейность Колчака раздражала японцев, он демонстративно злил их гораздо больше разумного, однако говорить, что он лишил себя шансов на помощь японцев своим поведением, было бы заблуждением, так как у него никогда не было ни шанса. В японском плане развития событий честный человек был не уместнее лисы в курятнике.
Пару месяцев Колчак изо всех сил боролся с недисциплинированностью и интригами, которые и при поддержке японцев, и без нее мешали всем его попыткам объединить русские вооруженные силы в зоне железной дороги. В конце концов он осознал, что, пока японцы настроены против него, все его усилия тщетны, и в начале июля передал командование и отправился в Токио, лелея слабую надежду заставить японский Генеральный штаб прислушаться к голосу разума.
Колчака любезно приняли в Генеральном штабе, выслушали его вежливые «вопросы ребром», но не придумали ничего более конструктивного, чем предложить Колчаку пока отдохнуть в Японии («у нас здесь есть хорошие места»). Ему, мол, сообщат, когда придет время для его возвращения на материк.
Колчак понял, что ничего здесь не добьется. Он страдал от перенапряжения, чувствовал себя неважно, а потому принял предложение Генштаба. Послав Хорвату по телеграфу отчет о беседе, он поселился в гостинице.
Прошло семь месяцев с тех пор, как он, получив от британцев назначение в Месопотамию, покинул Токио, семь месяцев разочарований и неудач. Будущее виделось ему в мрачных тонах. Наступил август, и интервенция развивалась полным ходом. Однако из Токио интервенция выглядела почти исключительно японской затеей, в которой вряд ли нашлось бы место русскому адмиралу, вызвавшему столь сильную неприязнь японцев. Только к концу августа Колчак получил шанс, которого, безусловно, заслуживал этот достойный и преданный своей родине человек. 31 августа глава британской военной миссии в Сибири записал: «Несомненно, он – наиболее подходящая фигура из русских для наших целей на Дальнем Востоке». Через несколько дней Колчак во второй раз покидал Токио, и во второй раз под покровительством Британии.
Глава 7
Чехи поворачивают на Запад
Чехословацкий легион, чья воображаемая потребность в помощи в июле 1918 года стала краеугольным камнем политики Антанты в Сибири, к тому времени насчитывал около 70 тысяч человек и мало походил на вооруженное войско любой другой страны.
До войны в России проживала значительная, хотя и разбросанная община чехов и словаков: словаки в большинстве своем жили маленькими крестьянскими колониями, более утонченные чехи были заняты в промышленности или торговле. Когда начались военные действия, многие из этих эмигрантов были завербованы в дружину под командованием русских офицеров. Дружина численностью не более полка поставляла в русские войска маленькие отряды специалистов для разведывательной работы. На том этапе главная военная ценность чехов и словаков состояла в их знании языков противника; они были востребованы на постах подслушивания и в сопровождении патрулей, то есть играли ту же роль, что туземцы-разведчики в колониальных войнах.
С самого начала их соотечественники, служившие в австро-венгерских армиях, проявляли сильную склонность к дезертирству. Если дезертировать не удавалось, они легко сдавались в плен. Однако долгое время русские не позволяли военнопленным записываться в дружину, в начале 1916 года насчитывавшую всего около 1500 человек. Для подобного отношения у русских было несколько причин. Очень нелегко было отличить настоящих чехов и словаков от военнопленных других национальностей, выдававших себя за них, чтобы вырваться из плена. Кроме того (и это был главный аргумент, выдвигаемый высшим командным составом), дезертиры или те, кто пытался дезертировать, уже нарушили военную присягу императору Францу-Иосифу, значит, они могли оказаться столь же ненадежными и в русских войсках.
Политики не приветствовали любые шаги, которые могли бы помешать (если бы выпал такой шанс) заключению сепаратного мира с Австро-Венгрией. Вероятно, подсознательно ощущалось – вполне естественно в империи со столь многонациональными подданными, – что было бы ошибкой поощрять все, ведущее, как вышеупомянутая дружина, к самоопределению и осознанию малыми нациями своего права на самостоятельность. В любом случае дружина оставалась символическим войсковым соединением. Чехословацкие военнопленные продолжали томиться в лагерях, хотя некоторым квалифицированным рабочим удавалось устраиваться на военные заводы.
Несмотря на многочисленные прошения и закулисные махинации, такое положение дел сохранялось до отречения царя в марте 1917 года. Временное правительство Керенского оказалось щедрее по отношению к чехословакам, чем его предшественники. Военнопленных освободили, и дружина быстро увеличилась до армейского корпуса из двух дивизий. Корпусу не хватало боевой техники, в особенности артиллерии; боевая подготовка оставляла желать лучшего, а все старшие офицеры были русскими. Однако легион, как его стали называть впоследствии, был сплоченной, способной к самостоятельным действиям боевой единицей с гораздо большими внутренними ресурсами, чем разлагающиеся дивизии русской армии. Солдаты носили русскую военную форму, украшенную красно-белым значком в виде богемского льва. Русские крестьяне, понятия не имевшие о Богемии и вряд ли когда-либо видевшие льва, принимали царя зверей за щенка. Когда же через некоторое время чехословаки стали непопулярными, русские стали называть их чехособаки.
Основатели (на том этапе только мечтавшие стать основателями) Чехословацкого государства со смешанными чувствами восприняли легион, внезапно появившийся на международный арене, словно святой Георгий, спасающий девицу в беде. Статус независимого государства – благо, для получения которого несколько позже достаточно было одного лишь желания, – в те дни предоставлялся неохотно. В долгой борьбе за государственность чешские войска во Франции, Италии и России были, по признанию Масарика, «нашим величайшим плюсом».
Двенадцати тысяч чехов и словаков во Франции и 24 тысяч в Италии было маловато для достижения громких военных успехов, но вполне достаточно, чтобы создать эффект присутствия и заставить говорить о себе на конференциях. На официальных приемах они обеспечивали полезную рекламу делу своей страны, представляя новые государственные регалии. Легион, находившийся в России, хотя и превосходил в два раза европейские силы, в этом отношении не представлял никакой, даже символической, ценности. В июне 1917 года, в период последнего бесславного наступления при правительстве Керенского, чехословаки отважно и весьма успешно сражались при Зборове, но к тому времени русский фронт обрел дурную славу, и Запад почти не заметил их подвигов. Несколько месяцев спустя в хаосе революции о легионе практически забыли. Масарик и Бенеш по вполне резонным соображениям поддерживали усилия французов перевести легион из России на Западный фронт, «театр военных действий, где должна была решиться судьба Габсбургской империи» и где услуги легиона союзникам укрепили бы претензии Чехословакии на признание ее суверенным государством.
Ни одно из достижений чехов в Европе не могло так прочно закрепить их на географической карте, как драматический и неожиданный захват Транссибирской железной дороги. По замечанию Масарика, в Америке на фоне мрачных известий с Западного фронта действия легиона приобрели «романтический ореол волшебной сказки». Однако и Масарика, и Бенеша, сновавших между Парижем и Лондоном, в затруднительном положении легиона интересовала лишь его пропагандистская ценность. Масарик, в начале того года проехавшийся по России, пришел к выводу (причем раньше всех остальных), что большевики в конце концов одержат победу. Столь же проницательный Бенеш предвидел опасности широкомасштабной интервенции с неясно определенными целями и «боялся, что наши солдаты станут первыми жертвами». В результате чешские политики официально запретили легиону вмешиваться во внутренние дела России и намечали возобновление его переброски в Европу, как только позволят обстоятельства.
В течение трех месяцев после челябинского инцидента важнейшей целью чехов была перегруппировка их отрядов, разбросанных вдоль железной дороги на 8 тысяч километров, в сплоченное и независимое войско. На этом этапе не следует представлять легион единой вооруженной силой, ведомой к определенной цели центральным штабом. На самом деле существовали три группы, столкнувшиеся со своими специфическими проблемами, взаимодействующие с различными контрреволюционными организациями и в результате имевшими разные точки зрения на создавшееся положение.
Первая группа – чехи, находившиеся во Владивостоке. 29 июня они захватили этот город, что во «взрывоопасной ситуации на Дальнем Востоке произвело эффект, сравнимый с выдергиванием чеки из ручной гранаты». Почти сразу после захвата их командир, толковый русский генерал чешского происхождения Дитерихс сообщил британскому военно-морскому командованию, что чехи более не нуждаются в кораблях, уже направлявшихся для переброски легиона на Западный фронт, поскольку собираются продвигаться к Иркутску. Вероятно, владивостокские чехи опасались за своих соотечественников гораздо больше, чем диктовала ситуация, и были полны решимости их освободить. Правда, по двум важным вопросам они были осведомлены лучше других двух групп. Во-первых, они сознавали явное нежелание союзников предоставить транспорт для находившихся во Владивостоке солдат (многие провели в городе более двух месяцев, так и не встретив ни одного офицера, отвечавшего за погрузку на корабли). Второй причиной была перспектива вмешательства Антанты: во Владивостоке всегда были склонны видеть интервенцию в розовом свете, а изгнание чехами большевиков и обретение контроля над портом значительно увеличивали ее вероятность.
Средняя группа, находившаяся в Центральной Сибири, к западу от озера Байкал, главным образом, была озабочена подавлением таких бастионов советской власти, как Иркутск и Красноярск, которые до середины июля разделяли контролируемые ею участки Транссибирской железной дороги. Кроме того, этой группе приходилось охранять сорок железнодорожных тоннелей на крутом южном побережье Байкала, разрушение которых заблокировало бы путь на Владивосток на многие недели, если не месяцы. Эти тоннели практически неповрежденными были захвачены войсками под командованием неистового Гайды в ходе ряда умело проведенных боевых операций. Что касается политического аспекта, чехи Центральной Сибири сотрудничали с Западно-Сибирским комиссариатом Омска, не чуждым показного оптимизма, как и любое другое белогвардейское правительство на заре своего существования.

Карта № 2. Расположение частей Чехословацкого корпуса, июнь 1918 г.
Инициативный офицер Чечек возглавлял третью и самую западную группу чехов, основу которой составляла 1-я дивизия. Большая часть ее во время челябинского инцидента все еще находилась в окрестностях Пензы к западу от Волги, а потому – на бумаге – в еще более опасном положении, чем остальные части легиона. Однако в начале июля Чечеку, с упорными боями продвигавшемуся на восток, удалось установить контакт с центральной группой. На ранней стадии сражений была захвачена Самара и создан социал-революционный Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания, о котором мы говорили в 5-й главе; этот режим вызывал у чехов, в большинстве своем социалистов по темпераменту и традициям, гораздо большие симпатии, чем омские реакционеры, а тесное сотрудничество с самарским правительством неизбежно влияло на их мировоззрение. Легкость, с которой чехи преодолели сопротивление большевиков, и восторженное к ним отношение как к освободителям произвели на них глубокое впечатление. Самарское правительство, чья собственная военная мощь, по всей видимости, возрастала, предложило чехам изменить направление деятельности.
Практически с любой точки зрения, от крайнего бескорыстия до абсолютного эгоизма, существовало множество причин для переориентирования с отступления на восток к крестовому походу на Запад. Чтобы добраться до Владивостока, пришлось бы с огромными трудностями преодолеть 8 тысяч километров. Даже если бы чехов поджидали там транспортные корабли – в чем все сильно сомневались, – оставалось путешествие через два океана (один из которых кишел подводными лодками) и североамериканский континент, а затем сомнительная привилегия поучаствовать под командованием иностранных офицеров в окопной войне против немецкой армии на Западном фронте. Другой вариант – остаться на месте, на Волге, и принять участие в привычных операциях против врага, которого они уже оценили, с целью, которую все понимали, а большинство одобряло. Причем – во всяком случае поначалу – в качестве старшего военного партнера. Во время войн нередко случается так, что в армии, получившей выбор, к какой из сторон примкнуть, драчун и уклонист, сорвиголова и любитель беззаботной жизни склоняются к одному и тому же. Так получилось и в этом случае.
На тотальное вовлечение чехов в Гражданскую войну повлияло несколько второстепенных факторов. Их русские офицеры, которых они, как правило, уважали, яростно ненавидели большевиков и стремились поддержать претензии Омска и Самары. Попытки распропагандировать легионеров с помощью чешских коммунистов вызвали недовольство в рядах чехов, и, более того, широко распространилось мнение – особенно после прибытия в конце апреля в Москву в качестве германского посла графа Мирбаха, – что именно Германия виновна во всех отсрочках и провокациях, а следовательно, своим ответным ударом по Советам они спасают Сибирь от красных не ради белых, а ради центральноевропейских держав.
Вдобавок чехи были убеждены, что им помогут, что Антанта запланировала скорую и крупномасштабную интервенцию и они войдут в состав огромной армии, наступающей на Москву. Это убеждение было основано не только на том, что желаемое принималось за действительное. В конце июня дипломатические представители ведущих держав Антанты передали чехам два на вид заслуживавших доверия послания, которые создавали впечатление о скорой интервенции и утверждали, что долг легиона – удерживать захваченную территорию. Одно из этих посланий – от американского консула в Москве – пришло в Самару и стало известно западной группе; другое, в котором французский посол упоминал интервенцию «в конце июня» и чехов, образующих «авангард союзной армии», было отправлено в Челябинск, и его адресатом оказалась центральная группа. Кеннан с большим мастерством размотал запутанный клубок недоразумений и ошибочных представлений, из которых возникли эти послания, причем авторы руководствовались самыми лучшими намерениями. Однако у чехов не было основания ставить под сомнение юридическую силу посланий, которые и послужили мощным стимулом для всеми покинутых и отчаявшихся войск.[18]18
Похоже, что надежды чехов на помощь Антанты подогревал один из французских офицеров связи с легионом майор Гинэ. В ноябре, когда увлечение легионеров гражданской войной испарилось, генерал Нокс, глава британской военной миссии, отмечал: «Гайда, как все остальные, обвинял майора Гинэ из французской миссии в том, что тот на протяжении последних четырех месяцев постоянно обегцал немедленную и щедрую помощь союзников». Гинэ был самонадеянным оптимистом.
[Закрыть]
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?