Читать книгу "Учитель. Том 1. Роман перемен"
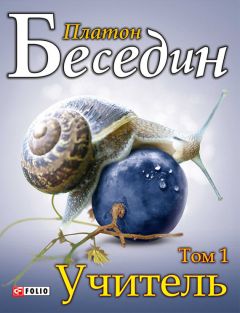
Автор книги: Платон Беседин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Никаких изменений тогда, на диванчике, я не ощутил. Но летом, между седьмым и восьмым классами, перестал есть. Вообще. Моей суточной нормой стали два пакетика лапши быстрого приготовления и вода из-под крана. Ее я пил в соседнем с футбольной площадкой дворе в перерывах между упражнениями – командными и одиночными – с мячом. Вода отдавала хлоркой, но мне это даже нравилось, потому что терялось удовольствие от вкуса, а там, где он мертв, нет и чревоугодия.
На вторую неделю от хлористой воды и быстрой лапши у меня начались боли в животе. Резкие, колющие, как удары финкой. От желудочных спазмов я мог повалиться на поле, стирая колени в кровь о щебень, прямо во время футбольного матча. Сначала игроки злились, а после смеялись. И дали мне кличку Симулянт. Но я не ныл, не обижался – терпел. Бесы похудения выполняли свою работу.
Не учел я лишь одного фактора – мамы. Она готовила с вечера, а утром рассказывала, что мне есть в течение дня, но, возвращаясь вечером с работы в тесную кухню, где нужно было извиваться, чтобы протиснуться между шкафами, находила блюда нетронутыми.
Тогда мы жили в однокомнатной квартире на улице Острякова. С жильем помогла единственная мамина подруга, Зина Семенова. Мама предлагала ей денег, но та отказалась. Больше у нее подруг не было. Только знакомые из церковного хора в Каштанах.
Квартира оказалась симпатичной. С новой белой сантехникой в крошечной ванной комнате, отделанной бледно-розовой кафельной плиткой. Стиральная машинка и содержимое аккуратных шкафчиков достались нам от тети Зины. Правда, ванная, о которой я так мечтал, живя в деревне, была небольшой, сидячей, не вытянешься. Впрочем, после купальных процедур в деревне она казалась едва ли ни счастьем.
Баня в нашей каштановской хате располагалась в пристройке, сложенной из камней, мусора, кирпичей. Сырое, темное помещение с низким, давящим потолком. Вдоль левой стены тянулся деревянный стол, на котором лежали тазы, ведра, куски мыла, тряпки, мочалки, коробки со стиральным порошком. Справа на печке с ржавой дверкой стоял металлический бак. Чтобы помыться, нужно было разогреть в нем мутную с известняковым осадком воду. Нарубить дров, растопить печку. После чего принести таз с холодной водой, ковшики. И, пыша паром, вдыхая влагу, обливаться, стоя на деревянном поддоне. Все это превращало купание в сложный, напрягающий ритуал. И если летом он доставлял хоть какое-то удовольствие, то промозглой осенью и студеной зимой становился пыткой, когда, завернувшись в банный халат, распаренным, мокрым приходилось бежать через суровую зябкость в теплую хату.
Так что ванную в квартире на Острякова я оценил быстро и научился получать удовольствие от купания, приспособившись закидывать ноги вверх, уперев их в теплый от горячего пара кафель.
Больше ванной мне нравилась лоджия. Десятка сантиметров, наверное, не хватало, чтобы поставить в ней раскладушку, но, когда мамы не было, я растягивался на полу и пялился в обветшалый потолок, отыскивая в пятнах отвалившейся штукатурки контуры стран, чаще всего находя Алжир, Новую Зеландию, Чили. В навесных шкафчиках хранилась консервация, и я особенно любил айвовые компоты и баклажановую икру.
Еще был узкий коридор с двумя продолговатыми шкафами, купленными за смешные, как говорила мама, деньги. И в коридоре, и в комнате, и в кухне стены были обклеены обоями с изображением березовой рощи. На деревянной подставке стоял дисковый телефон.
В школьные дни, примостившись на стульчике рядом, я, приложив к уху пахнущую предыдущими жильцами трубку, играл со своим единственным школьным приятелем Ромчиком в футболистов, как обычно играют в города. Впрочем, это скорее напоминало не подростковую игру, а последнюю битву, жестокое ристалище, где ни в коем случае нельзя было проиграть, уступить. Поэтому фамилии футболистов назывались, а порой выдумывались, до позднего вечера, пока мама ни гнала меня на вечернюю молитву.
Я злился, но становился перед киотом, смиренный ледяной кротостью ее серо-голубых глаз. Мама молилась рядом, спрятав светлые волосы под неизменный бело-голубой платок Антония Печерского, привезенный ей из Киево-Печерской лавры. Но мне было не до молитвы. Вместо Богородицы, Иисуса Христа, Николая Угодника, Ефрема Сирина я думал о Бернаре Лама, Андрее Пятницком, Виталии Косовском, Даворе Шукере, Зазе Джанашии. И даже, укладываясь спать на разложенное кресло-диван, травмирующее спину пространствами между составными частями, я продолжал вспоминать футболистов, хотя, казалось бы, все они уже давно были названы.
Победителей в наших сражениях с Ромчиком никогда не было. Под конец мы чаще всего называли либо выдуманные фамилии, либо те, что уже говорили, поэтому все это действо логично заканчивалось спором, обидами и клятвами – знала бы мама, из-за каких мелочей я грешил, – никогда больше не разговаривать друг с другом. Но проходило максимум двое суток, и мы сходились в пантеоне футбольных божков и полубожков вновь, как два ницшеанца, обреченных повторять ошибки снова и снова.
Играли мы в школьное время, потому что на все лето Ромчик уезжал в Андреевку. Купаться, есть черешню, персики и арбузы.
Наше общение с Ромчиком могло бы стать чудной иллюстрацией к выражению «противоположности притягиваются». Я болел за московский «Спартак», он – за киевское «Динамо»; я – за «Хьюстон Рокетс», он – за «Чикаго Буллс». Мне нравились «Роллинги», а ему – «Битлы». Кажется, единственное, что нас объединяло – это безотцовщина.
При таких отношениях телефонная игра в футболистов оказывалась своего рода интеллигентной сублимацией мордобоя. И то, что притягивало нас с Ромчиком друг к другу, возможно, было уродливой, извращенной формой ненависти.
Но с годами, особенно первое время жизни в Киеве, я ностальгировал по игре в футболистов, хотел встречи с Ромчиком. И при этом мысль о нем рождала ненависть, ярость, на смену которой приходило тягучее, вязкое, беспросветное отчаяние, связанное почему-то с матерью. С ее экономностью, переходящей в скупость.
Когда я учился в седьмом классе, модными стали клетчатые шерстяные рубашки наподобие тех, что носили ковбои в вестернах. У всех мальчиков в классе были такие. Кроме меня.
Я редко просил у мамы купить что-нибудь, но тогда клетчатая рубашка превратилась для меня в страсть. Я выпрашивал ее слезно, упорно. И в четверг – до сих пор где-то валяется календарик с отмеченной мною датой – мы пошли в ателье на улице Геловани. Там располагался трехэтажный Дом быта, в нем постоянно снимали помещения. Арендаторы менялись стремительно: там, где располагался ремонт обуви или часов, вдруг появлялся салон быстрой фотографии или книжный магазин, которые в свою очередь сменялись канцтоварами или сувенирной лавкой. Но ателье на первом этаже было неизменно. Хотя я никогда не видел в нем посетителей.
Вот и тогда в ателье были только сотрудники.
– Мы хотели бы купить сыну рубашку, – по обыкновению тихо сказала мама, и женщина-медуза, орудующая портняцкими ножницами, махнула ими в сторону. Даже не стала спрашивать, за какой именно рубашкой мы пришли. Тогда все покупали шерстяные клетчатые.
Рубашки висели в ряд, и мама сказала:
– Выбирай!
– Любую? – удивился я.
Она кивнула. Я хотел присмотреться, выбрать, но побоялся, что мама передумает, и, суетясь, второпях ткнул пальцем в черно-зеленую рубашку. Ткнул удачно – крупная клетка, некусачая шерсть.
– Уверен?
– Да!
И женщина-медуза отвлеклась, чтобы снять для меня рубашку. В ней я проходил седьмой, восьмой, девятый классы, а после хотел отдать деду, но он умер, и пришлось пустить ее на тряпки.
Пожалуй, это был единственный случай, когда я просил, а мама тратилась. Впрочем, на мне она старалась не экономить – зато жестко урезала себя. Траты для нее были усилием, а траты бессмысленные – подвигом.
В тот вечер, вернувшись с футбола, я застал маму, сидящую за кухонным столом перед горкой крупных тыквенных семечек.
– Привет, – сказал я и сразу попытался уйти в комнату, чтобы выучить составы «Бастии» и «Монако».
– Постой. Подойди-ка сюда, – оборвала мое намерение мама. – Сядь.
Я нехотя сел. Принялся считать семечки, чтобы отвлечься.
– А ну-ка скажи мне, – мама двинулась телом, и кухонный стол заездил на ножках, под которые для равновесия были подложены свернутые осьмушкой газеты, – чем ты питаешься?
– В смысле?
– В смысле, что ты сегодня ел?
– Суп, котлеты из кролика, – я вспомнил утренние наставления.
Мама дернулась назад, бросив с досадой:
– Ну, что ты врешь, а? Суп целый, котлеты нетронутые. Что происходит, Аркаша? Ты ничего не ешь! Весь высох! Зачем ты себя гробишь?
Голос ее дрожал, то ли от строгости, то ли от переживаний, но даже если бы она плакала, я не смог бы разделить ее страданий. «Высох» – этот сладкий, как вата в Комсомольском парке, приговор ублажал меня, подтверждая, что бесы похудения работают качественно. Я был счастлив.
А мама портила мое счастье. Хотела отнять, забрать его. Потому долбила обвинениями, упреками, наставлениями есть, кушать, жрать. И воспринималась как враг.
– Не хочу жрать! Не буду! Будь ты проклята со своей едой!
– Аркаша, да что с тобой, сынок? Ну ведь надо же кушать! Ты же себя угробишь!
– Не буду! Отстань! – кричал я.
Мама меняла тактику – соглашалась, но спустя какое-то время наседала вновь. Мы, плача, спорили. Мама хваталась за бельевую веревку. Несколько раз хлестала меня ей как ремнем, и я вопил еще пронзительнее, а она заливалась валокардином, осознавая, что приносит тому, ради кого живет, боль.
Я сдался, когда маме вызвали «скорую». Старый РАФ приехал, взвизгивая мигалками и тормозами. Остановился у мусорки, закрыв вечно смердящее пятно от вытекающих из урн отходов. Седой уставший врач зашел в коридор, обдав резким табачным запахом. Следом вплыла медсестра – молоденькая, но еще более уставшая, с темными мешками под осоловелыми глазами.
Они прошли в комнату. Расспросили маму, измерили давление, пульс. Поохали, достали аптечку, переругиваясь, сообщили, что надо вколоть лекарство, но на всех не хватает, поэтому только за деньги. Мама – слабая, бледная, расстроенная – вытянула руку. Край ее платья сполз вниз, обнажая красное родимое пятно на внутренней стороне локтя. Я, растолковав ее жест, спросил врача:
– Сколько?
Он назвал цену. Мама выдохнула. Я отсчитал деньги. Медсестра с заиндевевшим выражением лица разбила ампулу, набрала ее содержимое в шприц, вколола.
– Ей надо отдохнуть, завтра все будет хорошо, – не желая уходить, произнес врач в коридоре.
– Хорошо, спасибо вам огромное. – Я взялся за край двери.
Он вышел, гулко стуча каблуками. Из коридора пахнуло вонью кошачьей мочи. Послышалось мяуканье.
Соседка через квартиру напротив держала у себя кошек. Больше десятка, наверное. Впрочем, домашними тварями она не ограничивалась и подкармливала бродячих, расставляя по коридору миски, в качестве которых использовала коробки из-под масла «Рама». К ним стекались мяукающие твари, и подъезд все больше пропитывался монолитной вонью, проникающей в каждую щель здания.
– Аркаша, сынок, иди сюда…
– Иду, иду, мама. – Я зашел в комнату. – Как ты?
– Ты за меня не переживай. – Она провела холодной ладонью по моему лбу. – Главное, будь умницей…
И по измученному лицу потекли слезы. Мне надо было успокоить ее, ответить, и я, давясь словами, как рыбьим жиром в детстве, прошептал:
– Все будет хорошо, мамочка, я начну есть, обещаю…
Почти сразу же она уснула. А я вышел на лоджию, включил свет. Хотел сначала читать «Спорт-экспресс», но, посмотрев на ночной двор, прилип взглядом к звездам и не мог оторваться.
Несмотря на обещание, есть я не стал, зато придумал новую отличную схему – приготовленную с вечера мамой еду скармливал дворовым псам и кошкам, а жидкое – борщи, кисели, супы – выливал в унитаз. Мама возвращалась домой с пакетами, переодевалась в домашнее и, не отдыхая, шла на кухню, проверяла мной якобы съеденное, готовила, а затем допоздна просиживала за столом, занося цифры и буквы в таблицы, которые она заполняла своим прыгающим нервным почерком.
Через несколько месяцев, наблюдая за мной, выжатым, исхудавшим, – я даже заслужил в школе кличку Трофи, сокращенно от дистрофика, чем очень гордился – мама, не понимая, что происходит, ведь оставленная утром еда исчезала из кухни, начала терзаться, расспрашивать, переживать, хотела вести к врачу, но затем, похоже, смирилась. Я же, перетерпев боли, слабость, головокружение, почти радовался своему отражению в зеркале.
К концу лета старый гардероб перестал мне подходить. Перед школой мама купила мне новый: штаны, джинсы, рубашку, футболки, свитера, пайту – самое необходимое. Она отдавала деньги продавцам трясущимися руками, и то ли новые морщины добавлялись на ее бескровном лице, то ли прежние становились глубже.
Первого сентября в школе меня не узнали. Модные дизайнеры могли бы гордиться мной. Мужская версия Кейт Мосс – живой символ анорексии. Учителя смотрели пугливо, с опаской, мальчики прикалывались, а девочки боялись заговорить со мной сильнее прежнего. Но я был доволен. Триумф же случился тогда, когда Маша, увидев нового меня, ахнула, отвернулась, вновь посмотрела и вновь отвернулась. Я торжествовал и еще сильнее втягивал щеки.
Описать мое тогдашнее состояние можно было лишь общим, простецким словом – «хорошо». Потому что испытывал я не счастье, но некое абсолютное ощущение покоя, примиряющее меня с собой, людьми, действительностью.
Довольный я вернулся домой, встал перед зеркалом в ванной. Долго рассматривал себя. Ребер не видно. Живот не прилип к спине. Щеки не вдавлены. Нет, я еще не достиг совершенства. Только сделал крошечный шаг. Надо было идти дальше.
Но то ли бесы исчезли, то ли в организме сработал предохранитель – я оставался в таком же состоянии, как и на первое сентября. Законсервировался. Ни килограмма в плюс, ни килограмма в минус.
И ощущение жира на боках, животе, груди, ляшках развилось во мне с новой чудовищной силой. Переодеваясь, я еще резче отворачивался, прятался от других, а дома, осматривая себя в зеркале, находя жир, до боли сжимал его пальцами, стараясь расплющить, размять, чтобы превратить в сальное пятно, которое можно было бы стереть тряпкой. Это походило на аскезу по усмирению плоти, но дух мой треснул, ослаб.
В восприятии себя я оставался жирным. И мне надо было жить с этим. Чтобы однажды – я думал об этом поступке каждый вечер, когда, помолившись, укладывался спать – не прыгнуть в костер, который мог бы растопить весь мой жир, дабы я наконец стал нормальным.
До сих пор я живу с этим чувством и ненавижу, когда бабушка, или мама, или кто-то еще навязывают мне еду, предлагая поесть.
Сейчас, перед свиданием с Радой, я должен пестовать голод особенно тщательно, чтобы он полностью вытеснил мысли о жире. Но бабушка, причитая, какой я худой, сует мне блинчики с творогом, суп с фрикадельками и компот. Я злюсь, отбиваюсь и убегаю в хату. Отойди, отстань, бабушка! Не лезь, чтобы я не доводил тебя так, как маму тогда, вечером, на улице Острякова. К тебе-то ведь «скорая» не приедет. Лучше дай мне собраться, одеться, взять дерево и мастерок. И успеть на свидание с Радой.
7
Надо приехать на площадь Захарова раньше. Сделать приготовления. Спрятать мастерок, дерево в установленном месте. И ждать Раду у автобусных касс. Нервно, суетливо, волнительно. В ожидании Рады; Беккет выбрал не то название.
Хочется, чтобы рядом со мной был Квас. С его вечной шариковой ручкой в зубах, ухмылкой под Кита Ричардса и спортивной сумкой, в которой он принесет тишину. Но его нет, и я топчусь на месте, устаю и начинаю ходить вдоль берега моря, мимо бетонного забора, украшенного изображениями российского триколора и надписями вроде «Крым – Россия!» или «Севастополь – Черноморский флот – дружба». Бубню вычитанную у Луизы Хей – мама отвергла ее как не православную литературу, а мне понравилась – аффирмацию «я люблю и одобряю себя».
Рада приезжает – пятнадцать минут опоздания разрешается английской королеве, но за сорок восемь разве не отстраняют от престола? – на рейсовом автобусе номер «36». Пахнет от нее так же, как от ее письма – оглушающе терпко. Дышится мне с трудом.
Еще труднее смотреть Раде в глаза, а не в сторону, как обычно. Но смотреть, вспоминая ее письмо, надо. Томный, завлекающий взгляд. Вообще вся она, как подходящее дрожжевое тесто – распаренное, податливое, мягкое, – трогай руками, мни.
Я выталкиваю вперед руку, тянусь к ее ладони – так медленно, что подвисают стрелки часов – и все-таки сцепляю на ней пальцы. Теплая, мягкая, нежная плоть. Ивлин Во ошибался. Рада улыбается, и, обнадежившись, я говорю:
– Пошли!
Правда, на репетициях я произносил «идем». Властно, конкретно, словно Терминатор, протягивающий металлическую лапищу Саре Коннор и монументально чеканящий: «Идем со мной, если хочешь жить».
Держусь справа от Рады, согласно полученной от нее в прошлый раз инструкции: если нападут хулиганы, то так мужчина сможет защитить даму. Хотя мне больше нравится объяснение из «Крокодила»: «Женщина идет с левой стороны от мужчины, чтобы, когда он посмотрел налево, то увидел ее».
Украдкой посматриваю на Раду, фокусируясь на ее груди. Белый топ, надетый под расстегнутый джинсовый пиджак, обтягивает ее и поддерживает снизу, лишь прикрывая соски. Но с высоты своего роста я вижу два трепещущих, поднимающихся от дыхания холма, хотя больше – не знаю почему – меня волнует пространство между ними.
Я вижу женскую грудь, не считая маминой в детстве, столь открытой, так близко первый раз в жизни. И подмышки властными липкими касаниями трогает испарина.
Для кого так оделась Рада? Для меня! Это же очевидно. Больше не для кого.
Эта мысль радостная. И греховная – так пса моего тщеславия еще не кормили. Но более всего эта мысль пугающая – значит, Рада настроена на… Вздрагиваю, не в силах произнести; испарина уже не касается – теперь она и есть я.
Стараюсь, дабы питать разговор, нести так называемую милую околесицу. Правда, заготовленные, точно дрова на зиму, анекдоты, шутки забылись, предательски скрылись в сумраке памяти, и приходится импровизировать. Не слишком удачно.
Я силюсь вспомнить хоть крупицы из того, что заучивал три вечера подряд. На ум приходит лишь один анекдот, папин любимый.
– Знаешь, кто умнее прапорщик или обезьяна? – говорю я.
– В смысле?
– Ну, анекдот такой есть, кто умнее, прапорщик или эта, как ее, обезьяна.
– А, – Рада поправляет круглые серьги, – расскажи.
Я замолкаю. Отдергиваю руку, чтобы Рада не пропитывалась моей паникой.
– Ну, рассказывай…
– А ну да, – надо собраться. – Так вот, решили выяснить, кто умнее прапорщик или обезьяна. Кто, в общем, быстрее сорвет с дерева банан. Обезьяна трясет час, трясет два, наконец замечает палку рядом, берет, сбивает банан. А прапорщик трясет и трясет. Ему говорят: «Товарищ прапорщик, вы, может, подумаете, а?» Он, значит, останавливается, смотрит и говорит: «Чего думать? Трясти надо!»
Рада сдержанно улыбается.
– Не мытьем, так катаньем.
Дальше идем молча, скованно, напряженно. Хорошо, что на лестнице открывается панорама Северной бухты и городской стороны. Севастополь вспыхивает оживающими светлячками, и придорожные фонари, которые отремонтировали полгода назад, реанимировав после коматозной тьмы, тянутся сверкающими диадемами.
– Красиво, – восхищается Рада, и я горд, что наконец-то привел ее – ну или почти привел – туда, где ей нравится.
До этого мы гуляли в странных местах. На немецком кладбище. Среди заброшенных могил, поваленных крестов, в бурьяне надгробий. По невспаханным полям, где поросший желто-зеленым мхом камень воспринимался как достопримечательность, а в ямах валялись обветренные черепа с дырами во лбу. Среди развалин конюшни, по периметру которой ржавела колючая проволока.
Конюшню строил Ярослав Панченко, приятель Эдуарда Балтина, разбогатевший на дележе Черноморского флота, списывая боевые корабли на металлолом в Индию и Китай, отдавая в бессрочную аренду флотские поликлиники, учебные центры, дома культуры. В конце девяностых Панченко застрелили. Он вышел из принадлежавшего ему торгового центра, хотел сесть в «мерседес», но из подъехавшей серой «копейки» выскочили автоматчики и, как пишут в газетах, открыли прицельный огонь. Сначала убили охрану, а затем погнались за самим Панченко, убегавшим по улице Суворова. Автоматчик почему-то не стрелял, а мчал следом. Так они и бежали, мимо витрин с шоколадками и сигаретами, облетающих тополей и предынфарктных людей. Будто решили сыграть в GTA. В газетах писали, что киллер и жертва бежали в абсолютной тишине. Точно все ждали развязки. Пока киллер в упор ни разрядил обойму.
Помню, читая об этом, я все хотел понять, о чем думал Панченко. О миллионах? О конюшне? О торговом центре? О списанных кораблях? О семье? Теперь память о нем в пыльном венке у муниципальной аптеки, а конюшня за несколько лет превратилась в руины.
Но в этот раз место для свидания выбрано четкое – у памятника гвардейцам, форсировавшим Северную сторону.
Через бухту они переправлялись на лодках, плотах, досках. Черные точки, разбросанные по морю. Фашисты располагались на обрыве. Удобно вести огонь. Море окрасилось в красный. Но укрепление захватили. Гвардейцами командовал генерал Захаров, в честь которого и названа площадь, где мы встретились с Радой. Выжившие заложили памятник – пирамидальный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой, окруженный четырьмя меньшими обелисками с колосьями на верхушках. «Гвардейцам-героям Севастополя». В темноте кажется, что памятник выполнен в мистической египетской эстетике.
Надпись на обелиске гласит: «В груди великого города будет вечно биться сердце русской славы». К ней добавились новые – уродливые, подчас варварские – письмена, нанесенные уже в независимое от советского прошлого время: «Анархия – мать порядка», «Кабан любит Лелю». Кто-то – самый ловкий, целеустремленный, дурной – ухитрился нарисовать на верхушке, под звездой главного обелиска черную свастику.
Но я привел сюда Раду не из-за памятника, а потому, что с горы, на которой поставили обелиски, открывается лучший вид на ночной Севастополь.
Перейти через ограждение, постелить клетчатый плед, усесться на краю обрыва, глядя, как накатывают волны, а у берега на якорях застыли подсвеченные красными, зелеными желтыми маячками боевые, гражданские корабли. Зрелище расслабляет. Возможно, здесь все может случиться.
Достаю термос, стаканчики, говорю:
– Я на секундочку…
Оставив Раду одну, подхожу к краю обрыва, где в можжевельнике я спрятал мастерок и дерево для сюрприза. Спрятал так надежно, – колотится, беснуется сердце – что ищу их долго, волнительно, измазываясь в грязи. Когда возвращаюсь назад с мастерком, Рада ойкает, отшатывается назад. Мне приходится говорить, успокаивая:
– Это сюрприз.
– Мило…
Помогаю Раде подняться. Она ежится, хоть и апрель удивительно теплый, набухающий почками раньше времени, струящийся умиротворяющим, сладким эфиром. Скидываю пиджак – форменный, черный в тонкую белую полоску, с классическими лацканами и рукавами, он совершенно не подходит к светлым джинсам, – накидываю его Раде на плечи. И начинаю копать. Так усердно, что, боюсь наткнуться на останки гвардейцев. Потрошу землю с пластмассой, полиэтиленом, металлом, кусками линолеума, битума в ней.
Докопав, возношу дерево, точно Прометей факел, – на морском берегу, у советских пирамид выглядит это эпично – и декламирую отрепетированную до судорог скул речь. Настроение игривое, хочется, как мужчине в самом расцвете сил, пошалить. И это настораживает, потому что, когда подобная игривость силком нацепляет маску, случается нечто пакостное. «Вечером смеешься – утром будешь плакать», – так любит повторять мама; не самая обнадеживающая родительская установка.
Рада скучает. На дерево не реагирует. И даже привязанная атласная ленточка, на которой я черным маркером округлыми, дышащими стараниями влюбленного буквами вывел «Аркадий и Рада – вместе навсегда!», не меняет приговаривающей скуки ее лица. Но я обязан держаться плана.
– Теперь это дерево будет расти, символизируя нашу… – осекаюсь.
– …близость, – улыбается Рада, и я понимаю, как должен сейчас поступить, но панический страх, удушая, сковывает.
Ее лицо приближается ко мне, и я неловко, через усилие тыкаюсь в подставленные губы, влажные, сладкие от помады, и тут же, испугавшись собственной решительности, отстраняюсь назад, пряча взгляд. Но Рада грубым, мужским, движением притягивает меня к себе, целует. По-взрослому, с языком.
Помидоры… Вспоминаю тренировки на маринованных помидорах. Впиваюсь в губы так, словно Макс Шрек решил оторваться на съемках у Фридриха Мурнау. Рада вздрагивает, отстраняется, улыбается:
– Не так сильно, сладкий! Расслабься…
Вновь целует меня. Я честно стараюсь расслабиться, но вульгарное «сладкий», словно за пузырь самогона ты подцепил сельскую шлюху, вламывается в сознание, устраивая там дестрой.
Обрываю поцелуй. Глаза Рады закрыты. Она еще инстинктивно тянется ко мне. И это усиливает ощущение вульгарности происходящего.
– Подожди.
– Еще один сюрприз?
Между тремя кипарисами лежит купленная у беззубого татарина красная роза с длинной шипастой ножкой. Это, действительно, еще один сюрприз, но я иду за ней скорее для того, чтобы потянуть время.
Цветок, хоть и стоит в иерархии флоры ниже дерева, воодушевляет Раду. Она улыбается, потупляет глаза, шепчет «мой маленький» и хочет отблагодарить поцелуем.
Мне приходится отвечать, лишний раз чувствуя свою неопытность, ущербность. Женщины взрослеют раньше мужчин. И это отставание, разверзшееся пропастью. Кто я для нее? Подопытный? Цуцик? Ученик? Тимуровские штанишки, белая рубашонка, коротенький галстук – девственник приперся в бордель, чтобы подарить шлюхе коробку любимых барбарисок. Ей надо бы промолчать, проявить деликатность, обучив между делом, легко, ненавязчиво, но она разъясняет искусство любви вслух.
Не стесняйся, будь нежнее. Постарайся расслабиться. Не торопись, не напирай. Играйся со мной, заманивай. Проведи рукой по волосам, коснись мочек ушей. Не зацикливайся на поцелуе.
Безвольно мусолю ей шею; лишь бы не видела моего лица, лишь бы не слышать ее бесконечных избитых фраз.
– Поцелуи не только приятны, но и полезны, – может сказать она с таким видом, словно только этой фразы мне и не хватало, но вот теперь она проговорена, и я сразу успокоюсь, окрепну. Хотя до этого я, готовясь, изучил о поцелуях столько, что можно читать лекции.
Поцелуи уменьшают выработку гистамина, вызывающего сенную лихорадку. Служат прививкой от цитомегаловируса, опасного при беременности, вплоть до церебрального паралича или смерти ребенка. Нормализуют кислотность полости рта. Снимают приступы вегето-сосудистой дистонии. Избавляют от стресса. Повышают тонус и настроение. Стройнят.
Знаю это так же четко, как и то, что при поцелуе легко заразиться герпесом, гепатитом В, сифилисом. Есть даже так называемая «поцелуйная болезнь» – мононуклеоз, вызываемая вирусом Эпштейна – Барра.
Вспоминая о ней, я останавливаюсь, замираю.
– Что-то случилось, милый?
«Милый» лучше, чем «сладкий». Но тоже отдает пошлостью. Где Рада набралась этих фраз? И почему я, будто мне семьдесят девять и пора умирать, так критичен?
Здесь, у моря, на котором отражаются огненные блики ночного города, у кораблей, где спят или несут вахту люди, у берега, который, пройдет месяц, населят шумные, распаренные туристы, все не случится. Я не готов. Мне надо взять передышку. Уйти домой.
– Надо идти. Нам с тобой.
Рада смотрит на меня удивленно, затем насмешливо, и едкая, точно выжженная кислотой, ухмылка перекашивает ее лицо. Стараюсь не смотреть на нее, глядя себе под ноги, на каменистую, поросшую серо-зеленой полынью землю, но даже так, без звуков и взглядов, ощущается ее дьявольское презрение.
– Что такое? Что я сказал смешного, Рада?
– Ничего. Ты ничего, и я ничего, правда, Аркадий?
– Тогда нам пора домой.
– К мамочке, да? Ути-пути…
Слова ее детские, но лицо старчески злое. Надо бы ответить ей по-мужски, так, чтобы поставить на место, но выходит лишь:
– Не твое дело, идем! Опоздаем на автобус!
– Да пошел ты!
Она взмахивает руками, идет от меня прочь, в сторону памятника гвардейцам. Я быстро собираю в пакет термос, плед, хватаю мастерок, бегу за Радой.
Позже, когда я буду встречаться с девушками, разными, но в то же время неуловимо похожими, это мое преследование, хождение по мукам вслед за обидевшейся обидчицей станет нормой, которая вновь и вновь будет напоминать мне о слабости, зависимости моего характера. Все эти девушки навяжут мне свою волю легко, без особых на то усилий, потому что я сам буду искать, алкать их рабства, не способный принимать четких самостоятельных решений.
Волоча мастерок, пакет, я иду за Радой, а внутри рождается странное, извращенное возбуждение, которое поднимается откуда-то из области паха и томными кругами, словно камень швырнули в озеро, расходится по всему телу.
– Подожди, успокойся!
Догоняю ее, хватаю чуть ниже плеча. Разворачиваю.
– Стой!
– Убери руки!
– Да что случилось?
– Ничего, вообще ничего, – она вновь расчехляет пушки сарказма, – притащил меня черт знает куда и ходишь вокруг да около. Рано тебе быть импотентом!
– Я не импотент!
– Ну, так поцелуй меня как мужчина!
Схватив за лацканы пиджака, она притягивает меня к себе. Грубо, бесцеремонно, словно трубку фиброгастроэндоскопии, просовывает язык в рот.
В газетах, которые бабушка с мамой хранят в бане для растопки печки, я больше всего люблю рубрику «Полезные советы». «Как вылечить геморрой жабьими брюшками» – почти Хармс. А рядом что-нибудь адекватное, вроде: «Если взволнованы, дышите животом».
Когда Рада исследует пространство моего рта, я вспоминаю «полезный совет», и живот ходит мехами аккордеона, на котором отец пробовал учить играть меня в детстве. Рада, похоже, принимает это за возбуждение. Хотя я, конечно, с трудом представляю себе, как вживую, в реальном, не телевизионном, мире выглядят сексуально возбужденные девушки.
Она льнет ко мне, прижимается, обволакивает. Мои глаза открыты, и я вижу, как раздуваются ее ноздри. Рада зажимает мою ногу между своими ногами, елозит на ней. Понимание того, что я, безнадежный девственник, могу возбудить взрослую опытную девушку, наливает меня силой, уверенностью. Здоровая крепкая эрекция всего тела.
Правой рукой обхватываю ее бедро, притягиваю к себе. Она испускает нечто вроде стона и еще крепче прижимается ко мне. Кладу левую руку на ее другое бедро. Видимо, приняв мой жест за предложение, она запрыгивает на меня. Держу ее на весу. Точь-в-точь как герой-любовник. Но слабый, хилый герой-любовник. Мне бы книги носить, а не страстных девушек.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































