Читать книгу "Учитель. Том 1. Роман перемен"
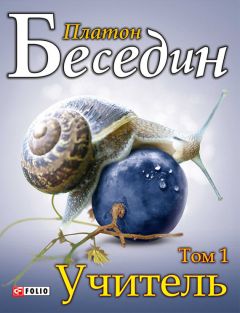
Автор книги: Платон Беседин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ирина Викторовна просила в университете расчет. Хотела уехать на родину, в Алтайский край, но ей не дали. Уговорили, отправили подготавливать абитуриентов в Песчаное. Сняли одноэтажный домик, отделанный розовой плиткой. Странная в своей заботе о людях практика как для института постсоветского времени.
Первый месяц Киреева регулярно вызывала меня к доске. Просила решить задачу. Я нервничал, заикался, точно Леха Новокрещенцев в школе. Решение я знал, но смущали вечно заляпываемые в дороге штаны и ботинки, которые в сочетании со старомодной одеждой стесняли перед оценивающими взглядами одногруппниц.
Выхода было два: либо превратиться в изгоя – “Gramma take me home”, – либо адаптироваться к учительским вызовам. Неожиданно для себя я выбрал второе. В этом мне помог Квас. И его красная спортивная сумка с нашивкой “In Utero”.
Ее он постоянно таскал с собой. Тетрадей, учебников Квас не носил – только запас ручек, – потому я не мог сообразить, для чего ему эта сумка. Пока однажды он ее не раскрыл.
Валил мокрый снег, падающий на лицо слюнявыми поцелуями неопытных семиклассниц. Я в мокрой куртке терся у входа, под ржавыми остовами турников. Квас появился со стороны сточной канавы, злой, насупленный. Спрашивать его о причинах дурного настроения было всегда бесполезно – не отвечал. Но тут он начал говорить сам:
– Ничего, блядь, не замечаешь?
Я присмотрелся:
– Вроде бы нет…
– А боты, блядь, боты! – Квас сокрушенно взмахнул сумкой. – Родственнички презентовали! – цедя эти слова, он как бы соревновался, какое из них ему более отвратительно.
Его ноги были упакованы в нечто похожее на деревянные колодки тошнотворной расцветки.
– Мрак!
– Да ладно, чего ты? – успокаивал я, но хотелось смеяться.
– Хер с ними, – вздохнул Квас. – Давай раз боты, сука, такие, накатим!
Я вздрогнул. Через пятнадцать минут начинались занятия. Да и выпивал я преимущественно один, так как стеснялся употреблять алкоголь при людях. Особенно раздражали домашние посиделки с фразами вроде «А чего это Аркаша не пьет? Лучше уж дома, чем в подворотнях».
– Да мы по чуть-чуть, не ссы…
Прячемся в укреплениях на заднем дворе школы. Укрепления – землянка, стенки, лабиринты из металлических труб, – видимо, предназначены для занятий по допризывной подготовке юношей. Раньше эта дисциплина называлась «Начальная военная подготовка», и так мне нравилось больше. От юношей в укреплениях – битое стекло и сморщенные блямбы высохших экскрементов, от армии – несколько шин, выкрашенных в защитный цвет.
Устраиваемся на каменном выступе с надписью «Артем, я люблю тебя и выйибу в жопу». Надеюсь, это не военрук писал.
Квас ставит сумку, жужжит язычком молнии. Внутри – пузатая бутылочка «Первака», квашеные огурцы в полиэтиленовом пакете и свертки, замотанные в мятую фольгу. В них – влажная, вареная свекла, порезанное сало, горбушка черного хлеба.
– Давай по одной, – Квас достает металлические стопочки, булькает водки, – закусываем…
Вот почему его называют Квас.
С водкой в желудке терпеть Кирееву легче. И даже привычный выход к доске только добавляет позитивных эмоций. Мел движется плавно, слова льются певуче – этакая песня решения интегралов, – и я увлекаюсь настолько, что начинаю красоваться, вводя в ступор не только Кирееву, но и Таню Матковскую, чье лицо напоминает куриную жопку. Квас подмигивает, не выпуская изо рта колпачка ручки.
После столь вдохновленного ответа вызывать меня стали реже. Да и я уже не терялся, а наоборот – пытался фраппировать; слишком забавным казалось лицо Тани.
Физика мне давалась сложнее. Хотя, по словам Кваса, еще не придумали более легкой науки: есть «дано», есть формулы – соединяй, решай. Но не получалось. Может быть, лирик во мне душил физика.
Зато преподавательница – Варвара Петровна Калдаева – относилась с симпатией. А вот Кваса за его манеры третировала. Каждое занятие мы слушали ее сакраментальный вопрос:
– Васильев, где твоя ручка?
Квас тут же вытаскивал ее изо рта, слюнявую, жамканную, и медленно произносил:
– Вот она, Варвара Петровна!
При этом олимпийским факелом он выставлял ручку перед собой, от чего лица впереди сидящих девочек трогала совершеннейшая брезгливость.
– Так не грызи ее, а пиши ею! – припечатывала стол Калдаева.
Все это напоминало скорее детский класс, нежели занятие с абитуриентами, если бы не вульгарные школьницы впереди.
Квас на Калдаеву не злился, говорил, что хорошо бы с ней выпить, но не предлагал, будучи уверенным в том, что она потребляет исключительно шмурдяк, а сам он признавал только водку. На чем основывалась его знание – неизвестно. Но Калдаева и, правда, отличалась похмельной грустью лица.
Потом, вернувшись в село, я встречал ее в нашей церквушке, бьющей поклоны перед старинной иконой Николая Угодника. Выглядела она точно так же, как и на подготовительных курсах.
Сильнее всего я нервничал на коллоквиумах, которые всегда писал хуже Кваса. Это злило, доканывало меня. Ведь большую часть контрольной Квас суровыми взглядами расстреливал давно небеленный потолок, а потом, за пятнадцать-двадцать минут до конца, с видом только что свихнувшегося писателя, начинал быстро-быстро ваять на мятых листах. И всегда получал «отлично».
Метод Кваса так раззадорил меня, что вместо решения собственных задач я под конец сдачи проверял его листы, стараясь понять, где он хитрит. Хитрости не было, сколько я ни цеплялся к вечно мятым влажным листам. Но доверие мое уменьшалось, и все чаще внутри клокотало непонимание.
Квас на подозрения не обижался. Напрягся он только один раз, когда я, выпив много, а закусив мало, булькая хмельным негодованием, заявил, что его родители башляют учителям.
Недели две Квас не общался со мной. Без содержимого красной сумки я стух и на радость Киреевой отвечал у доски в прежней нервно-ипохондрической манере. Извинения Квас принял лишь с третьего или четвертого раза. Я говорил долго, слезно, а он глядел куда-то в сторону, пока не перебил:
– Это ладно, верю, но ответить за базар надо.
– В смысле? – растерялся я.
– Что тебе доверять можно, что ты понял, – хрустнул колпачком Квас.
– Хорошо, – как часто согласие бывает неискренним, – я готов. Что делать?
– Точно готов?
– Точно.
– Хорошо, тогда слушай. Нетопыря ловят ночью…
5
Нетопыря ловят ночью. И я должен помочь в его поимке. Чтобы загладить вину. Так сказал Квас.
Просьба его казалась игрой, забавой, и я согласился, но существовала проблема: из дома меня отпускали максимум до одиннадцати вечера. Под весьма солидные поводы. А тут – сердцевина ночи. И ни одного повода.
Сказать Квасу об этом я, безусловно, не мог. Боялся, что засмеет. Он был другим – свободным, бесстрашным. Его не связывали ограничения: внешние, внутренние. А я всегда чего-то боялся. Тесных автобусов. Близко сидящих одноклассниц. Узких переулков. Хамовитых продавщиц. Рычащих собак. Потому я так и тянулся к Квасу. К Пете Майчуку. К таким, как они. К заменителям выщербленного условностями себя.
– Сходняк ночью, у водоема, – говорил Квас, допивая «Крымское светлое». – Ты хоть знаешь, что Джим Моррисон, Йен Кертис, Джон Бонэм – все они были нетопырями?
Мне, наверное, стоило признаться, что не знаю, да и не верю, но я промолчал. Как это часто бывает, когда хочешь понравиться. Квас был моим единственным другом. Без него я бы окончательно превратился в отщепенца, от которого шарахается даже Таня Матковская. Надо было идти.
Бабушка, закутываясь в байковые одеяла, спала на веранде у входа. Ночью она часто вставала, чтобы выпить дигоксин или тенорик. Спала бабушка чутко.
Мама же устраивалась на ночь в маленькой комнатке, большую часть которой занимала сложенная из глиняных кирпичей русская печка. Пользоваться ей, набивая углем и дровами, перестали, кажется, года три назад, когда установили газовый котел. На него мама заняла денег у коллег. Отдавали натужно и долго.
Еще один угол занимал киот с иконами. Под ним – застеленный черным сукном стол, где мама и бабушка держали святую воду, просфоры и стаканы с пшеном, из которых торчали свечи. Обязательно восковые. Потому что пахнут особенно, благостно, умиротворяюще. Зажги, и свеча будет благоухать, а не чадить.
Еще была мамина кровать. Скрипучая, хлипкая, как и постеленный тридцать лет назад деревянный пол. Идти по нему к выходу, минуя маму и бабушку, значит погубить ночное бегство из дома.
Потому был лишь один вариант отправиться на поимку нетопыря – через окно. Благо, что дом одноэтажный.
Мама вроде бы никогда не заходила ко мне ночью. Только желала приятных снов. Можно было попытаться сбежать и вернуться к утру.
Плохо, что дверь из маминой в мою комнату отсутствовала. Ее заменяла шторка, подвешенная на «крокодильчики». Задернуть с вечера, мол, собираюсь учиться, и чтобы свет маме в глаза не светил – так и оставить. А самому – в окно.
Вечером, после того, как мама и бабушка пожелали мне спокойной ночи, я не выключил свет. Изображая учебу, стал листать книги по русскому языку. Не зря, потому что мама зашла еще раз, сказала, чтобы не напрягался, а быстрее ложился спать.
Я кивнул, но просидел еще час. Правда, уже с «Опавшими листьями» Розанова, чтение которого мне посоветовала Маргарита Сергеевна.
В половину первого я выключил свет. Подошел к шторке. Мама похрапывала. Бабушка не шла за лекарством. Я потушил свет, лег на кровать, намеренно громко скрипнув пружинами. Вновь обождал. Аккуратно встал, подошел к окну. Надел спрятанные за раскидным креслом джинсы, свитер, куртку. Распахнул окно и вылез на улицу, рядом с поставленными на скамье ведрами. Пригибаясь, как вор, засеменил к металлической калитке.
Квас ждал на остановке, под соснами. Не такими, как в горном Крыму: там они вытянутые, куполообразные, похожие на лампочки, а здесь – приземистые, с разлапистыми грибными шляпками крон.
– Здорово, Бес. – Недавно Квас откуда-то узнал мою школьную кличку. Сперва я обижался, но он довольно легко убедил меня, что так даже солиднее. – Полчаса жду, а ты где-то ходишь…
Полчаса он, конечно, не ждал, но я все равно начал оправдываться:
– Ждал, когда мама уснет. По-другому вырваться не получилось бы…
– Ну да, предки, предки…
– А твои как? Спокойно?
Квас напрягся, тряхнул космами, которые всегда зачесывал под Курта Кобейна – хотел отрастить и бородку, но не получалось, сколько бы он ни брил детский пушок, надеясь превратить его в мужскую щетину, – сменил тему:
– К встрече с нетопырем готов?
– Всегда готов. Приманивать чем будем?
– Его не надо приманивать. – Квас подмигнул. – Он сам придет. Главное – идти навстречу. Хотя…
– Что хотя?
– Можно, конечно, водкой. У тебя есть?
– У меня-то нет, но у тебя должна быть.
– Угадал, Бес. – Он сбросил на землю красную спортивную сумку, открыл, достал бутылку водки. – Заодно, давай, накатим для смелости…
Мы выпили из горла. Закусить было нечем. Водка отдавала даже не спиртом, а ацетоном. Я шумно, глубоко задышал. Лицо Кваса не изменилось.
– Хорошо, что накатили. Нетопырь почувствует в нас своих, хотя, – он упаковал водку в сумку, – может, и приревновать. Ничего, мы ему под нос пузырь сунем…
– Странно, как для летучей мыши.
– Что за мышь?
– Ну, нетопырь этот…
Квас замер, пошарил в кармане, вытащил ручку, сунул в рот.
– Какая на хер летучая мышь? Ты ебнулся, что ли? – Я поморщился. Маты всегда раздражали, казались чужеродными паразитами, засевшими в теле русского языка. – Ты что, не знаешь, кто такой нетопырь?!
– Ты не рассказывал…
Глаза его стали пыточно-раскаленными. Он вперился в меня ими, зажав нижнюю губу крупными, лошадиными зубами.
– Так, Бесик, – уменьшительно-ласкательный суффикс Квас использовал, когда был недоволен мной, – тогда растолкуй мне, какого хера ты двинул со мной? Или, по-твоему, нетопыря поймать как два пальца?
Истинной причины я, конечно, сказать Квасу не мог.
– Интересно.
– Не интересно, а любопытно.
– Пускай так.
– А любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Или забыл? А нетопырь тебе еще и хуй оторвет, если голодный будет. Не шутки, бля, шутим…
Оборвав фразу, Квас зашагал вдоль безмолвной дороги. Идти за ним не хотелось. Резало это его «хуй оторвет». Да и мама могла зайти в комнату, обнаружить, что меня нет, и впасть в валидольную истерику. Тем более, что Квас вел себя как сельский дурачок, рассказывающий глупенькие страшилки у потухающего костра. Но вопреки собственному желанию я зашагал следом, позволив себе только один вопрос, хотя надо было задать еще два десятка:
– Так куда мы идем?
– Идем навстречу. К сельскому клубу. – Квас повернулся и, пугая уж совсем как ребенок, прошептал: – Там озеро подходящее.
Когда я был маленьким, каштановский сельский клуб выглядел масштабно, эпично. С фасада он не казался особо массивным, зато цветной герб над металлическими дверями отличался вычурной лепкой, а ступени отделали мрамором. По бокам у клуба было три выхода, к которым вели кипарисовые аллеи с клумбами роз. Отсюда он казался гигантским. Размер задавали колонны, подпирающие массивный свод, и высокие широкие, как из средневековых храмов, окна. С задней стороны на расстоянии нескольких метров отделенное узкой асфальтированной дорожкой примыкало озеро с живописно нависающими над тогда еще чистой водой ивами. Под ними, развалившись, закидывали удочки рыбаки.
Каштановский сельский клуб, несмотря на эклектику названия, впечатление производил солидное, претенциозное даже. И, когда я в первый раз оказался в нем, совсем маленький, на референдуме, мне чудилось, что я попал в древний величественный храм, а низенький плешивый человек, ораторствующий за длинным столом, накрытым красным сукном, виделся мне исполином, служителем высших сил…
Но сейчас в вяжущем мраке ночи – ночь в деревне особенно непроглядна: нет ни работающих фонарей, ни сверкающих вывесок, потушен свет в окнах приземистых хат – клуб больше походил на заброшенный амбар. Металлические двери сменили на деревянные, давно некрашеные, с одной торчащей доской, которую все никак не решались приколотить. Герб облупился, рассыпался по крупицам – остался лишь красный след.
Подходя к этому по-стариковски больному зданию, вспоминаю песню «Короля и Шута» «Проклятый старый дом». Сначала в голове личинкой заседает мелодия, а после она трансформируется в навязчивого песенного червя: «В заросшем парке стоит старинный дом. Забиты окна, и мрак царит извечно в нем. Сказать я пытался, чудовищ нет на земле, но тут же раздался ужасный голос во мгле…»
Квас сосредоточен. Идем молча, так близко друг к другу, что его рюкзак при ходьбе бьется мне о плечо. Рисованный Курт Кобейн целует мою руку.
– Обойдем и пойдем к озеру, – говорит Квас.
Согласно киваю.
– Так, стой, – тормозит Квас, – ведь жопой чувствую, у тебя есть вопросы.
Они и, правда, есть, распирают изнутри, точно те сомнительные беляши из магарачинской «Астры», после которых мне промывали ромашкой желудок.
– Есть, но давай без мата.
– Базара нет, – «зуб дает» Квас. – Хочешь знать про нетопыря?
Единственное, что я хочу – это ничего не хотеть. Но, кивнув, соглашаюсь на историю нетопырей.
Они, говорит Квас, перекатывая в руке сорванные с кипариса ароматные шишки, не летучие мыши, а конченые заблудшие алкаши, чей внутренний мир под «белкой» превратился в мир внешний. Образы, которые видели бухари, оказались настолько реальны, что визуализировались и стали явью для остальных. Они как бы ворвались из алкоголического бреда в наш мир. Что-то типа монстров, пролезающих из параллельной действительности. С галлюцинациями алкобасов та же история. Они плодят реальных демонов, самый мерзкий из которых – Водянка. Она формируется где-то под ключицей, разрастается, крепнет и проникает в мозг, со временем полностью заменяя его. Поэтому у бухарей бледно-голубые глаза. Это и есть Водянка.
Большинство конченых умирают с ней от болезней. Или погибают по дурости. Под колесами. В сугробе. От ножа. Тем же, кому не повезло, Водянка внушает свои мысли, желания. Тогда конченые идут в самый мутный, грязный водоем, какой есть поблизости, и топятся, насильно глотая воду. Лежат на дне сорок дней, превращаясь в нетопырей. А после всплывают, распухшие, синюшные, жуткие. Вылезают на берег, ища, что бы съесть. Далеко от водоема они не отползают; их навсегда привязывала вода. Поэтому жрут они, в основном, отходы и падаль, а если повезет – кошек, собак и птиц. Но больше всего любят младенцев.
Квас говорил все это на фоне забальзамированного трупа клуба в болезненном свете луны. Антураж точно выдернули из грошового фильма ужасов, где решили не тратиться ни на актеров, ни на режиссера, ни на сценарий. Чистое любительство, чистый хардкор.
И все же в рассказе Кваса было нечто такое, что заставляло если не верить, то сомневаться. Не знаю, влияла ли на это атмосфера или та детская непоколебимость, с которой он живописал нетопырей, но эффект был действительный, ощутимый, с морозцем и пупырышками на коже.
– А для чего нам нетопырь?
– Тебе – не знаю, а мне дядю спасать.
– От чего?
– От Водянки! Жрет его, падла!
Обходим клуб справа. Фигурные окна заложены ракушечным камнем, похожим на формовые буханки хлеба. Подпирающие свод колонны облупились. Стены исписаны углем и краской; фразы идиотские в своей нелепости. Ступени завалены мусором, выделяется рваное кресло с вывернутыми пружинами. Запустение, упадок, разруха.
Пространство вокруг клуба – болото призрачных сосен. Протяни руку – утонет в чем-то мглистом и вязком.
Квас дышит хрипло, шагает пружинисто. Глядя на волосы, спадающие ему на плечи, мне вдруг думается: «А что если весь этот бред про нетопырей – правда, и он знает больше, чем я?» И сколько бы я ни гнал этот вопрос логичными, здравыми аргументами, он по-хозяйски обосновывается внутри, не уходит.
Мы у задней стены клуба, обтянутой красной заградительной лентой – не пересекай черту. Наверное, потому, что сыпется штукатурка. Не убьет, но покалечить может. Правда, лента уже на земле. Как мертвый дождевой червь. С озера, превращающегося в болото, тянет затхлостью, сыростью. Так пахнет компостная яма.
Квас прикладывает палец к губам, «молчи», указывает направление. Мы идем к разросшимся кустам, прячемся за ними. Квас устраивается так, чтобы видеть озеро.
Утомительное, яйцесводящее ожидание, но вот – бульканье, тихое, едва различимое. «А вдруг он знает больше, чем я?» Замечаю, что мои пальцы трясутся. Квас поворачивается ко мне, делает лицо из серии «а я тебе говорил».
Вновь бульканье. Уже более отчетливое, явное. Хочу домой!
Третье бултых в закупоренном ночью сосуде молчания звучит почти оглушительно. Квас достает из рюкзака водку, свинчивает крышку, как промоутер с пробником перед местом продажи, машет бутылкой, распространяя ацетоновый запах. Иди сюда, иди, нетопырь…
Шорох сзади. Оборачиваюсь, дергая головой. Темнота. Из нее выбивается освещенный луной прямоугольник задней стены клуба. Что со мной? Брежу ли я?
Но ведь бабушка верит в нечистую силу. И мама верит. Хорошо, пусть это все дурь, но есть же наука – физика и такое понятие как флуктуация. Значит, сохраняется шанс, что нетопыри существуют. Тогда, что я делаю здесь? Для чего ставлю этот бездарный эксперимент?
Хочу уйти. Кладу Квасу на плечо руку. Он сбрасывает, показывает «не сейчас». Но когда же? Достает из рюкзака – зеленый Кобейн в лунном свете напоминает призрака – водяной пистолет, книжечку и странную сетку, похожую на те, что используют для укладки волос, только из стальных прутьев. Ладонью показывает – вперед.
Квас идет пригнувшись, я же ползу на четвереньках. Берег озера топкий, поросший высокой травой. У нее длинные продолговатые стрелы листьев. Из травы доносится невнятное хлюпанье речи. Хватаю Кваса за штанину, тяну назад. Он будто не замечает, вытягивается в полный рост, кричит:
– Гойда! Гойда!
Гойда? Что за хрень? Может, я не вылез из окна своего дома? Может, уснул, начитавшись Розанова? Но на влажной траве холодно так, что морозной дрожью пробирает внутренние органы – явь.
– А, Бесик, вставай, это не нетопырь – это обычный упырь…
У берега озера, матерясь и шатаясь, натягивает штаны мужик в сдвинутой на затылок кепке. Он, видимо, пьян. Рядом валяется клетчатая сумка, из тех, с которыми челноки ездили за товаром в Турцию.
– Убью, суки! – наконец разбираю слова мужика, и мне жаждется послать его к черту, искусному в дьявольских пытках, чтобы не стращал, не шарахал людей. Послать весь этот дурной сумасшедший вечер.
– Да пошел ты, пиздюк! – ору я, выплескивая страх, сублимированный в ярость. – Пошел ты!
И швыряю в алкаша липким комком грязи.
– Валим, Бес, валим!
– Да пошел он! Мудак! Алкаш ебаный! Напугал!
Все-таки слушаюсь Кваса, ухожу.
На остановке допиваем остатки водки. Моя куртка запачкалась, руки липкие, грязные. Я отчаянно злюсь. Из-за того, что пошел охотиться на нетопыря. Но больше всего из-за того, что боялся всерьез.
– Значит, Бесик, не дано тебе видеть нетопырей, раз не нашли. – Квас швыряет бутылку в канаву. – Не дано! Ну и хер с ним! Без тебя выловлю…
И не прощаясь он, словно обидевшись, уходит, закинув сумку за спину.
– Эй, стой, стой! – кричу я вдогонку.
Он отмахивается, но потом все-таки останавливается:
– Чего тебе?
– Ты скажи честно, без шуток, – слова выходят чугунными, – нетопыри существуют?
Он хмыкает так громко, что кажется, будто грузовик выстрелами из выхлопной трубы пробивает дыры в озоновом слое:
– Дурак ты, Бесик. Дурак и Фома!
6
Из абитуриентов подготовительных групп я общался лишь с Квасом. Но после охоты на нетопыря он пропал. Где Квас жил, я не знал. Мобильного телефона у него не было. Я остался один, в изоляции. И мне пришлось общаться с другими. Например, с Таней Матковской.
От нее я узнал, что на курсах существует две подготовительные группы, в одной учатся три «маковых» наркомана, в другой – педераст, у нас же самый подозрительный – Квас. Последнее я хотел опровергнуть, защитить друга, но возражения, изначально выходившие чахлыми, вяли окончательно, когда я вспоминал о нетопыре.
Таня же и пригласила меня на неформальный сбор групп в честь Восьмого марта. Заявилось около тридцати человек, и она с помощью мамы заказала пять столиков на дискотеке «Старый замок». Место выбирали, исходя из того, что ехали со всех сел: Песчаного, Солнечного, Углового, Берегового, Ленино, Табачного, Фруктового, Магарача.
На месте «Старого замка» раньше была площадка, засаженная ореховыми деревьями. Стволы росли могучие, крепкие, а вот плоды – негодные, гнилые.
Летом, когда Франция обыгрывала Италию в финале чемпионата Европы благодаря голам Вильтора и Трезеге, деревья уничтожил пожар; случайно или их подожгли специально – не знаю, но обгоревшие остатки выкопали, и образовался пустырь.
Вскоре на нем появилась будка, сложенная из ракушечника. Маленькая, узкая, похожая на сортир. Затем еще одна. Так крымские татары, возвратившиеся из Турции и Узбекистана, очерчивали территорию для своих домов. Будки лепили тесно, близко друг к другу, наспех, даже не скрепляя пористый ракушечный камень цементным раствором.
После их, наверное, разобрали, и из освободившегося ракушечника сложили одно здание, в котором сначала, завесив стены баннерами с Бартезом и Роналдиньо, воткнув на крышу спутниковую тарелку, организовали спортбар «Аматер», где чаще всего болели за сборную Турции, а затем, под Новый год, переоборудовали его в дискотеку.
Я добирался туда рейсовым автобусом. Можно, конечно, было дойти пешком, но боялся заляпаться придорожной грязью.
Отпускали меня не с боем – с войной. Договариваться с мамой и бабушкой я начал за две недели заранее. Канючить день, канючить второй, канючить на завтрак, канючить на ужин – неделю я таранил просьбами и упреками баррикады домашнего затворничества. И наконец – чудо! – меня отпустили. Правда, с условием быть не позже одиннадцати.
День перед посещением «Старого замка» я помню сумбурно, отрывочно – словно командами из дневника.
Начать приготовления с утра. Надеть черные стретчевые джинсы и голубую пайту со священным числом «36». Прыснуть больше дезодоранта, пусть белые разводы и портят одежду. Нанести гель – смыть. Вновь нанести. И вновь смыть. Светлый чуб в сторону. Или треугольником вверх.
Быть недовольным собой. Обнулиться, переиначить. Фыркать, наспех моясь в бане. Переодеться в ту же одежду, так же поставить чуб. Надушиться, чтобы переть ароматной стеной.
Оказаться на дорожном кольце, увидеть «Старый замок», но не идти, зная, что остается больше, чем час до начала встречи. Оглядываясь, чтобы никто не увидел, посетить магазин «Гирей», купить бутылку светлого пива «Фараон». Выйти, быстро опрокинуть ее в себя за недостроенным баром. Пить обязательно залпом, чтобы быстрее вдарило.
Шататься по заваленной листьями площади с памятником Ленину, металлический нос которого стал зеленым, вступив в реакцию с влагой и воздухом.
Вернуться на кольцо. Купить и выпить светлого пива «Фараон» уже прямо у входа. И наконец идти в «Старый замок».









































