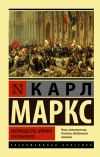Текст книги "Странная смерть марксизма"

Автор книги: Пол Готфрид
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
При всем при том полезно иметь в виду взаимопересечения двух традиций сакрализованной, направленной на общественную трансформацию политики. В своих антибуржуазности, антихристианстве и готовности играть религиозными символами, а также в своей нетерпимости к любому социальному пространству, которое оказывается для них недоступным, старые и новые формы политической религии похожи, и этот факт достоин изучения. Хотя понятие политической религии лишь ограниченно применимо в нашей ситуации, оно позволяет лучше понять ситуацию постмарксистских левых.
Здесь, пожалуй, необходимо сделать заявление, которое не понадобилось бы в условиях более беспристрастного дискурса. Нигде в этой книге вы не найдете отрицания того факта, что в Европе и других местах можно встретить правых экстремистов. К сожалению, в европейских обществах есть и скинхеды, и неонацисты, и время от времени они учиняют акты вандализма. Более того, группы, способные сыграть конструктивную роль в привлечении внимания к мнениям, не представленным парламентскими партиями и не поддерживаемым насаждающим политкорректность административно-судебным аппаратом, включают порой крайне неприятных господ. Немецкая Национал-демократическая партия (НДП), возможно, поднимает существенные вопросы о последствиях исламской иммиграции и об эксцессах антинационалистической политики в Германии – вопросы, которых респектабельные партии предпочитают не касаться. Но ее исторический багаж не может не тревожить. В речах председателя НДП Удо Фойта после внушительного успеха его партии, набравшей в сентябре 2004 года на выборах в Саксонии 10 % голосов избирателей, содержались тревожащие упоминания о Гитлере как о «великом государственном деятеле».
Тем не менее эта книга пытается подчеркнуть, что восхождение к власти постмарксистских левых заблокировало демократический протест и возможность автокоррекции политики, если в этой автокоррекции усматривается отсутствие политкорректности. В результате по мере того, как правоцентристские и левоцентристские партии движутся к требуемому современной политической культурой мультикультурному и постнационалистическому консенсусу, оппозиционным силам приходится искать другие выходы. И может получиться так, что точками кристаллизации для обоснованного протеста против ограничений гражданского диалога окажутся партии, сомнительные с моральной точки зрения.
На возражение, будто я упускаю то, что под такую характеристику могут действительно подпасть те, кого постмарксистские левые именуют «фашистами», могу ответить только то, что бремя доказательства лежит на обвинителе. И здесь не обойтись навешиванием ярлыков на каждого, кто не отвечает последней авторизованной версии «антифашизма». В экскурсе, посвященном наиболее антинемецкому представителю разрушенного национального сообщества Германии, я пытаюсь разъяснить, что брань со стороны антифашистов начинает принимать причудливые формы. Это дает бывшим нацистам возможность отвлекать внимание от собственного прошлого, обвиняя бывших антинацистов в том, что они недостаточно антинационалистические немцы. Этот немецкий пример иллюстрирует то, сколь далеко «антифашизм» отошел от борьбы с движением, которому он якобы самоотверженно противостоит. Как заметил один мой коллега, было бы неплохо предварять гордое «антифашист» обязательным уточнением «псевдо».
Глава 2
Послевоенный коммунизм
Апогей коммунизма
В 1945 году окончилась разрушительная мировая война, результатом которой была гибель более 30 млн европейцев, разрушенные города и продлившаяся до 1947 года нехватка продовольствия. Однако для европейских коммунистов эта разруха была источником оптимизма. Советские армии стояли на берегах Эльбы, а на территориях, занятых советскими войсками в ходе преследования отступающего вермахта, возникали режимы советского типа. Польшу заставили уступить свои восточные области Советскому Союзу, зато дали возможность расшириться в западном направлении, присоединив к себе части Пруссии и Силезию и тем самым утвердив (или навязав полякам) власть коммунистов до рубежа Одер – Нейсе. В 1945 году под советским давлением в попавших в зону советского влияния Венгрии, Болгарии и Румынии было проведено перераспределение сельскохозяйственных земель. Вследствие этой реформы, результаты которой были вскоре отменены принудительной коллективизацией, землевладельцами стали более 2 миллионов безземельных семей[45]45
Эти реформы подробно рассматриваются в книге: Walter Laqueur, Europe in Our Time, 1945–1992 (New York: Penguin Books, 1992).
[Закрыть]. Хотя в этих трех странах за проведение земельной реформы выступали крестьянские и другие партии, заслуга эта была приписана коммунистам и их сторонникам на Западе.
Тем временем уже к 1945 году в Италии и во Франции утвердились пользующиеся массовой поддержкой коммунистические партии. В октябре 1945 года на первых послевоенных выборах французская коммунистическая партия получила 26,1 % голосов, и до 1958 года ее доля на парламентских выборах ни разу не падала ниже 25 %. В Италии численность коммунистической партии взлетела с 10 000 человек в 1944 году (когда партия была подпольной) до более 2 млн человек к 1947 году, когда она стала крупнейшей европейской компартией за пределами советского блока. (Хотя французские коммунисты собирали на выборах больше голосов, чем итальянские, по списочной численности французская компартия уступала итальянской.) Более того, до мая 1947 года коммунисты занимали посты в итальянском и французском правительствах. Их партнерами по правящей коалиции были христианские демократы (известные во Франции как Народно-республиканское движение) и социалисты; к 1948 году эти три партии собирали на выборах более 90 % голосов[46]46
См.: Kriegel, French Communists. P. 359–362, 378–379; а также: Marc Lazar, Maisons rouges: Les partis communistes français et italien de la libération à nos jours (Paris: Aubier, 1992).
[Закрыть]. По мере обострения «холодной войны» и в связи с неуклонной поддержкой коммунистами советской стороны, антисоветски настроенные итальянские христианские демократы под руководством популярного и энергичного Альчиде де Гаспери разорвали партнерство с крайне левыми.
Неизбежен вопрос: почему коммунисты получили столь значительную поддержку избирателей в Италии и Франции? В Голландии, Бельгии, Люксембурге, в странах Скандинавии и в Англии их успехи были минимальны, а на первых выборах в Бундестаг в 1949 году коммунистические кандидаты получили не более 5 % голосов. В связи с этим часто говорят, что в Северной, преимущественно протестантской Европе бремя политики реформ взяли на себя нереволюционные социалистические партии (вроде английских лейбористов), тогда как в латинских странах эта задача выпала на долю коммунистов. Более того, общества, обладавшие сильной парламентской традицией, могли мирным путем достичь того, к чему трудящиеся Италии, Испании и Франции могли прийти только с помощью революционной партии. Поэтому итальянцы и французы оказали поддержку политикам, выступавшим за марксистскую революцию и восхвалявшим советскую диктатуру, чтобы добиться тех изменений, которые в других странах достигались в ходе обычной ротации партий в парламенте[47]47
Хотя С.М. Липсет связывает радикализм рабочего класса и с другими факторами, и прежде всего с быстрой индустриализацией, он также подчеркивает роль «сравнительно умеренного и консервативного тред-юнионизма» как бастиона против радикального социализма. См.: S.M. Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics, expanded ed. (Baltimore: Johns Hopkins, 1981), P. 45–47. P. 73–75. См. также: Gabriel Almond, The Appeals of Communism (Princeton: Princeton University Press, 1954).
[Закрыть].
Хотя это объяснение, которое было характерно для либералов периода «холодной войны» и приобрело популярность благодаря работам Габриэля Алмонда и Сеймура Мартина Липсета, нельзя назвать полностью ошибочным, оно не учитывает определенные параллели между коммунистическими и некоммунистическими левыми в послевоенной Европе. Послевоенные правительства в Италии, Англии и Франции, отличавшиеся сильным креном влево, осуществляли сходные программы национализации и реформы образования. Более того, в 1947 году французские коммунисты вышли из правящей коалиции из-за несогласия с установлением потолка заработной платы, которого требовало Народно-республиканское движение, и это разногласие не имело никакого отношения к перспективам коммунистической революции. В период своего пребывания в правительстве французские коммунисты воздерживались от критики французского колониализма и даже изобрели оправдание для его сохранения; одновременно они добивались наказания коллаборационистов военного времени (некоммунистов), действительной виной которых во многих случаях было лишь то, что они были известными антикоммунистами. Оказавшись вне правительства, коммунистические боссы устраивали скандалы, организовывали антиколониальные демонстрации, а к концу 1947 года вовлекли Францию в ряд забастовок, сопровождавшихся бунтами[48]48
См.: Jean Ranger, “L’évolution du vote communiste en France depuis 1945”, in Le communisme en France (Paris: Armand Colin, 1969), p. 211–254.
[Закрыть].
В послевоенной ситуации просоветские настроения выражали не только коммунисты, но и многие социалисты, а лидер итальянской социалистической партии Пьетро Ненни, не будучи коммунистом, старался удержать коммунистов в составе итальянского правительства. В ходе общенационального опроса, проведенного во Франции в сентябре 1944 года, более 61 % респондентов назвали Советский Союз страной, сыгравшей главную роль в освобождении своей родины, и только 29 % связали это достижение с американцами, на которых легла основная тяжесть операции по высадке в Нормандии[49]49
Цит. по: Sévillia, Le terrorisme, p. 15.
[Закрыть].
В послевоенной Европе коммунисты эксплуатировали тенденции, к возникновению которых не имели отношения. Электорат сдвинулся резко влево отчасти в результате реакции на нацистов, которые почитались крайне правыми, а отчасти потому, что с левыми связывалась надежда на реформы, которых желали многие европейцы. Принесенная войной разруха усиливала стремление к немедленной перестройке общества таким образом, чтобы с помощью структурных изменений и перераспределения дохода если не ликвидировать бедность, то хотя бы уменьшить ее. К концу войны Советы воспринимались как сила абсолютного добра: в конце концов, они потеряли многие миллионы своих соотечественников в боях с «германским фашизмом» и пытались «научными» методами решать те же самые материальные проблемы, которые стояли перед западноевропейцами. Таких взглядов придерживались не только левые радикалы, но и такие «демократические социалисты», как Пьетро Ненни и Анайрин Беван, который в годы «холодной войны» постепенно стал сторонником американцев[50]50
Muriel Grindrod, The Rebuilding of Italy: Politics and Economics, 1945–1955 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1955).
[Закрыть].
Признание этих фактов послевоенной истории не означает их оправдания. Необходимым условием такой снисходительности к коммунистам и их советским хозяевам было забвение того, что в 1945 году было совсем недавним мрачным прошлым. Сторонники Советов с готовностью забывали о том, как итальянские и французские коммунисты служили нацистам с конца 1939 года до весны 1941 года, когда Гитлер и Сталин еще были союзниками, предпочитали не помнить о предательстве Мориса Тореза, впоследствии главы «антифашистской» Коммунистической партии Франции, который, дезертировав из французской армии, предложил свою помощь гитлеровцам после падения Франции 26 июня 1940 года, и старались ничего не знать о массовых казнях «классовых врагов» в Советском Союзе[51]51
О роли коммунистической партии и лично Мориса Тореза в падении Франции в 1940 году см.: Sévillia, Le terrorisme, p. 51; Stéphane Courtois, Du passé faisons table rase: Histoire et mémoire du communisme en Europe (Paris: Robert Laffont, 2002).
[Закрыть]. Сомнительно, что в 1945 году просоветски настроенные европейцы знали о советском ГУЛАГе меньше, чем о нацистских концентрационных лагерях, хотя левая французская пресса, включая Le Monde, набрасывалась (как и в наши дни) на всякого, кто упоминал об этом факте, с обвинениями в нежелании бороться с фашистской угрозой. Если бывший итальянский коммунист Лючио Коллетти прав в том, что «существовала ложь [bugia], именовавшаяся Советским Союзом», то множество его соотечественников, в том числе и не являвшихся членами компартии, охотно ее заглатывали[52]52
Цит. по: La Repubblica, 4 ноября 2001 г… P. 20.
[Закрыть]. Почему они так поступали, это другой вопрос, но обращаться к нему стоит лишь после того, как мы признаем, что в Западной Европе и коммунисты и не-коммунисты питали сходные надежды на Советский Союз и что стремление не замечать жестокости и вероломства Советов и коммунистов было присуще не одним лишь членам компартий.
Наконец, как подчеркивает историк Андреа Рагуза, там, где в 1946 году коммунистические партии оказались в правительстве, они выполняли определенную социальную функцию. Они были партиями «рабочего класса», а большинство их избирателей, а также часть руководящих кадров (включая Тореза) происходили из рабочих[53]53
См.: Andrea Ragusa, Comunisti e la società italiana (Rome: Editore Lacaita, 2003).
[Закрыть]. В Италии и во Франции партии имели теснейшие связи с гигантскими профсоюзами (Confederazione Generale del Lavoro и Confédération Génébrale du Travail соответственно), и только благодаря американской финансовой помощи в послевоенной Франции некоммунистический профсоюз Force Ouvrière смог подняться на ноги и стать массовым. Преобладание рабочих во французской компартии все еще сохранялось даже в 1979 году, когда 46,5 % членов партии были заводскими рабочими (как правило, это были мужчины), и примерно такой же была ситуация в итальянской коммунистической партии. Большинство из них никогда не бывали в Советском Союзе, но они читали коммунистическую газету L’Humanité, которая изображала советский блок как рай для рабочих, находящийся в процессе становления. В любом случае Советы вели борьбу с США, которые, как считалось в то время, пытались втянуть европейский пролетариат в крестовый поход против коммунизма. Сопротивление «американскому империализму» считалось необходимым условием сохранения мира и завоеваний рабочего класса во Франции. Такой была позиция «экспертов», типичным представителем которых был Фредерик Жолио-Кюри, нобелевский лауреат по физике и активный «сторонник мира», такой же была позиция и самого Международного движения за мир[54]54
Sévillia, Le terrorisme, p. 10.
[Закрыть]. Платформы итальянской и французской компартий содержали требования «национализации» или «социализации» средств производства, но того же требовали английские лейбористы и другие «демократические» социалисты. Социал-демократическая партия Германии, которую в 1949 году поддержала администрация Трумэна, вплоть до 1959 года называла себя марксистской партией.
В коммунистических организациях преобладали рабочие-мужчины, большинство которых относилось к католической церкви с неприязнью. Они видели в ней социально реакционную силу, несмотря на деятельность активного борца за мир аббата Булье из Парижского католического института, а также на то, что она направляла в рабочие кварталы священников, сотрудничавших с членами компартии. Во Франции коммунистическое движение воспринималось – или изображало себя – как продолжение Французской революции, особенно ее радикальной якобинской фазы, хотя, согласно заявлению впавшей в ересь коммунистки Кригель, это был «новый этап в человеческой истории, подобно тому как прежде таким новым этапом было христианство»[55]55
Kriegel, Ce quej’ai cru comprendre.
[Закрыть]. Но какие бы грезы ни туманили головы интеллектуалов по поводу коммунистического движения, оно обеспечивало рабочим идеологическую идентичность, социальную солидарность и политическое представительство. Можно порицать их за этот выбор, но трудно доказать, что, присоединяясь к партии, они стремились к чему-либо другому.
К западным коммунистическим партиям примыкали интеллектуалы, а также знаменитые художники и артисты, стоявшие особняком от рабочего класса и партийных функционеров и образовывавшие следующий слой сторонников. Не все они были действительными членами партии, но даже на «попутчиков» можно было рассчитывать (зачастую намного больше, чем на действительных членов компартии) в деле защиты определенных направлений партийной линии – и прежде всего это касается особых отношений с Советским Союзом. Популярный в свое время выпад Раймона Арона против «опиума интеллектуалов», опубликованный в виде книги под таким названием в 1955 году, метил в поклонников Сталина в рядах компартии и вне ее[56]56
Raymond Aron, L’opium des intellectuels (Paris: Calmann-Lévy, 1955) [Отрывок этой книги был переведен на русский язык. См.: Арон Р. Опиум интеллектуалов // Логос. 2005. № 6. С. 182–205. – Прим. науч. ред.]; Jules Monnerot, La sociologie du communisme et I’échec d’une tentative religieuse au XX siècle (Paris: Editions Libres, 1949).
[Закрыть]. Целый ряд парижских изданий, таких как Lettres Françaises, Nouvel Observateur, Esprit, Les Temps Modernes, а также раздел комментариев в Le Monde, неизменно предоставлял свои страницы публицистам, формально не состоявшим в партии, но не упускавшим случая защитить Советскую Родину или заклеймить ее очернителей. Некоторые из этих авторов, такие как Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Луи Альтюссер и Клод Мерло-Понти, стали в конце концов коммунистами, а другие, подобно левому католику Эммануэлю Мунье, выступали против «смертного греха» антикоммунизма, не присоединяясь к партии[57]57
Подробнее об этом см.: Dominique Desanti, Les Staliniens (Paris: Fayard, 1975).
[Закрыть].
Мотивы этих и других интеллектуалов, приводившие их в коммунистический лагерь, отличались от мотивов рабочих. Для историка Французской революции Альбера Матьеза и для «светского» итальянского философа Лучио Коллетти коммунизм воплощал надежду на полностью секуляризованное общество, в котором ненавистная католическая церковь будет вытеснена из публичной сферы, а религиозные предрассудки вырваны с корнем. Для еврейских интеллектуалов Анни Кригель, Вальтера Беньямина, Эрика Хобсбаума и им подобных коммунисты были политической альтернативой партиям и платформам, ассоциировавшимся с национализмом нееврейских народов или с христианством. Понятно, что трудно отделить их коммунистические убеждения от страха перед европейским антисемитизмом, да эти радикалы и не желали такого разделения. Виктор Клемперер, протестант еврейского происхождения, автор знаменитого дневника, который сумел выжить в Германии во время войны, несмотря на множество перенесенных им испытаний, включая бомбардировку Дрездена, демонстрирует нам еще одну причину, понуждавшую некоторых интеллектуалов сделать отчаянный шаг. Хотя в 1933 году, начиная свой дневник, Клемперер был либеральным монархистом и немецким патриотом, в ноябре 1945 года он вступил в восточногерманскую коммунистическую партию. Он счел этот шаг необходимым, «потому что только решительный поворот влево может вытащить Германию из нынешних страданий и предотвратить их в будущем»[58]58
Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten (Berlin: Aufbau Verlag, 1997). Vol. 2, p. 876–877.
[Закрыть]. «Страдания», очевидно, были наследием нацистов, которые привели к печальному концу как Германию, так и единоплеменников Клемперера, включая восточноевропейских евреев, с которыми он стал отождествлять себя в период нацистских гонений.
Столь же важным для коммунистических интеллектуалов был взгляд на партию как на связующее звено между ними и движением сопротивления фашизму в период Второй мировой войны. Хотя роль коммунистов в этой борьбе была по меньшей мере двусмысленной, к концу войны они сумели представить себя в качестве наиболее последовательных и отважных résistants[59]59
Бойцы движения Сопротивления (франц.). – Прим. перев.
[Закрыть]. (Их утверждение, что во Франции семьдесят тысяч коммунистов были расстреляны немцами, так и осталось недоказанным.) Но и достижения в борьбе с врагом послевоенных восхвалителей Сопротивления, ставших коммунистами, тоже были сомнительны. Так, участие Сартра и Бовуар в Сопротивлении ограничивалось участием в коммунистических антифашистских ритуалах и в наклеивании ярлыков «коллаборационист» на своих личных врагов. То, что они действительно делали в период немецкой оккупации, значило куда меньше, чем то, как они преподносили свое сопротивление, а также чем те права, которые из этого проистекали[60]60
Giles Ragache, Jean-Robert Ragache, Des écrivains et des artistes sous l’occupation, 1940–1944 (Paris: Hachette, 1988), pp. 69–77, 253–263.
[Закрыть]. Иллюстрацией этого ритуала переоценки прошлого могут служить протесты и навешивание ярлыков, в которых активно участвовали Сартр и другие сторонники партии, когда некоторые участники Сопротивления, которых занесло в Россию, стали утверждать, что Сталин бросает людей в концентрационные лагеря, ничем не отличающиеся от нацистских. Среди нефранцузов, публично засвидетельствовавших эту практику, были невозвращенец Виктор Кравченко, советский инженер и хозяйственник, и бывшая коммунистка Маргарет Бубер-Нойман, которая, спасаясь от нацистов, бежала с мужем в Россию, где ее муж был расстрелян, а сама она угодила в лагерь. Приверженцы коммунистической версии Сопротивления спешили заклеймить каждого, кто заговаривал о советских лагерях, как патологического лжеца, агента американского капитализма и «арьергард нацистского врага»[61]61
См., например: André Pierre, “J’avoue que je n’aime pas la race des apostats et renégats”, Le Monde, 25 июля 1947 г.; André Pierre, “Comment fut fabriqué Kravchenko”, Le Monde, 13 ноября 1947 г.; а также: André Wurmser, “Un pantin dont les grosses fi celles sont made in the USA”, Lettres Françaises, 15 апреля 1948 г.
[Закрыть]. Когда в 1947 году появилась во французском переводе автобиография Кравченко «Я выбираю свободу», для французских коммунистов и их compagnons de route[62]62
Попутчики (франц.). – Прим. перев.
[Закрыть]
одной из задач в борьбе с нацизмом стало то, чтобы эта книга не попала в библиотеки. Lettres Françaises и L’Humanite сообщали своим читателям, что Кравченко и его злонамеренные сторонники хотят затопить своих соотечественников потоком «нацистской пропаганды».
В поисках марксистской ортодоксии
То, что толкало интеллектуалов на этот путь, вряд ли было верой в доктрины марксизма-ленинизма или в достоинства диалектического материализма. Французские, итальянские, английские и прочие коммунистические интеллектуалы подгоняли или изобретали факты для того, чтобы удовлетворить некую экзистенциальную потребность. Будучи евреями, протестантами (Сартр был из семьи кальвинистов), антиклерикальными католиками или крайними «антифашистами», эти интеллектуалы приходили к тому, чтобы стать коммунистами или попутчиками компартий. Знакомство с опытом тех, кто мучительно расставался с партией, как это было с авторами книги «Обанкротившийся идол», изданной английским лейбористом Р. Г. С. Кроссманом, делает понятным, что бесстрастные размышления не имели ничего общего с причинами, по которым люди присоединялись к партии или покидали ее[63]63
The God That Failed, ed. R. H. S. Crossman (New York: Bantam Books, 1952).
[Закрыть]. Личные и нравственные проблемы, которые приводили этих бывших коммунистов в партию, позднее заставляли их в ужасе отшатываться от нее. Интеллектуалы обращались к коммунизму и отворачивались от него вовсе не потому, что их привлекала правильность экономической и исторической теории Маркса и ленинского истолкования этих теорий, а затем они разочаровывались в этих теориях. Если европейские рабочие становились «социологическими» коммунистами, то интеллектуалов можно назвать коммунистами «экзистенциальными». Но ни те, ни другие не интересовались всерьез «наукой социализма» – факт, который привел в замешательство французского коммуниста Луи Альтюссера в 1960-е годы. Его размышления в предисловии к трактату «За Маркса», вышедшему в 1965 году, заканчиваются риторическим вопросом: «Кого, за исключением утопистов Сен-Симона и Фурье, которых столь часто упоминает [и высмеивает] Маркс, за исключением Прудона, который не был марксистом, и Жореса, который был им лишь в малой степени, можем мы назвать [нашими теоретиками]?»[64]64
Althusser, Pour Marx, p. 13–14 [Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006. С. 37].
[Закрыть]. Если Альтюссер и сетовал на «неизменное отсутствие теоретической культуры в истории французского рабочего движения» и на его «скудные теоретические ресурсы», он вовсе не имел в виду, что у этого движения не было идей. Идей у французских коммунистов было в избытке – о применении насилия для исцеления общественных зол, о пороках американской капиталистической империи, о роли преданности революции как экзистенциального самоутверждения и о несправедливой жестокости европейского колониализма. Но не было ни малейшей попытки понять марксизм как «науку», которую можно верифицировать исторически. Альтюссер во Франции, Коллетти в Италии и многочисленные теоретики из стран советского блока решили продемонстрировать, что марксизм научен, по крайней мере в их собственном понимании научности.
Удобный случай для этой теоретической защиты «материалистического сознания» Маркса и его научного подхода к исследованию истории предоставила популярность в 1960-х годах его Frühschriften, то есть ранних, в основном неопубликованных работ, написанных в начале 1840-х. Центральное место среди них занимали «Экономическо-философские рукописи» (1844), в которых пророчески затрагивался ряд идей, ставших ключевыми для 1960-х годов – об отчуждении человека, о взаимозависимости между общественным сознанием и личным саморазвитием и о дегуманизирующем влиянии частной собственности и капиталистического производства. Хотя «Рукописи» по большей части посвящены разделению труда в возникающей национальной экономике (в понимании Адама Смита), удушающей роли земельной собственности и уходящей в прошлое роли землевладельцев (в соответствии с идеями Дэвида Рикардо), модными их сделали замечания об отчуждении человека в капиталистической экономике от своей человеческой сущности[65]65
Интересное совпадение прочтения Маркса «новыми левыми» и представителем правых, выступающих за свободный рынок, см.: Paul Craig Roberts, Alienation and the Soviet Economy: The Collapse of the Socialist Era (New York: Holmes and Meier Publishers, 1990), p. 1—19. См. также: “Ökonomish-philosophische Manuskripte”, in Marx-Engels Studienausgabe, ed. Iring Fetscher (Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1975), 2:35—129 [ «Экономическо-философские рукописи» в: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч.: в 50 т. Изд 2. Т. 42. С. 41—174].
[Закрыть]. Такого рода высказывания можно найти в работах Маркса любого периода – от его докторской диссертации 1839 года до «Тезисов о Фейербахе» (1845), посвященных различению мирской и трансцендентной религии, и до замечаний об экономическом отчуждении в «Капитале». Для «новых левых» 1960-х годов и для «ненаучных» французских марксистов все эти замечания Маркса означали, что возможна марксистская традиция, в своем понимании человеческой природы не являющаяся материалистической, зато включающая в себя гуманистическую перспективу и содержащая протест против капиталистического отчуждения.
Подкреплением этой реконструкции Маркса стало множество трудов о молодом Гегеле, и прежде всего работа венгерского коммуниста (и ветерана Франкфуртской школы) Георга (Дьёрдя) Лукача[66]66
Строго говоря, Лукача нельзя назвать «ветераном Франкфуртской школы», потому что он не примыкал к ней ни организационно, ни институционально. Несмотря на то что именно он стоял у истоков неомарксизма, явившись предшественником и Хоркхаймера, и Адорно, и Маркузе, он мог разве что сочувствовать этим персонажам. – Прим. науч. ред.
[Закрыть]. Были предложены параллели между Гегелем, который уже в 1802 году высказывался о дегуманизирующем влиянии национальной экономики, и Junghegelianer, младогегельянцами – радикальными учениками немецкого философа, с которыми в конце 1830-х и в начале 1840-х годов много общался молодой Маркс. В результате ранние труды Маркса были представлены как продолжение и развитие гегелевского подхода к анализу истории и общества[67]67
Georg Lukacs, The Young Hegel, trans. Rodney Livingston (London: Merlin Press, 1975). [Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: Наука, 1987].
[Закрыть]. В этих трудах подчеркивалось, что духовное отчуждение есть результат жизни в мире, в котором не удовлетворяются экзистенциальные нужды. Экономика оказывалась лишь верхушкой айсберга, указывавшей на «иррациональность» общества, которое не соответствовало самосознанию человека в высшей точке его исторического развития и продолжало скрывать материальные, философские и политические предпосылки свободы. Считалось, что у раннего Маркса была сохранена диалектика Гегеля, устанавливающая соответствие между онтологическим, идейным и историческим развитием, и что он в тот период оставался не кем иным, как гегельянцем, занятым анализом экономического угнетения. Эта связь с гегельянством стала по сути дела краеугольным камнем гуманистического истолкования Маркса. Его ранние работы оказались наиболее актуальными и современными, а поздние экономические труды, как выяснилось, были просто отражением тех интересов, которые проявились в его штудиях уже к 1845 году – либо представляли собой гиперболизацию «материалистической тенденции», намеченной в «Экономическо-философских рукописях»[68]68
См.: Paul Gottfried, “Lukacs’ The Young Hegel Reexamined”, Marxist Perspectives (Winter 1979/1980), p. 144–155; а также: Lee Congdon, The Young Lukacs (Chapel Hill: University of North Carolina, 1983).
[Закрыть].
К середине 1960-х годов все марксисты, желавшие заявить себя таковыми, делали упор на «эпистемологическую» проблему, которая оказывала деформирующее влияние на исследования, проводившиеся в традиции марксизма-ленинизма. Так, немецкий комментатор Иринг Фетшер во введении к изданным в 1975 году ранним работам Маркса обращает внимание на концептуальную незавершенность «Экономическо-философских рукописей». Согласно Фетшеру, смешение философского и экономического анализа дает возможность выявить некоторые черты рыночной экономики, но этого «недостаточно для анализа динамичных сил, порождающих изменения капиталистического производства». Далее Фетшер цитирует «ведущих исследователей [марксизма] в ГДР», утверждающих, что «научные марксистские исследования, особенно в области экономики, застыли на исходной позиции» и «что у нас нет развитого марксистского метода изучения механики современной капиталистической деятельности»[69]69
Fetscher. Marx-Engels Studienausgabe. Vol. 2, p. 11.
[Закрыть]. Фетшер, интерпретатор Гегеля, не выделяет явным образом проблему идеализма, но высказывает предположение, что его коллеги-марксисты впали в заблуждение, отвергнув «научный образец» Маркса.
Альтюссер, напротив, не упускает возможности поименно назвать вредителей, истолковывающих Маркса как гуманистического философа или рассматривающих его позднейшие материалистические писания как всего лишь привесок к проповедям об «отчуждении». Он борется с искажающим истолкованием Маркса, пытаясь доказать, что тот никогда не был гегельянцем. В своих ранних работах Маркс был прогрессивным кантианцем, а к середине 1840-х годов порвал с юношеской увлеченностью философско-этическими проблемами. В своей защите «настоящего марксизма», в противовес «воображаемому марксизму», Альтюссер подчеркивает «эпистемологический разрыв» между «идеологическим этапом» в творчестве Маркса, продлившимся примерно до 1845 года, и его последующим поворотом к материалистическому пониманию истории. Второй этап подразделяется на «период созревания», когда Маркс под сильным влиянием Фейербаха пришел к материалистическому прочтению Гегеля и написал работу «К критике политической экономии», содержавшую критический очерк противоречий капитализма и наметившую путь к «Капиталу». Только к концу 1850-х годов мы сталкиваемся с предположительно «зрелым» Марксом и его всеобъемлющим экономическим истолкованием истории. Альтюссер движется в направлении, противоположном тому, в котором Маркса истолковывали «новые левые» 1960-х годов, относя появление «настоящего» Маркса к концу его жизни, а его ранние работы характеризуя либо как поиск подходов к анализу форм производства, либо как наследие «идеологической» фазы. Эти идеологические элементы возводятся к Канту, который, подобно молодому Марксу, утверждал связь между политической свободой и индивидуальным моральным сознанием. В качестве примеров влияния Канта Альтюссер цитирует высказывания молодого Маркса об идеализации Гегелем прусской монархии и подробно останавливается на его протесте против прусской цензуры в родной Марксу Рейнской области. С учетом целей Альтюссера, в этой генеалогии есть смысл. В 1962 году Альтюссер раздраженно замечает, что гегельянское истолкование марксизма восторжествовало на всем пространстве от Центральной Европы до левого берега Сены. Тогда же он саркастически отмечает в эссе для La Pensée, что, «ссылаясь на одно и то же слово, „тотальность“, многие с чрезвычайной, легкостью от Гегеля переходят к Марксу, а от Gestalt'а к Сартру и т. д.»[70]70
Althusser, Pour Marx, pp. 47–83, 208. [Альтюссер Л. Молодой Маркс // Альтюссер Л. За Маркса; Альтюссер Л. О материалистической диалектике // Альтюссер Л. За Маркса. С. 289].
[Закрыть]
Столь же яростно Альтюссер поносит «“механи„стический материализм», который находит таким же ущербным, как и «подобный же источник путаницы, идеализм сознания». Он цитирует высказывания Энгельса и Маркса, выступавших против упрощенных материалистических объяснений, не учитывающих те общества и культуры, в которых формы производства утвердились сами по себе. Эти механистические объяснения игнорируют политическое и культурное воздействие, которое обостряет экономические противоречия. Альтюссер называет сочетание революционных обстоятельств surdeterminatio[71]71
Сверхдетерминация, детерминированность рядом факторов одновременно (франц.). – Прим. перев.
[Закрыть], поскольку эта ситуация характеризуется «объединенной сложностью» причин. Но внутри этого клубка обстоятельств явно выделяется «доминирующая структура» (structure à la dominante) – отношения власти, коренящиеся в отношениях производства и приводящие в движение революционные реакции. Альтюссер тщетно старается различать этот учет идеологических факторов и гегелевский идеализм, который, настаивает он, учитывает культурные или политические факторы не в большей степени, чем экономические: «Для Гегеля принцип, объединяющий и детерминирующий общественную тотальность, – это отнюдь не та или иная сфера общества, но принцип, не имеющий ни привилегированного места, ни привилегированного тела в обществе, причем по той причине, что он присутствует во всех местах и во всех телах»[72]72
Ibid, pp. 208, 210, 102–104 [Альтюссер Л. За Маркса. С. 288, 146–148, 290]; Louis Althusser, Marx et Lénine devant Hegel (Paris, PCM, 1972). Констанцо Преве (род. в 1943 году), неомарксистский истолкователь марксовой концепции отчуждения, написал критическое исследование защиты «научного материализма» Альтюссером как ядра марксизма. См.: Constanzo Preve, Politique et philosophie dans l’oeuvre de Louis Althusser (Paris: PUF, 1993). Преве стремится спасти «гуманиста» Маркса от попытки Альтюссера представить его историческим материалистом. В основном той же задаче посвящена работа: C. Preve, Marx inattuale: Eredità e prospettiva (Turin: Bollati Boringhieri, 2004).
[Закрыть]. Гегель применяет абстрактную концепцию «духа» к политической, религиозной и исторической жизни, преходящими воплощениями которой являются конкретные общества. Таким образом, он приходит к интернализации и спиритуализации того, что для Маркса является социальными структурами, связанными с идеологической надстройкой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!