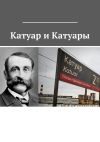Текст книги "Орнамент на моей ладони"

Автор книги: Полина Дибирова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Отцу пришлось выписать лекарства, определив этот рассказ как симптомы шизофрении, чтобы никому и в голову не пришло принять его за чистую правду.
Несмотря на печальный итог жизни Дахадаева, отец часто рассказывал именно это. И история казалась нам забавной.
Мать любила хлопотать по хозяйству. Она приучена была вести семейный быт с младых ногтей. Преданность чистоте и безупречному порядку всегда помогала ей в жизни, и, возможно, от этого она не замечала тяжкого груза забот о всей нашей большой семье.
Куда теперь это делось? Всё так безвозвратно изменилось. И каким же я был глупым, надеясь застать здесь всё так же, как прежде.
Сад за долгие годы разлуки почти полностью высох. Плодовые деревья стоят голые на тех же местах и кажутся съёжившимися, точно обугленные. И земля под ними поросла сорной травой выше пояса. Дом обветшал. В щели в рассохшемся полу забился мелкий песок, а под потолком углы заволокло паутиной и покрылись копотью. Калитка в заборе покосилась, просела с одной стороны и от этого скулит протяжно и жалобно, как побитый щенок. Окна не мыты, на стёклах осела пыль, забрав с собой свет и ясность солнечного дня. Всё стало серо, пахнет сыростью и плесенью.
Мать теперь не в силах бороться с этим домом. Он стал её склепом. Она теперь никуда из него не выходит, и всё, чем она живёт, – это только воспоминания.
Воспоминания… Ими сочится вся наша жизнь, как смолою сочится кора старого дуба. И чем дольше мы живём, тем больше вспоминаем о том, как мы жили.
Протирая одну тарелку за другой, я укладывал их в том же порядке на прежнее место в кухонный комод. Окончив эту нетрудную работу, я схватил таз с мыльной водой, чтобы выплеснуть его на улицу, но тут, обернувшись, увидел лицо матери.
Она так и сидела на своём стуле, а по щекам у неё текли слёзы. Но мама, кажется, совсем не замечала их. Я испугался. Эти слёзы вызвали у меня смятение. Опустив таз на место, я тотчас подошёл к ней и, упав на колени, принялся жадно целовать её ладони.
– Что такое, сыночек? Что с тобой? – с тревогой запричитала она, точно опомнившись.
– Ничего, мама. Всё хорошо. Теперь у нас с тобой всё будет хорошо.
Ночь я провёл в своей прежней комнате. Там всё осталось стоять на своих местах. Маленькая, всего в девять квадратов, она, как и прежде, вмещала в себе железную кровать с пружинным матрасом, дубовый деревянный шкаф с пожелтевшим зеркалом на дверце, письменный стол с канцелярской тумбой и стул при нём.
Я долго не мог заснуть. Вся эта безукоризненная привычность здесь играла со мной злую шутку. Всё это было неправильно и не согласно моей внутренней логике вещей. Это было всё равно, что случайно встретить через много лет на улице своего давнего приятеля и заметить, что он ничуть не изменился. Я поменялся, а комната – нет. Неужели моя комната – величина более постоянная, чем я?
Теперь всё шло на конфликт. Она хотела видеть меня прежним, а я не принимал её такой, как раньше.
Ночными кошмарами меня душили воспоминания прошлого. Они приходили, наслаиваясь одно на другое, не разбирая дат, и мучили меня. Все, даже те, о которых я уже, казалось, и не помнил. Я вздрагивал во сне, кричал, будил мать, и она, бедная, сослепу никак не могла понять, что происходит.
Прошлое, даже самое радостное и приятное, превращается в кошмар моих воспоминаний, потому что забирается туда, где его уже не должно быть.
Твои личные вещи – это всё только лишь воспоминания. Приятные и не очень, они все толпятся в твоей голове, как в старом шкафу, пропахшем плесенью.
Если бы только можно было выкинуть из своей головы весь мусор, но ведь от него не избавиться так просто. Если что-то помнится мне, значит, это нужно помнить для чего-то. Для примера, укора, опыта или просто для того, чтобы рассказать кому-то.
На моей родине светает рано. Чуть только из-за горных вершин забрезжит золотисто-красный свет восходящего солнца, петухи горланят во всю глотку, возвещая о начале нового дня.
Для меня этот рассвет пришёл как избавление. Я вскочил с кровати, точно утренний свет, вонзившийся в окно, развязал мои путы. Одевшись, я тут же спустился в сад.
Бывало, в такую рань мать уже бросала по двору мелкое пшено для кур или поливала саженцы растений. Сейчас она спала, и я был рад за её покой.
Осторожно отворив калитку, подперев провисающий угол, чтобы не скулил, я вышел на улицу и отправился давно знакомым и давно забытым маршрутом вниз по склону горы.
Не прошёл я и половины пути, как на дороге мне встретился старик, сам небольшого роста и чуть ли не до земли гнущийся под тяжестью собранной им вязанки сухих прутьев. Но не только это удивило меня. Ветошь в селе всегда собирали женщины, даже никуда не годные старухи несли на горбу солому для скотины или сухие палки для разведения огня. Поэтому я решил, что старик, должно быть, совсем одинок. Он был одет в ветхий стеганый бешмет, на голове его, перекрывая всякий обзор, кроме плоскости в один шаг под ногами, была надвинута по самые глаза войлочная шапка с неровными краями. На ноги были надеты мягкие чувяки с высоко поднятыми носами.
– Я помогу тебе, – обратился к нему я и, схватив вязанку обеими руками, уже намеревался снять её со спины старика.
На моё удивление, старик принялся живо и часто сопеть, встал на одном месте и никак не отпускал из своих костлявых рук шлейки, перевязывающие его ношу. Я тоже не сдавался. Решился исход этого немого поединка одним решительным рывком. Силы подвели моего встречного, и старик, со вздохом разжав натруженные ладони, опустил руки. Он так и не поднял на меня глаза из-под низких краёв своей шапки.
– Куда нести? – спросил я. Старик вздохнул ещё раз, обречённо указав мне дорогу прямо.
Он отставал от меня на шаг, как бы медленно я ни семенил. Теперь, казалось, он шёл ещё тяжелее, чем до того, как я снял с него эту ношу. Я оборачивался и ждал, пока он перевалит своими скрюченными ногами за очередную дорожную ложбину или выступ. Мне уже начало казаться, что он испытывает моё терпение. Наконец, я не выдержал и обратился к нему:
– Ты кто такой, старик? Я раньше жил в этих местах, а тебя не знаю.
Продолжая помаленьку перебирать ногами, он отвечал, так же не глядя на меня.
– Я живу здесь всю жизнь, а тебя тоже не припомню.
– Я сын доктора Муртазали. Его ты знал?
– Муртазали? – переспросил старик, остановившись и с недоверием покосившись на меня, всё ещё скрывая своё лицо под краями шапки. – Муртазали был хороший человек. Только сын его с войны не вернулся.
– Я его сын! Вот, видишь, стою перед тобой. Я живой! Я вернулся и теперь здесь останусь.
Старичок вновь опустил голову и, вроде как тихонько усмехнувшись, продолжил идти.
– Что ты его сын – верю. Что стоишь передо мной – сам вижу. Вернулся – значит, такая твоя судьба. Но то, что останешься здесь, – такого не будет, запомни это.
Тут старик, наконец, поравнялся со мной и двинулся дальше вперёд, уже не останавливаясь.
– Почему? – крикнул я ему в спину.
– Потому, что тот, кто изменился один раз, уже не сможет измениться обратно.
С этими словами он отворил маленькую калитку, собранную из таких же веток, что составляли его вязанку, привязанную верёвками вместо петель к низкому плетёному забору, и встал на порог, ожидая, когда я подойду.
То, что я от него услышал, меня удивило. Не потому, что я не ожидал такого ответа, а наоборот. Я ему верил.
Я подошёл, подал ему вязанку. Он схватил её и тут же кинул во двор под забор.
На прощание старик окликнул меня:
– У доктора Муртазали был хороший сын, – сказал он. – Я рад, что он не погиб на войне.
Калитка из плетёных прутьев сомкнулась.
Я постоял ещё немного, провожая взглядом сгорбленную спину моего случайного собеседника, и пошёл дальше своею дорогой, размышляя над словами старика.
Как часто слышал я от поживших людей, что молодость проходит быстро и бесследно. И как удивлялся я тогда, думая про себя, что это всё красивые слова, сентиментальные воспоминания и не более. Ну как же могут пройти быстро года, когда жизнь вся открыта перед тобой, как на ладони? Когда ты смел и скор на поступки, когда готов принять и впитать в себя всё новое и интересное. Неужто мне не хватит времени исполнить всё, что мне хочется?
Тогда я был ещё мальчишкой, и время моего ожидания взросления тянулось для меня, как бесконечная полярная ночь. И не было для меня ничего мучительнее и дольше этого ожидания. Я только и думал, вот минует ещё три – пять лет, и я сам смогу решать: что мне делать, а что нет.
Я ждал своей степенности как избавления от гнёта малолетства, но ожидание обмануло меня. Я не получил желаемой свободы.
Уже через четверть часа ноги сами привели меня к тому самому месту, где я когда-то проводил много времени за рисованием. Лавочки, которую я когда-то поставил здесь, уже не было, но дерево, под которым она находилась, так же стояло, раскинув под своими могучими ветвями приятную прохладную тень.
Я сел под него на зелёную росистую траву и взглянул издали на своё селение.
Каким маленьким виделось теперь оно мне! Захоти я обойти его поперёк слева направо, смог бы сделать это минут за двадцать пять, хотя и нет там такой прямой дороги.
Раньше это дерево росло далеко от села. Здесь любили отдыхать путники или чабаны, пасущие отары овец на летних пастбищах. Теперь до крайнего дома отсюда рукой подать. Моё село росло и спускалось со склона. Стал ещё яснее виден мой дом, который раньше в такое время всегда скрывался за обильной листвой наших садовых деревьев.
Каким унылым представлялся мне теперь весь этот пейзаж. Как грустно мне было его созерцать. Вся радость моего возвращения быстро улетучилась. За один неполный день мне наскучило это небо с всегда перистыми, слоистыми облаками над головой. Мне приелся вкус нашей традиционной пищи, и стал не мил этот воздух, меня окружающий. Не цепи, а тяжкие кандалы привязывали меня к родному дому и словно тянули вниз, в пучину обыденности, скуки, рутины и вечного забвения. Здесь я нигде не мог бы найти своего счастья. Здесь ветер не носил в своём дыхании моей свободы.
Я страшился привыкания. Это бывало со мной не раз. Особенность, плотно засевшая в человеческой натуре, была и в моём характере. Во многих предшествующих случаях в жизни она помогала мне выжить. Теперь же мне меньше всего хотелось снова её испытывать.
Как всегда, если случается, зайдя в тёмную комнату, мы ориентируемся плохо, натыкаясь на каждый угол и спотыкаясь о любой встречный предмет. Но, пробыв в этом пространстве какое-то время, наш глаз привыкает к темноте и безликости пространства, постепенно вылавливая в ней слабые очертания, контуры предметов, домысливая и воссоздавая их в голове. И вот пространство уже не кажется нам столь тёмным. Становится ли оно светлее на самом деле?
Подобно этому примеру я боялся привыкнуть к рутине своей новой жизни. Я боялся увязнуть в ней.
Вот, думал я, пройдёт каких-нибудь две-три недели, и мне уже не будет хотеться большего, чем сытно поесть на ужин и завалиться спать на свою проваленную кровать. Захватит водоворот мелких бытовых проблем и неизбежных жизненных неурядиц, присущих каждой поре, заставит искать компромиссы, и тогда уж будет не до осуществления моей мечты. Я свыкнусь с глушью, с замкнутостью и ограниченностью новых интересов. Всё, что предшествовало этому, покажется мне в другом свете, глупым и никчёмным. Я хотел, избежать этого. Ища покоя, я боялся уткнуться в забвение.
Здесь, в селе, высоко в горах, грохот взрывов и отголоски пулемётных очередей войны были слышны только по радио и в центральных газетах. Но жизнь, заведённая издавна, не текла теми же маршрутами, что и раньше.
Судьба оказалась благосклонна к сынам этой земли, и с войны вернулась почти половина тех, кто уходил из нашего села.
Но были и такие дома, откуда уходило двое и не возвращался ни один. Были семьи, у которых война отняла всех мужчин рода. В одном из сел нашего района, оно небольшое, едва ли насчитать сорок хозяйств, были призваны на фронт двадцать три мужчины, а вернулись пятеро. Пятеро мужчин на всё село.
Женщины за эти годы стали смелее. Они взвалили на свои хрупкие плечи все тяготы голодной жизни и тяжёлый труд сельскохозяйственных работ, когда на своих спинах носили огромные мешки и в одиночку вспахивали поле. Теперь на них строгие пиджаки и юбки, на городской манер, но всё так же неизменно они покрывают голову платками. Многое выпало на их долю, того, чего никогда они не видели, и того, к чему было им не привыкать. Они стояли на фронтах своего быта, защищая дома и своих детей от страшных и невидимых врагов – разрухи, голода, болезней и упадка. Их жизнь здесь теперь уже никогда не будет такой, какой была прежде.
Никогда и никто не забудет здесь эти тяжёлые годы войны.
Вдруг среди моих размышлений, непонятно откуда, у самых ног возник и заюлил пёс. Он не нападал и не огрызался. Скулил, мотал хвостом из стороны в сторону и мордой приникал к земле у самых моих ботинок так, что его резкое влажное дыхание сдувало пыль с них.
Не сразу я признал эту псину. Собака была плешивой и худой. По бокам торчали рёбра, как у дойной коровы, хвост был ободран, и нос поцарапан. Но всё же это был он, мой старый друг Кичи. Я знал его, когда сам был подростком, а он ещё бегал щенком. Бедный сельский пёс! Он узнал меня, почуял. Наверное, местные здоровые собаки согнали его на окраину села помирать здесь от голода.
Я брезговал его паршивой шкурой и не мог погладить его голову, потрепать за гриву, как делал раньше. А он нет. Он тосковал, но самой бескорыстной и самоотречённой тоской, такой, когда при встрече ни в чём не упрекают. Кичи, как всегда, верен своему хозяину. Хотя какой из меня хозяин? Ни корма, ни ошейника я ему не принёс.
Пёс приник к моим ногам, и всё мотал хвостом, не скрывая радости от встречи.
Ему было абсолютно всё равно, откуда я вернулся и где так долго пропадал, почему не навещал его, что делал в далёкой разлуке. Ему ничего не нужно было от меня. Его радость – это просто радость, а если у меня в кармане заваляется кусок хлеба или ещё чего съедобного, что я ему подкину, он будет рад ещё больше. Он счастлив тем, что может вновь выразить свою бесконечную преданность. Он никогда не боится привыкнуть. Как многому из самого простого людям стоит по учиться у собак!
Я присел на корточки и потрепал по загривку моего старого друга. Ну тут уж он был вне себя от восторга! Мне пришлось тут же подняться, иначе Кичи наверняка бы скоро осмелел и ткнулся бы мне в лицо своей грязной мордой. Мы вместе пошли обратно и расстались только у села. Дальше идти он не захотел или побоялся.
В то же утро я навестил могилу отца.
Сельское кладбище располагалось недалеко, на другом конце села, у склона горы. За ним никто не присматривал. Не было никаких сторожей, оград и заборов. Это было не принято у нас по причинам вполне объяснимым. Во-первых, я не знаю никого, кто мог бы каким-либо образом повредить или осквернить могилу усопшего. Второй причиной было то, что по мусульманским законам могилу не разрешается поправлять. Никто не должен восстанавливать накренившийся надмогильный камень. Считалось, что как есть срок каждому человеку, так есть он и для всего.
Отчасти по этой же причине усопшего не хоронили в гробу, а клали в землю, завернув в саван. Сверху обычно клали под наклоном дубовые доски и засыпали землёй. По прошествии некоторого времени на этом месте воздвигали камень. Когда саван истлеет и тело покойного разложится до костей, а камень сравняется с землёй, это будет означать, что место свободно для новых захоронений. Земли ведь было мало для всего: для жизни и для смерти.
Так и вершится круговорот времён. Что-то истлевшее и отжившее свой век непременно уступит место новому, и старую боль поглотит новая.
Камень отца я нашёл без труда. Приметил его, ещё когда подходил к кладбищу. Я ведь сам тогда, в мастерской каменотёса, выбрал эту глыбу. Она была здесь самой светлой из всех, а сейчас немного потемнела, как мне показалось.
Помню это время хорошо, будто оно только вчера минуло. Я был ещё совсем мальчиком, но по правилам заниматься таким делом должен был именно я.
Было раннее утро. Отправившись в дом каменотёса, я провёл в его мастерской в тот день больше трёх часов. Сначала я задержался оттого, что мне не хотелось возвращаться в траурный дом, где женщины в чёрных одеждах то и дело причитали в внезапных приливах горя и отчаяния. Но уже вскоре, рассматривая некоторые уже готовые камни и другие работы, наблюдая сам процесс высекания на плите узоров, я необычайно заинтересовался делом мастера.
Я пристально следил за резкими и быстрыми движениями инструмента, который превращал шероховатую поверхность твёрдого камня в извилистый растительный орнамент. Гибкие каменные стебли сливались воедино и расходились полукругом, отбрасывая изогнутый лист и завершаясь в причудливом соцветье. Это было поистине удивительное зрелище.
Камень в горах – это основа основ. Сами горы – это большие каменные глыбы. Искусство каменотёса – самое древнее из всех, что бытуют ныне или были когда-то. Это просто объяснить – материал вечен.
Традиции, зародившиеся ещё до нашей эры, и навыки мастерства с того времени непрерывно развивались. Они легли в основу всех дальнейших путей и направлений в декоративно-прикладном искусстве моего народа.
Сделав заказ, в основном положившись на советы опытного мастера, я пришёл в его дом и на следующий день.
Сам мастер, его звали Абулав, был здоровый коренастый мужик. Он носил белую вышитую феску, имел длинную спутанную бороду и внешность мясника и ни слова не знал по-русски. Ничего из вышеназванного никак не могло мешать нашему с ним общению. Мы разговаривали на тюркском и довольно скоро достигли взаимопонимания.
Уже на третий день он преподал мне первый урок обтёски камня.
Все надмогильные плиты изготавливали из особой породы горного песчаника. Он имеет желтоватый цвет и податливую пористую структуру. Между тем такой камень достаточно прочен к воздействию ветра, влаги и времени. Этот песчаник был не похож на обычную горную глыбу, ломавшуюся острыми углами. Он словно мог хранить в себе тепло человеческих рук и оттого, наверное, никогда не бывал холодным. Ещё одно несомненное преимущество заключалось в доступности и достатке этой породы в наших краях. Но всё это мне ещё только предстояло узнать.
Через месяц я стал кем-то вроде подмастерья. Носил в мастерскую воду для технических нужд, подметал пол. В особенно редких, для меня всегда очень волнительных случаях Абулав мог позволить мне самому по намеченному рисунку высечь какой-то несложный фрагмент.
В этой мастерской прошло немного из моего лучшего времени. Работа подмастерьем у каменотёса отвлекала меня от уныния и помогала смириться. Сам Абулав, этот матёрый, косматый мужик с грубыми, как наждак, ладонями, с огромной силой в руках, суровым взглядом и абсолютно по-детски доброй душой, оставил во мне частичку своей великой житейской мудрости. Он учил меня своему удивительному ремеслу через призму обычных дел. Тогда для меня, мальчишки, оставшегося без мужского наставничества и совета, он имел огромнейший авторитет.
Мастер был молчалив, как медведь, но каждое сказанное им слово я ловил и старался запомнить. Мне казалось, что он вовсе не думает над тем, какую важную роль играет его труд в жизни человека. Ему по простой природе были чужды сантименты и тому подобные душевные переживания. Он относился к жизни просто, так же, как и из смерти не делал особого события.
Почти каждый день в его мастерскую, где он и жил, будучи одиноким отшельником, стучались люди в траурных одеждах. И за много таких лет он уже не мог иметь к ним сочувствия и всего того, что мы обычно понимаем под этим словом. Я наблюдал за тем, как он толково говорит с родственниками умершего, как внимательно они слушают его советы и наставления по поводу рисунка и формы надгробия.
В разговорах со своими заказчиками Абулав всегда был излишне строг, хмур, упрям, предельно деловит и твёрд, как камень. Думаю, он держал себя так для пущей важности и во избежание излишних проблем. Он был сухой ремесленник. Грубый практик.
Образцы бронзовой эпохи, древнейшие надмогильные памятники – это были своеобразные книги, отражающие судьбы погибших людей. Орнамент, покрывавший камни в то время, был повествовательным. Мастер мог изобразить на стеле, как жил, чем занимался и от чего умер человек.
Со временем искусство резьбы по камню дополнилось влиянием сасанидского Ирана, христианской Армении и мусульманского Востока, создав совершенный, самобытный и оригинальный стиль.
На всех своих этапах развития памятник всегда выполнял и определённую социальную функцию. И чаще всего надгробия отражали именно дифференциацию общества. Словно не все могли быть равны перед смертью.
Конечно, всегда есть те, кто и после жизни достойны бóльшего почёта и уважения. Но не по величине и искусности их надгробия судить об этом, а за дела их, оставленные для потомков.
Мусульманская суннитская вера запрещала мастеру изображение человека где бы то ни было, в том числе и на надгробиях.
Считается, что только Аллах может создать человека таким, каким его видит, а всё остальное подражание – это глупое соперничество с Создателем. Но сами стелы надгробий были издали похожи на людей. Они имели округлые навершия и «плечи». Всю эстетику нёс в себе орнамент, который именно ислам сделал особенно пышным. Его дополняла надпись имени на арабском, времени жизни и иногда места рождения усопшего.
Ремеслом дело каменотёса стало только в конце XIX века. Именно это и сыграло свою роль в современной традиции. Ремесленники упростили своё искусство, поставив его на поток. Художественные традиции разных народов моей земли перемешались под резцом одного мастера в той пропорции, которая лучше отражала сугубо его вкусы. Ушла неповторимая самобытность. За личными представлениями о гармонии стёрлась великая История всего народа. В мировом искусстве я бы сравнил это с абстракцией.
За свою многолетнюю практику мастер Абулав выучил всего не больше пяти видов различного рисунка орнамента, и больше ему было не к чему. Точнее было бы даже сказать, что и четыре вида из тех, что были ему известны, он использовал не слишком часто.
Особенно Абулав не любил, когда его просили исполнить оригинальные надписи на арабском или, того хуже, на русском языке. Это была, так скажем, новая традиция в наших местах, а для Абулава – сущая катастрофа. Только услышав об этом в стенах своей мастерской, он начинал громко вскрикивать, поднимая руки вверх, принимаясь со всем возможным красноречием убеждать заказчика в том, что это излишнее и в корне попирает все цементирующие традиции наших уважаемых предков. Примерно так он и говорил всем. Тем не менее слово настойчивого заказчика иногда всё же играло решающую роль.
Недовольно намекнув на двойную мзду, не из корысти, а скорее как на последний аргумент, разругавшись и вконец павши духом, Абулав приступал к работе, ворча себе под нос всё те же аргументы, но теперь уже их слышал только я.
Никакой твёрдой платы за свою работу Абулав не брал. Каждая семья оставляла ему столько, сколько могла себе позволить или считала нужным оставить. Иногда это были деньги, иногда мясо или овощи. Он никогда не спорил об этом, всё, что бы ему ни давали, будь то живой баран или головка сыра, он принимал с одинаковой благодарностью. Тем и жил. Его работа превратилась для него в способ существования. Ничего другого в жизни он не умел и ничего иного не видел, кроме как надмогильные плиты и плачущих родственников.
Сидя на траве перед высоким, стройным надгробием отца, я почему-то вспоминал именно это. Я не соотносил этот камень с воспоминаниями об отце, которые могли бы нахлынуть на меня в любом другом месте гораздо скорее, чем здесь. Надгробие стало точкой отсчёта, нулевым километром начала моей самостоятельной жизни и похоронило вместе с отцом пору моего прекрасного детства.
Я думал, что когда-нибудь под таким же камнем здесь буду лежать и я. Но стоит ли сожалеть об этом?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?