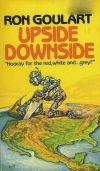Текст книги "II. Аннеска"

Автор книги: Поветрие
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
XXI
«Пленители доставили меня в городские казармы или некое подобие воинского гарнизона. Я оказался в темном коридоре с низким потолком и дверями по обеим сторонам, львиная доля которых была распахнута настежь. Из смежных помещений слышались переругивающиеся голоса, женские стоны и звон оружия. В спертом воздухе витал тяжелый аромат пота, хмеля и мужского семени.
Наш путь лежал в самую дальнюю залу, что отличалась крохотными размерами. Там меня встретил рослый муж, облаченный в кольчугу с гербом сего града в виде черного коня на ярко-желтом фоне. Без лишних слов он заломил мне руки, а после приковал цепью к массивной оружейной стойке. После, произнеся одну единственную фразу «mox judicium», он приказал моим поводырям следовать за ним и оставил меня в полном одиночестве. Обессиленный от побоев и унижений, я сполз на холодный каменный пол и забылся сном.
Меня вернула к жизни жгучая боль в области ребер. С трудом открыв глаза, я узрел пред собой черные тени двух стражников, чьи лица были закрыты шлемами, тронутыми местами ржавчиной и черной потертостью. У одного из воинов в руках был факел, едкий дым от которого разъедал мои и без того воспаленные глаза. Пинками и ругательствами на непонятном наречии солдаты требовали от меня пробудиться. Когда же я встал, один из них разомкнул мою цепь и грубо побудил меня следовать за ним. Настало время ответить за то, что я на самом деле не совершал.
Суд надо мной проходил в том же здании, на втором этаже. В просторной совершенно квадратной комнате с пятью небольшими оконцами за простым столом сидел судья в окружении двух стражников. Это был человек неопределенного возраста в несвежей мантии темно-красного цвета и того же цвета колпаке. Длина его носа казалась излишней, а впалые скулы придавали его бледно-серому лицу нелепость. Неотрывно смотрящие сквозь меня глаза, замутненные желтизной белков, лишь усугубляли гнетущий образ вершителя судеб. Всем своим видом он напоминал развалившуюся и сгнившую церковную статую, что ввиду ее плачевного состояния убрали с праздничного фасада святилища с глаз долой в кладовую, дабы она оставалась там до конца времен и более не доставляла неудовольствия своим обветшавшим обликом ни пастве, ни священнослужителям.
Пред судьей лежала толстая книга в добротном кожаном переплете с пустыми страницами, в которой, не отрывая взгляда от некого объекта в пространстве за мной, он монотонно делал пером, сжатым в правой руке, некие записи. Левая же рука при этом ладонью наружу лежала на правом плече. Она несла на себе следы увечий в виде отсутствия трех пальцев. В самом центре ладони сей многострадальной длани черной краской был вычерчен крест, о предназначении которого оставалось только догадываться. Я также обратил внимание на то, что позади сего странного мужа висело три гобелена – на двух из них разместились городские гербы, а на центральном полотне – такой же крест, как и на искалеченной конечности этого земного воплощения Юстиции.
Суд надо мной завершился, едва успев начаться. Скрипящим голосом, так и не удостоив меня взглядом, судья, в отсутствии кого-либо кроме вооруженной стражи, произнес по-латински свой вердикт: я был признан полностью и бесповоротно виновным в поджоге и намеренной порче имущества добропорядочных и уважаемых граждан с целью их убийства. Сие утверждение было сделано на основании множества неопровержимых свидетельств почтенных жителей Штутгарта, в очевидности которых не следовало сомневаться уже потому, что количество полученных обличений оказалось очень велико.
Таким вот образом – без лишних церемоний – меня приговорили к смертной казни. Однако по причине того, что после скоропостижной смерти городского палача (то ли от переедания, то ли от неуемного блуда) еще не успели выбрать преемника, исполнение приговора на мое счастье было отсрочено на неопределенный срок – до тех пор, пока новый каратель не заступит на роковую для меня должность. Первое время мне предстояло коротать дни в подвале тех же самых казарм, в крохотной камере, куда раз в день невозмутимый стражник приносил мне убогую трапезу и зловонную воду».
XXII
«я устал считать дни, ожидая, когда приговор будет, наконец, приведен в исполнение. Первые дни мысль о нем страшила меня, и я неустанно молил Господа о возможности даровать мне безболезненную и быструю смерть на эшафоте под лезвием топора, который отделил бы мою голову от изломанного тела. Но чем больше проходило времени, тем безучастнее становилось мое отношение к чему бы то ни было вообще – как к болезненным побоям, которые я время от времени терпел от смотрителей, приносящих мне объедки, дабы я мог продолжать свое жалкое существование, так и к всепоглощающей тьме, сырости и склизким телам крыс, являвшимися постоянными спутниками моего заточения. Со временем сие подлые твари осмелели настолько, что, когда я спал, стали вгрызаться в мои израненные телесные члены, изувеченные рукоприкладством тюремщиков. Они наверняка сожрали бы меня заживо, если бы не вызванный пленителями лекарь, который, ужаснувшись моему состоянию, отрезал мне ногу, а после настоял на моем перемещении в камеру этажом выше. И я был этому несказанно рад, ибо сие узилище по крайней мере имело деревянный пол да крохотное решетчатое окно, из которого временами можно было увидеть крупицу небосвода, озаренного солнечными лучами. Это порой так воодушевляло! Здесь я практически забыл о том, что такое холод и тьма, ибо почти каждую ночь напротив моей камеры стражники с неведомой мне целью зажигали факел.
Так прошло несколько месяцев, а может быть и больше. Я все еще был жив и, вероятно, неустанно удивлялся бы этому факту, если бы не подслушанный разговор двух смотрителей, который объяснял все происходящее со мной. Оказалось, что судья, вынесший мне приговор, по совместительству являющийся правой рукой маркграфа и вторым человеком в городе, вот уже несколько недель был серьезно болен и лишь изредка приходил в сознание. Однажды, когда ясность ума вернулась к нему между приступами забытья, он потребовал от подчиненных поклясться, что до его кончины ни один смертный приговор не будет приведен в исполнение, ибо он не желал, чтобы его последние дни на этой земле были омрачены убиением других, пусть и по справедливости. Хотя сие странное постановление вызвало недоумение и едва ли не презрительный смех тюремщиков, оно все же исполнялось беспрекословно.
Я не ведаю, когда умер мой спаситель, однако его кончина вероятнее всего совпала с женитьбой маркграфа на дочери одного из высокопоставленных мужей Вечного града. В честь сего события, а также во имя преумножения милосердия среди всех христиан сей земли, было приказано на день отворить все тюремные двери. Узники, находящиеся в камерах, не запятнавшие себя убийством, воровством или иными смертными грехами, а также те, против кого не было однозначных доказательств, могли идти на все четыре стороны при условии, что в течение последующих трех дней они навсегда покинут окрестности Штутгарта. Сия милость касалась и меня, я был волен идти на все четыре стороны.
Опираясь на костыли, наспех сооруженные из двух кривых ветвей, укутанный в ветхую арестантскую робу, я тотчас же устремился туда, где по моему мнению находился злополучный сгоревший дом. Понимая умом, что найти утерянную реликвию на пепелище или где-то поблизости по прошествии стольких дней можно только чудом, я искренне надеялся на то, что оно свершится. Я был наивен и не ожидал, что осознание моей ошибки может быть столь отрезвляюще болезненно.
Добравшись до рокового места, я обнаружил пред собой шатер из разноцветного полотна, в котором располагался трактир. Пьяный гомон доносился из его недр, а рядом пошатываясь ходила типичная для сего места публика с помутневшим взглядом, грубыми криками и пудовыми кулаками, которые готовы были обрушиться на голову каждого, кто своим обликом демонстрировал слабость, робость или что угодно другое, что могло вызвать недовольство у окружающих. Но я все же рискнул и, подойдя еще ближе к трактиру, заприметил сидящего на скамье мавра с черной спутанной бородой в зеленом кафтане и почерневшим от времени кубком вина в руках. Должно быть, он узрел во мне родственную душу – по осунувшимся и исхудалым, но характерным чертам лица, поэтому на мой вопрос о том, что он знает об этом месте и что интересного происходит здесь, я получил богатый на эмоции монолог.
Так мне стало известно, что лучше бы этого трактира не было вовсе, а также что его хозяином являлся брат сего мужа, который несколько месяцев назад после больших уговоров выкупил у городского совета право пользоваться этой землей. Все бы ничего, но сие позволение обошлось ему втридорога, тем более, что сделка оказалась не так уж справедлива и эта земля совсем не стоила затраченных на нее средств! Расставаясь со своими накоплениями, дабы пустить свою предприимчивость в дело, он и не ведал, что приобрел в пользование пепелище, которое по негласному обычаю было для местных жителей едва ли не местом паломничества, ибо в сгоревшем жилище жил некий муж, чьи поступки при жизни были примером праведности и добродетельности для окружающих. Возведение же на роковом месте обители порока, да еще и иноверцем, расценивалось как кощунство, поэтому вызвало ощутимое недовольство. Если бы не корыстная воля местного муниципалитета, стремящаяся превратить каждую пядь земли в золотую монету, предприимчивые иноземцы были бы уже давно растерзаны, но протекторат маркграфа играл свою сдерживающую роль, оберегая трактир и его владельцев, исправно выплачивающих львиную долю ежедневного дохода городским смотрителям, от совсем уж роковых последствий.
Между тем народный гнев был неискореним, посему его проявлений избежать не удавалось. Чуть ли не на следующий день после того, как таверна распахнула свои двери для первых посетителей – тех, кому заманчивая возможность испить в честь открытия заведения столько браги, сколько будет угодно их душе, и не заплатить при этом ничего, была выше каких-либо принципов – начались первые недоразумения. Так, после первой ночи трактирщик обнаружил на импровизированном складе позади шатра проткнутые пивные бочки и глубокие порезы на полотне шатра. Подобные неприятности повторились и в следующую ночь, и в последующую за ней. Ущерб становился все весомее… Дошло до того, что моему рассказчику и его брату и по сей день приходилось попеременно сидеть в любую погоду и в любое время на этой самой лавке, на которой сидели мы, дабы отслеживать поползновения городских проходимцев и по возможности пресекать их.
Продолжая испивать вино и доливая в кубок напиток из глиняного сосуда, то и дело извлекаемого из-под лавки, мавр продолжал свои ламентации, проклиная городскую стражу, которая, несмотря на получаемые немалые деньги за охрану сего места, совсем не торопится его охранять, а также коря себя за бесхребетность, пьянство и неспособность следовать заповедям Пророка. Казалось, его излияния даже доставляли ему удовольствие. В его затуманенном взгляде просматривалась радость, ибо во мне он узрел верного слушателя, и сей факт все больше раззадоривал его красноречие. Он все чаще и чаще упоминал незнакомые имена, поступки неизвестных мне людей, а также обстоятельства и детали событий, в которых я никогда не участвовал.
Увы, во всей этой сумбурной исповеди для меня не было ровным счетом ничего полезного. Мне оставалось лишь проявить терпение и стойко дожидаться, пока сей человек забудется глубоким сном. Когда же это произошло, я так и остался в неведении относительно судьбы потерянной мной по неосторожности реликвии и лишь убедился в том, что шансов найти ее больше нет.
Продолжать поиски было бессмысленно, поэтому я снова отправился в путь… Преодолевая физическую и моральную боль, я поковылял прочь от сего злополучного города. Моей целью по-прежнему была Прага, где я несмотря ни на что рассчитывал отыскать настоятеля Фаранской часовни и явить ему себя в ореоле всех тех событий, что произошли со мной. Лишь таким образом я имел право на хотя бы частичное исполнение того обета, который я ему некогда дал».
«На этом, собственно, моя история, заканчивается, – устало молвил в заключении Арам. – С тех пор я странствовал по разнообразным землям, пересекая границы многочисленных феодальных владений, дабы однажды наконец увидеть стены Праги. И вот произошла наша с вами встреча, Сестра».
XXIII
– Ваш рассказ впечатлил меня, Арам! – задумчиво молвила я. – Значит, вы ничего не знаете о печати Святого Гильома? Она исчезла?
– Да, сестра Божья! И это привнесло в разум мой необыкновенный стыд и лютую горесть. Теперь я не ведаю о том, что я скажу настоятелю Фаранской часовни в свое оправдание! Да и может ли быть оно? Да и встречу ли я его?
– Нет нужды сожалеть, Арам, – попыталась успокоить собеседника я. – На любой исход воля Божия. Но скажите мне, о чем все-таки вы желали спросить меня, начиная свой рассказ? Какого рода совет хотели вы услышать?
– О да, сестра, позвольте, я отвечу вам на этот вопрос и заодно скажу, ради чего присоединился к вам. Возможно, моя история была изложена чрезмерно холодно и моя речь была поражена косноязычием, обратившись в конце концов обременительным сумбуром слов, от которого я не могу избавиться с самого рождения – и в результате вы не сумели узреть в ней то, что тревожит меня… Итак, уповая на ваш сан, я хотел вопросить вас, следует ли мне после стольких бед, обрушившихся на мое чело, продолжать шествие к своей цели? Быть может, видение ангела было плодом моего воспаленного мышления или вовсе дьявольскими кознями? Правильно ли я поступаю, до сих пор стараясь достичь стоп того человека, которому я обязан? Разве не мог он по прошествии стольких лет забыть обо мне? – последние слова Арам молвил с дрожью в голосе. Мне показалось, что они дались ему с трудом.
– Послушайте, Арам, – бросила я холодно, отчего тот, к кому я обращалась, невольно вздрогнул. – Кто я, чтобы судить других людей? Пусть я и была воспитана и обучена в обители Божьей светлейшими сестрами, восхваляющими дело Господне, я не могу дать совет вам, ибо не могу, как бы ни пыталась, узреть в душе своей священное право судить о судьбах чужих людей. Я точно знаю лишь одно: те обещания и клятвы, что были даны нами некогда – даже тогда, когда наш разум был зачарован или же соблазнен чем-то, что может воплотиться в тысячу различных форм – их мы обязаны исполнить, каким бы неисполнимым и невозможным это не казалось. Если же силы в наших членах телесных иссякли, то мы должны уже усилиями души стремиться к тому, чтобы слово, данное нами прежде, ныне воплотилось в деяние – за это Бог, быть может, когда-нибудь и простит нам смертный грех, который есть в каждом из нас. Я говорю об исполнении долга исходя из собственных воззрений, не прикасаясь к тем положениям, что вы могли бы сопоставить с моим духовным саном. Посему, прислушиваться ли вам, Арам, к моему совету или нет, вам надлежит решать самому.
– Благодарю вас, мудрая дева, – произнес Арам. – Я признателен вам за слова ваши. Что же касается нашего совместного пути до врат пражских, то здесь, скажу я вам, мне придется покинуть вас прежде, чем обещал. Заря, что осветит сей небосвод вот уж очень скоро, велит мне продолжить путь свой в одиночестве.
– Я понимаю и не корю вас за преждевременный уход, – сказала я. Вероятно, именно мое подсознательное безразличие и скрытое недоверие к этому странному человеку заставили его уйти. – Я помолюсь за вас Господу нашему. Сейчас же позвольте мне благословить вас на то, чтобы путь ваш был удачным, – я осенила крестным знамением лоб калеки, а после, коснувшись устами его лба, прочитала молитву…
Затем я отдалась сну, очнувшись от которого, заметила, что спутник мой, сдержав свое обещание, покинул меня. Огонь, разведенный нами накануне, потух, а вокруг по-прежнему клубами вилась ненавистная туманная дымка, которую я готова была возненавидеть. Вчерашняя встреча на мгновение показалась мне иллюзией – точно так же, как рассказ ушедшего Арама. Однако, я верила, что ни одна встреча не происходит случайно. То, что было рассказано мне калекой, верила я, когда-нибудь еще сыграет свою роль в моей жизни…
XXIV
Дорога, по которой я шествовала почти столько же, сколько длилась моя новая жизнь – освобожденная от суровых, но, несомненно, исцеляющих оков служения Богу – была единственным моим ориентиром в течение еще некоторого количества времени. Наконец, ее каменная кладка привела меня к холму, поросшему кустарником, на вершине которого возвышался странного рода монумент. Именно о нем мне говорил лесной старец. Возрадовавшись, я начала подъем с той стремительностью, какая была возможна. Есть надежда, думала тогда я, что не все еще люди потеряли способность говорить правду, несущую пользу тем, кто окружает их.
Оказавшись на вершине природной насыпи, я нечаянно коснулась рукой шершавой поверхности обелиска. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что весь монумент по сути представляет собой огромный барельеф. Пред собой созерцала я в облачении камня тысячи человеческих фигур, убивающих друг друга в свирепой битве. Изображение было сотворено столь искусно, что происходящее на нем представлялось едва ли не действительностью. Мне (быть может, на то была сатанинская воля) на мгновение даже послышались сотни и тысячи людских криков, которые испугали меня, заставив отпрянуть от загадочного столпа.
Собравшись с духом, я решила продолжить исследование загадочного сооружения, ибо подсознательно чувствовала, что в нем заложена та идея, которая могла бы быть мне полезна. Я посмотрела на верхнюю часть одной из четырех граней колонны и увидела там фигуры ангелов и архангелов, которые в недвижимом порыве устремлялись на царство людское, дабы поразить в нем грешников небесными клинками. О да, я видела ангельские силуэты, их лица – искаженные печатью возмездия, которое они желали принести смертным за то, что последние жили во грехе, совращенные плотским пороком. И тогда я почувствовала страх, ведь тот порыв, что исходил от слуг божьих, виделось мне, был слеп, а значит был готов покарать и невинных. Доказательством моих мыслей послужила картина на одной из граней обелиска, где крылатый серафим мгновение назад обезглавил священника!
«Кто сотворил сей столп, поверхность которого осквернена богохульными образами, помрачающими трепещущие от сомнений, и без того падшие души паствы Божьей?» – воскликнула я тогда. Но мой крик остался без ответа. Не последовало даже эха – он растворился в проклятой дымке.
После, вероятно подсознательно, я обратилась к другой грани обелиска. Ее главным содержанием была жесточайшая битва между людскими народами. Я видела тысячи каменных фигур – несчастные, сгорающие на кострах – вырезанных рукою безумного скульптора столь тщательно и искусно, что казались живыми. Поленья в застывший огонь подбрасывали воины, на доспехах которых было знамя Божие, на шеях у них сидели бесы. О да, я видела бесчисленное множество ужасов, облаченных в камень, каждый следующий был страшнее и омерзительнее предыдущего. Так, в одной из миниатюр были изображены сотни обнаженных женщин, которых, лишившись всяческого стыда, насиловали нечестивцы в монашеских рясах, их безобразные лики скорее походили на звериные, нежели на человеческие. В самом же верху этого столпа бесстыдства и разврата узреть мне предстояло трон, на котором сидела странная фигура в богатых одеждах со скипетром в руках. Лик сидящего был невообразим. В нем сочетались и красота, и множество иных черт, как приятных взору, так и омерзительных. Я никогда не смогла бы описать его, ибо каждое мгновение он и менялся, и одновременно оставался прежним…
Вероятно, именно так должен был бы выглядеть лик самого Люцифера, если бы не копье, вонзенное справа в ребра восседающего на троне образа. Сие убийство, совершенное незаметно незримой рукой столь же гнусно, как и все, что наполняло столп сей, придавало зловонному хаосу, царящему в каждой частичке изображенного на нем, элемент бессмысленности, элемент, который превосходил в нем все прочие элементы, элемент, именуемый пустотой.
Я увидела это, и печаль охватила меня. Ибо в увиденном нагромождении отвратностей и смертельных грехов, я отыскала метафорическую картину того мира, в котором живет род человеческий, именуемый земным градом – градом порочным и телесным. Пусть рукою и разумом скульптора-безумца, сотворившего сей столп греховный (вдохновение ему даровала сама преисподняя!), правил более гротеск, нежели изящность, достоверность его была несомненна, отчего любому, кто взглянул бы на его творение, стало бы отвратно не только увиденное, но и его собственное существование…
Но я не желала более страдать от того, что некто воплотил в явь суть нашего мира, которая отчасти была изображена правдивее, чем где-либо. Наоборот, я ощутила в душе своей некий порыв. Я возжелала преобразовать все нечестивое, все ведущее к бездне – пустота останется пустотой, но я могу придать ей зримость для нашего тела и для души, в нем сокрытой. Не раздумывая более ни мгновения, я коснулась ладонью поверхности обелиска и провела ею по всему периметру монумента. Грани столпа покрылись влагой, похожей на воду, но имеющей странный запах, который был, впрочем, знаком мне, ибо так же пахли древние монастырские стены, в которых я была воспитана. Я более не удивлялась такому эффекту. Но, что же произошло далее? Как только первые капли жидкости достигли почвы, весь монумент покрылся белой полупрозрачной пеленой, которая с каждым мгновением становилась все явственнее, расщепляя своей сущностью нечестивые барельефы. Наконец, цвет ее стал до того ярок, что на него невозможно было взирать без боли. Мне пришлось закрыть глаза руками, ведь даже веки не могли спасти от ее пронзительного света! Когда же он померк, то трепет необыкновенной силы преисполнил чертоги души моей! Каменная поверхность, преобразованная когда-то рукою мастера, теперь была девственна чиста! Не осталось более ни следа от богомерзких изображений, которые очерняли ее, словно гнойные язвы очерняют телесные члены прокаженного! Место сие, впервые воспринятое мною как нагромождение страстей и вожделений греховных, как их проклятая обитель, отныне было чисто. Это породило во мне ликование, сменившееся удовлетворением. Мое дело здесь было завершено.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?