Текст книги "Буря (сборник)"
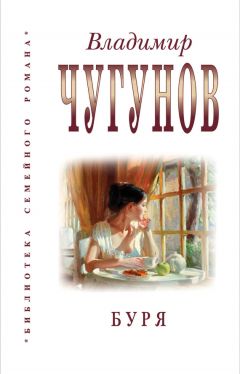
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Бабушка, растолкав меня поутру, поинтересовалась:
– Ну как?
Вспомнив вчерашнее, я вздохнул и ответил:
– Не знаю.
– Надо бы вам к отцу Григорью съездить.
С отцом Григорием бабушка была знакома давно. Познакомилась через Дедаку, покойного Михаила Сметанина, которого, как уже сказал, почитала за праведника. И я один раз был у него. Примерно за год до смерти старца бабушка возила меня для исцеления от привязавшейся хвори и дальнейшего благополучия. Лет пять мне было. Помню смутно. Обычный дом в сирени, горницу и страшного-престрашного, с мохнатыми бровями, старика на кровати. Я заплакал, уцепился за бабушкины колени и ни за что не хотел подходить к нему. Но меня всё же уговорили. Дедака посмотрел на меня серо-огненными глазами, пошевелил бровями и, положив на голову руку, сказал: «Поживё-от!» Бабушка уверяла, что после этого я перестал ковыряться ложкой в тарелке и начал мести всё подряд. Этого я уже не помню. Зато помню, как старушки, подобные бабушке, в том дедакином доме долго молились, клали поклоны перед иконой Царицы Небесной. Икону не помню. Слова же «Царица Небесная», повторяемые множество раз, запомнил на всю жизнь. И ещё. Почему-то очень долго место, где жила Царица Небесная, представлялось мне в виде нагнавшей на меня страху избы. Страшным казалось. Примерно, как туда заманивают, а назад не выпускают. А тут ещё бабушка жути подпустила: «Мотри, отцу, матери не говори, где были». В общем, стра-ашно-о, аж жуть. Что теперь? Теперь тоже, по правде сказать, было немного страшно. Точнее, неуютно как-то. Да ещё эти клерикалы со своими допросами. Так что бабушкины слова об отце Григории не поубавили клерикального мрака. И то сказать! На чём нас воспитывала школа? «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Тучи над Борском», Иудушка Головлев, картины передвижников. Конечно, ничего такого я лично не видел, но гаденький такой флёр, мнилось, был накинут на всё это официально дозволенное православие. В буквальном смысле нищие и убогие, собранные по зову евангельского господина на пир по распутьям мира сего. Ничего, кроме снисхождения, у меня они не вызывали. И с такими, так сказать, недалекими, а то и просто скырлами и психически ненормальными мне надлежало поселиться где-то наверху на веки веков! Ужас! Это примерный ход моих тогдашних размышлений. И я даже думал о проектах, как в будущем, если мы всё-таки вольёмся в святые ряды, обновить, орадостить и омолодить Церковь.
– Ну, поедете к отцу Григорью? – толкнула меня бабушка.
– Поедем, отстань!
– Господи, помилуй! Опять не с той ноги встал!
– Свободна!
– Свободна… Ишь! Знамо, свободна. А ты в церкву ездил или куда? Там тебя так выучили со старшими разговаривать?
– Там!
– Та-ам… Дать бы тебе по брылам! Не стыдно?
Я молчал.
– Не стыдно, спрашиваю?
Я безмолвствовал.
– У-у, неудашный!
И она удалилась. Нет, определенно мне сегодня было не до нежностей. Но оговорюсь сразу, всю эту безмозглую околоцерковную толпу я всё-таки не смешивал с Евангелием. Они – одно, Евангелие – совершенно другое. И это было для меня ясно, как Божий день.
Вечером уже на трезвую голову и в нормальной обстановке мы обсуждали вчерашнее происшествие. И пришли к общему выводу: православие – одно, клерикалы – совершенно другое. И отнесли это к работе спецслужб. Приглянулся всем и мой нацеленный на будущее обновленческий проект. Скажу сразу, навеян он был содержимым отцовой тетрадки. Тут я впервые, шёпотом, упомянул о ней. И что тут началось! Принеси да принеси! Дай почитать да дай почитать!
– Только из моих рук! А лучше у нас дома. Мама с Митей завтра на две недели к своим родителям под Владимир уезжает, у отца какие-то неотложные дела в университете. Хотите – приходите.
– А удобно? – спросила Mania.
Я, разумеется, не унизился до своей плоской шутки об одеяле, которое спадает, когда спишь на потолке, и сказал:
– Бабушка только рада будет. Предлагает поехать в Великий Враг.
– Село? – спросила Mania. Я кивнул. – Красиво! Вели-икий Вра-аг! И что там?
Я рассказал про отца Григория, немного про Дедаку.
– Хочу! Вер, Люб – вы как?
Они неопределённо пожали плечами. Mania приняла это за согласие, спросила:
– Когда?
– У бабушки и спросим.
Решено было собраться завтра у нас к двенадцати. Бабушку я должен был не только известить, но после сегодняшней выходки умаслить.
Вечером по пути на родину я заскочил к Елене Сергеевне. И, как в песне поется, «от первого мгновенья до последнего» был ею потрясён. Такою я её ещё не видел. Она порхала по дому как мотылёк, опахивая меня дурманом навитых кудрей, взбитых локонов, смущая порывом телячьих нежностей, вульгарностью неосторожно обнажавшихся ног. Относительно обнажённых ног у меня имелась теорема: почему их голизна на пляже должна означать одно, а в других местах – совсем другое? В школу, например, почему не ходят нагишом? Когда я был маленьким, думал, потому что холодно. Но это же взгляд невинности! Что спрашивать с недоразвитого младенца? Но! Разденься, например, передо мной на пляже до плавок Елена Сергеевна, и ни она, ни я и глазом не моргнём. А попроси я её сейчас скинуть халатик (тепло же!), и был бы неправильно понят. Оставляю теорему без решения, не предвижу оного ни в одной учёной башке. Бабушкино решение знаю заранее, выражается оно одним-единственным словом, которое не привожу потому, что не хочу никого обижать.
– Какой-то ты сегодня молчали-ивый, – склонившись сзади над стулом, с которого я всё это безобразие созерцал, шепнула почти на ухо, естественно, вызвав при этом во мне неприличный пожар, Елена Сергеевна. – Скажи же что-нибудь!
– А что вы хотите услышать?
– Ну-у… как тебе, например, моя причёска? А мой новый костюм не хочешь посмотреть? Погоди, сейчас покажу!
Наряды Елена Сергеевна шила себе сама. Работала она в одном из самых лучших городских ателье, была прекрасным модельером, закройщицей и швеёй. Практически все модницы и вообще многие в нашем посёлке и немало из города шили себе наряды только у неё. Она неплохо на этом зарабатывала.
Елена Сергеевна распахнула платяной шкаф, достала висевший на плечиках какого-то немыслимого покроя, с разными штучками, костюм и сказала:
– Отвернись! Смотри не подглядывай! Вниз, вниз, а не на телевизор смотри, хитрец!
– А то я не видел! Больно надо… – обиделся я.
– Где это ты видел?
– На пляже.
– Да-а? Значит, ты на пляж; только за тем и ходишь, чтобы на обнаженных девушек посмотреть?
– А их никто и не просит. Сами раздеваются. И ещё ходят, как эти… папуасы всю жизнь.
– Всю жизнь? О Господи! Ну, смотри!
Я повернулся. Сказать, что ахнул – значит, ничего не сказать.
– Ну и зачем вам это? – только и смог выговорить я.
– Красивой хочу быть!
– Зачем?
– Низачем. Просто. Красивой.
– Для кого?
– Для себя хотя бы. А что? Для тебя, в конце концов. Не нравится, что ли?
– Почему? Нравится. Только на одну мысль наводит.
– Это на какую же на такую мысль?
– Вы, случаем, не замуж; собрались?
Она на мгновение задумалась.
– Замуж? А что? Пожалуй, и замуж;! Думаешь, не получится?
– У вас как раз получится.
– Почему так думаешь?
– Да какой осёл мимо такой Офелии пройдёт?
Она самодовольно улыбнулась, подошла и, чего я никак не ожидал, взяла в ладони моё лицо и мучительно долго-долго разглядывала его. Я даже чуть не задохнулся от мысли, что она хочет меня поцеловать. Но она только легонько ущипнула меня за щеку и ещё раз в этот вечер поразила:
– Откровенность за откровенность. Помнишь, что на прощание тогда говорил? Так вот, знай. Будь ты постарше, я бы сама… Понимаешь? Ну, ты понимаешь… – и уже для себя самой: – Ну всё, посходили с ума и хватит! Отвернись, переоденусь.
И, когда переоделась, стала уже совершенно другой, такой грустной, такой несчастной, что, казалось, ещё чуть-чуть и заплачет. Мне стало её бесконечно жаль, чего бы я не сделал в эту минуту, лишь бы она была счастлива.
Если б я только мог предположить, если б только знал, для кого и для чего всё это!.. И что? Не знаю, но что-то бы, наверное, всё-таки предпринял, что-нибудь да придумал!
Расстались мы, как всегда, закадычными друзьями. На этот раз на прощание я не посмел ничего подобного тогдашнему произнести. Что-то помешало.
Однако, оказавшись на улице, под чудным звёздным небом, я, почти не помня себя, произнес:
– Милая, дорогая Елена Сергеевна!
И вздрогнул! Показалось, кто-то шевельнулся за ближним кустом акации. Прислушался. Было так чудесно и чудовищно тихо, что я, с трудом переведя дыхание, ещё раз благодарно глянув на соседскую дверь, на сказочно светящиеся во мраке окна, пошёл к своему дому. И идти было – смешно сказать – всего двадцать шагов.
Перед тем как лечь в постель, Митя меня убил. Собираясь к завтрашнему отъезду, он извлёк из кармана брюк изжёванный неизвестным существом тетрадный лист, на котором его собственными каракулями были означены рекомендуемые к летнему прочтению произведения, которые он просил меня найти в отцовой библиотеке наверху. Прочтённые уже были старательно, до дыр, зачёркнуты. Среди непрочтённых значились: Михаил Горький «Старуха из Виргилии» и Гоголь «Тарас и бульба».
– И что это за бульба?
Митя ничтоже сумняся ответил:
– Собака, наверно, человека же так не назовёшь.
Пока я покатывался со смеху, он стоял с кислой физей.
– И ничего смешного.
– А папу… – придушенный свист смеха, – что… – опять, – не… – ещё дольше, – не попросишь?
– А! Сердитый он.
– На тебя?
– На ма-аму. А она на него. Говорит: «Не знаю, какие у тебя дела! Дома никогда не видать, воспитанием детей не занимаешься! Как дяденька чужой! С утра уехал, поздно вечером приехал. Не до нас! Да ещё на рыбалку на всю ночь на ту сторону заладил! И где твоя рыба? И ещё недоволен!» А он – х-х! – представляешь, Никит? «Это, – говорит, – просто какое-то рабство!» И давай маме конституцию читать… Она хлопнула дверью и в зале спать легла. Заходиил. Пла-ачет. Бабушке говорю, а она: «Сама знаю, иди». Мо-олится старуха.
Я задумался. Конечно, скандалы не были новостью. А вот рыбалка действительно была полной неожиданностью. Если бы речь шла об охоте, я бы внимания не обратил, но рыбалка, да ещё ночная…
И я ушёл в себя. Митя несколько раз пытался меня извлечь оттуда. И наконец, махнув рукой, удалился.
Ну точно, возвращаясь от Паниных, видел я позапрошлой и прошлой ночью костер на том берегу! И что? Костёр и костёр. Мало ли у нас желающих порыбачить? А это, оказывается, отец… Но скажу: и только. Всё. Мысль дальше очередного отцова «бзика» не пошла. А вдруг он хочет, подобно Куинджи, написать картину июльской ночи? Ночи-то, ночи какие чудные стояли! И потом, я был так занят своим. Вы только представьте! Завтра у меня в гостях будет любимая девушка! Пройдёт по дому, всё с любопытством осмотрит. Походя, коснётся кое-чего рукой. Может быть, даже присядет на мой стул у письменного стола и что-нибудь спросит. Возможно, это кому-то покажется и смешным, но любимая девушка в доме – весеннее солнышко и проталинки после холодной зимы.
С ощущением солнца в душе я и заснул.
13Бабушку умасливать не пришлось. Как только скрылись за дверью напутствуемые скрываемыми от сердитых отцовых глаз её широкими крестами родители с Митей, я сказал, что у нас будут гости. Узнав, что за гости, бабушка всплеснула руками:
– А ба-а, неужли невесты в гости пожалуют?
И тут же погнала меня наверх прибираться.
Сама занялась стряпнёй. Пока я, засучив рукава и закатав трико, носился с половым ведром сверху вниз, чего-чего она только не наготовила. А вскоре и гости пожаловали. Я даже ахнул – принарядились. И Mania – особенно. От её смущённой под любопытным бабушкиным взглядом улыбки, от её глаз, лёгкого, светленького платьица, белых носочков и босоножек ещё светлее стало в доме.
– Милости просим. Не разувайтесь. Сухо на воле. Проходите. Что встал, как пень? – толкнула она меня. – Дом покажи. Проходите, проходите.
– Ба-аб, это Mania, – представил я. Маша мило улыбнулась, сказала: «Здрасте». – А это моя бабушка Анастасия Антоновна.
– Кака там Анастасия Антоновна? – махнула рукой она. – Просто – баба Настя! Милости просим. Вера, Люба, что как не родные?
Маша с любопытством осмотрела все комнаты. И хотя не присела, но всё-таки подержалась за спинку моего стула. Пока я водил Машу по комнатам, сёстры помогали бабушке накрывать на стол. Перед тем как сесть, помолились, когда бабушка, как бы между прочим, обронила: «Раньше, прежде чем сесть, молились, да вы ноне, как говорится, молодёжь, какой с вас спрос, садитесь, а я перекрещу», Mania предложила: «А давайте и мы, как раньше?»
И бабушка, очень довольная, прочитала «Отче наш» и благословила стол. Уходя вниз, шепнула мне: «Золото девка! Смотри не упусти!» Я про себя усмехнулся: «Не упусти… Даже прикоснуться боюсь!»
Пока ели, Mania между делом рассматривала картины. На одной остановила внимание, даже поднялась из-за стола и, подойдя поближе, долго смотрела. На картине был изображён порхающий, зависший на месте белый голубь. Всего один голубь и необыкновенной синевы небо. Не знаю, что необычного показалось ей тут – голубь и голубь, но возвратилась она к столу задумчивая. Я не решился спросить, о чём думает. Люба же с Верой до того были заняты бабушкиными пирогами, что на картины совершенно не обращали внимания.
Когда, как выражается бабушка, откушали, я предложил перейти в небольшие простенькие кресла, за журнальный столик, стоявший у выхода на балкон. В мансарде было хоть и душновато, но всё же не так, как на солнце. Дверь на балкон стояла настежь, но тюль не шевелился.
Прежде чем сесть в кресло, Mania захотела выйти на балкон. И мы все вышли.
– Высоко! Неужели отсюда прыгнул? – глянув вниз, спросила она.
Я обомлел от неожиданности.
– А откуда… – и догадался. – Дядя Лёня сказал? Предатель!
– Ну почему – предатель? Он, между прочим, с уважением рассказывал. Не сильно зашибся?
– Грядку видите? Если б не в неё угодил – хана!
– Ну и словечки!
– Хана-то? Да у нас все так говорят. Ну всё, говорят, тебе – хана! Диалектизмы!
– Скорее – жаргон.
– Да у нас такого жаргона знаешь сколько? Жив, в общем. Ну что, идём?
Я достал с верхней полки «Капитал» Маркса, стоявший, как и все книги, корешком наружу, а из его аккуратно вырезанных внутренностей извлёк общую тетрадь. Это заинтриговало. Для большей интриги я приложил указательный палец к губам. Водворилась тишина.
Скажу сразу, далеко не всё мы поняли, но что-то всё-таки поняли, поскольку по прочтении завязалась оживлённая дискуссия, и даже был составлен план дальнейших действий. Но об этом после. Вот эта рукопись со странным названием.
ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В «Московском Еженедельнике» (№ 27 за 1906 год) профессор церковной истории Московского университета А. Лебедев в статье: «Раскол, старообрядчество и православие» пишет:
«Причина раскола лежит глубже, нежели обыкновенно полагают: она касается самого существа Церкви и основ церковного устройства и управления. Различие в обрядах, само по себе, не привело бы к расколу, если бы дело обрядового исправления велось не так, как повело его иерархическое своевластие.
«Ничто же тако раскол творит в церквах, яко же любоначалие во властех», – утверждал известный вождь старообрядчества протопоп Аввакум в своей челобитной к царю Алексею Михайловичу.
Так это любоначалие, века угнетающее церковь, попирающее церковную свободу, извращающее само понятие о церкви (церковь – это я, а не мы), и вызвало в русской церкви раскол, как протест против иерархического произвола.
Любоначалие было виною, что для решения религиозно-обрядового спора, глубоко интересовавшего и волновавшего весь православный люд, собран был собор из одних только иерархов без участия народа, и старые, дорогие для народа обряды, которыми, по верованию народа, спасались просиявшие в русской церкви чудотворцы, беспощадно были осуждены; а на ревнителей обрядов, не покорившихся велениям собора, изречена страшная клятва, навеки нерушимая:
«Если кто, – читаем в постановлении собора относительно ревнителей старообрядчества, – не вразумится и пребудет в упрямстве своём до скончания своего, да будет и по смерти своей отлучён, и часть его и душа его да будут с Иудою предателем и с распявшими Христа жидами, и с Арием, и с прочими проклятыми еретиками. Железо, камни и древеса да разрушатся, а тот да будет не разрешён».
Таково постановление собора. И всё это из-за того лишь, что держащиеся старых обрядов хотели креститься двумя, а не тремя перстами, служить обедню на семи, а не на пяти просфорах, читать и петь сугубую, а не трегубую аллилуйю и т. п.!
Но этого мало.
Не ограничиваясь проклятием, отцы собора положили подвергать непокорных и «телесным озлоблениям», в чём поддержали их и восточные патриархи, свидетельствовавшие перед лицом Всероссийского собора, на который были приглашены в качестве авторитетных судей по делам церковным, что так поступали с религиозными диссидентами и в Византии, где отцы церкви вкупе с благочестивыми царями «повелевали злочестивых еретиков наказывать многим биением говяжьих жил, и древием суковатым, и темницами… и овым языки отрезаша, овым руце отсекаша, овым уши и носы» (Деяния московского Собора 1666 и 1667 года. Издание братства св. Петра)».
На этот счёт корреспондент «Нового Времени» пишет:
«Теперь если, при свете приведённой цитаты из статьи профессора Лебедева, мы взглянем на твёрдую цель нового петербургского общества (32-х священников), которые требуют «освободить всю жизнедеятельность церковную от подчинения государству и другим преходящим человеческим учреждениям», то мы ответим твёрдым: «нет».
Церковь хочет «автономизироваться», или, конкретнее, духовенство хочет, настаивает и требует, как «вечное учреждение», чтобы светские люди (или просто народ) ни как лица, ни как учреждения вовсе не вмешивались в их «специальное духовное дело», специальную духовную сферу…
Охотно бы можно было последовать этому примеру Испании XV века, если бы территориально и народно «вечное учреждение» не совпало с несколько презрительно называемыми в уставе «преходящими человеческими учреждениями»…
Будь духовенство в Сахаре, – для тамошних песков отчего бы ему и не учредить хоть даже «священное судилище» с огоньками аутодафе, или, как у нас, аляповатые срубы, в которых сожгли все-таки «святейшие патриархи» попарасстригу Аввакума…
Вообще, в Сахаре или где-нибудь в песках Туркмении они могли бы быть «автономными»…
Но на Руси, среди русского народа, уже поставленного на колена перед теми, что «секоша» и «резаша», и богомольно века склонённого пред идеалами, духом и, наконец, поэзиею (да, да, вспомним наших самосожигателей!) этого «усекания» и «резания»…
Среди этого народа мы им автономии дать не можем!..
Гипнотизер, который загипнотизировал, – обязан и разгипнотизировать.
Профессор Лебедев это делает хотя бы в названной статье; готовы и будут делать «32», – они честные люди, добрые граждане: но этого слишком мало, эти несколько строк в этом 1906 «освободительном» году!
Гипноз продолжается для России с 988 года в одних идеалах, без малейшего послабления и колебания, – и «разгипнотизирование» продолжится очень долго, может быть, века 2–3.
И как общество, так и государство и вообще «преходящие человеческие учреждения» вправе не только не уйти в сторону от духовенства и духовных, якобы «специальных дел», но и обязаны всё время внимательно следить, наконец, властно следить за процессом разгипнотизации народа… Ведь в гипнозе люди не только думают, но и действуют: скопцы, самосожигатели, морельщики, эти острые «иглы» самозавершившегося хребта православия. Пусть оно порицает и отрицает эти свои вершины: скопятся и жгут себя не читатели Дарвина и Бюхнера, а горячие почитатели «богоносных отцов», что «резаша» и «секоша»… На Западе была инквизиция, у нас поглубже – самоинквизиция….
Кончим: в Сахаре, в пустыне церковь могла бы быть независима в жизни своей. Но духовенство, но отшельники, монахи, оставив «пустынное житие», пришли к нам! Зачем бы? Что спрашивать: уже пришли. «Церковь» не осталась «в пустыне», где дни её прославляет Апокалипсис. Она вселилась среди нас. Она показала свои идеалы, она приучила к своим идеалам, она заставила пасть пред ними и поклониться им доверчивые тёмные народные души, не умеющие, как младенцы Ниневии, «различить правой руки от левой». Всё уже совершилось! Образ совершившегося доказывает цитата из профессора Лебедева.
Как было, так ведь и осталось, и это что-то, очевидно, принципиальное и вечное, если йота в йоту сохранилось от 1666 года до 1906 года, повторилось у испанцев и у русских. Всё та же «власть», то же «любоначалие», та же «иерархия» без народа и вопреки народу, кажется, опирающаяся на евангельское «Паси овцы моя» и «кого разрешите вы на земле, – будет разрешён и на небесах, а кого вы (духовенство) свяжете, – будет связан и на небе»…
При этих условиях требовать для «вечного и безусловного учреждения» автономии среди «преходящих» людишек, царств, законов, наук, искусства, семьи, рождения, болезней, голода, нужды, страстей, коллизий, – чтобы оно было «свободно» и ни с чем, кроме себя, не сообразовывалось… кажется, жестоко».
И получается парадокс! Евангелие свидетельствует о сути Церкви – одно, а её «верные и непогрешимые» служители, «кои опирашеся на предания святых отцов, каноны и апостольские правила», всю историю только и делали, что презирали, мучили, издевались как над необразованным народом (Христовыми рыбарями), так и над своими женатыми собратьями.
Захватив власть в Церкви, учёное монашество, опираясь в том числе и на историю с Ананием и Сапфирой, постепенно превратило её во что-то совершенно чуждое духу Евангелия, духу Христовых заповедей. Достаточно заглянуть в историю Церкви, чтобы это понять. Как только вытеснили из управления женатый епископат, сразу начались ереси, разделения церквей, инквизиция, молот ведьм, расколы. Духом начётничества, канцелярщины, казёнщины и бурсы были насквозь отравлены все духовные семинарии и академии. Ни откуда столько не вышло революционеров и атеистов, сколько из духовных семинарий и академий. Все эти и другие проблемы до того измучили русское общество, что тотчас, при даровании свобод, побудили высший епископат согласиться на собрание Чрезвычайного Поместного собора в Москве.
Но ничего из предшествующей истории организаторами собора учтено не было.
Как пишет один весьма заинтересованный, но не подписавшийся корреспондент в статье «Церковный Собор в Москве», напечатанной в газете «Новое Время» за № 11319 от 16 сентября 1907 года, хотя Собор и «собирается во времена довольно сознательные», «без сомнения, встретит и очень большую оппозицию, между прочим, и в самом духовенстве. Клирики, т. е. белое духовенство, «не подписывают постановлений», как равно не подписывают его и «миряне», входящие в состав членов Собора. И это уже до начала собрания раскалывает его состав.
Но тогда вообще, для чего же они позваны?
Явно, что они позваны только в качестве драпировки, чтобы задрапировать что-то печальное.
Что такое?
А то, что Собор есть собор одних монахов, монашеский собор, и это скрадено только величественным выражением: «епископ», «одни епископы подписывают постановления».
Выразись правила определённее, что-де на Соборе к настоящему вниманию призываются или допускаются одни только монашеские взгляды, монашеские мнения, монашеские требования, – и его чересчур односторонний и почти даже тенденциозный характер забил бы всем глаза. Скрыть эту тенденциозность, его как бы предрешённый уже характер и направление, характер не свободный – это и составило задачу правил, которые и позвали клириков и мирян в таком числе и с таким порядком их выборов, что они не получат значения и вместе с тем придадут вид, что это есть трехсоставный или всесословный Собор христианской Руси, православной Руси, когда на самом деле это будет собор монашеский или архиерейский».
И в другой статье, «Чрезвычайный Собор Русской Церкви и Её будущность», появившейся в газете «Русское Слово» 20 сентября, за № 215 в 1907 году, корреспондент, подписавшийся «В.В.», добавляет, как бы возражая вышеизложенному: «… священники ведь были на соборе? Были! Ну, а «собор поставил и определил» лишить их того-то и того-то, отнять ещё то-то и то-то из их прав. Значит, и они согласились, значит, ничего без их желания. В этом общем изложении дела, которое одно и без подробностей перейдёт в века, перейдёт в историю, станет делом жизни, – и не будет вставлена оговорка: «составили и подписали одни епископы». Вот в чём опасность положения, которую в общем очерке предвидел и С. Н. Булгаков. Печальное теперешнее перейдёт в вечность».
Иными словами, все ждали, когда наступит конец беззаконию, и конец «должен был начаться с изменения правового положения белого, женатого священства в самой церкви; в уравнении прав его с бессемейным (монашеским) духовенством. Изменились бы права – изменилось бы и положение; изменились бы с этим речь, голос, мнение, взгляд священника, стал бы он выпрямляться из теперешнего скрюченного состояния своего и возрастать в разуме, в силе, в просвещении. Всё это теперь ему не нужно, ибо он призван только править требы. Для этого ни разума, ни учёности, ни какого-нибудь характера не требуется. Думает за него и делает все дела, даже и его касающиеся, епископ, которому и нужен этот разум и воля. Не говорим о действительности, а о той царствующей теории, которая не может не давить и на действительность, не могла не изуродовать её. Но теперь, с этим призывом священников и мирян на собор и, следовательно, с санкциею их авторитетом «решений и постановлений собора», которого они, однако, не составляют и к составлению этому не допущены, – явно, что они из теперешнего состояния уже никогда не подымутся».
Отсюда закономерно следует: раз не подымутся священники, не подымется и паства.
И в духовном смысле революция была предрешена.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































