Читать книгу "Буря (сборник)"
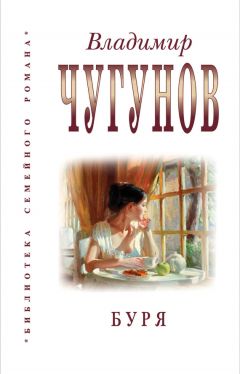
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Владимир Чугунов
Буря
© В.А. Чугунов – текст
© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, вёрстка
Мечтатель
Роман
© В. А. Чугунов – текст
© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, вёрстка
* * *
«Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О, если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви…»
А. С. Пушкин
Часть первая. Любовь
1Боже, мне – восемнадцать, я уже взрослый! Казалось, ещё совсем недавно я носился с деревянным автоматом по нашему лесу, играл в чижик, лапту, прятки, догонялки, клёк, «Знамя», как очумелый гонял по бездорожью, набивая восьмёрки, на велосипеде, и даже занимался по книжке упражнениями самбо. Вместо тренировочного тюка я кидал на песках, на той стороне озера, Митю, но когда вывихнул ему руку, мама строго-настрого запретила брать его с собой. А без тренировочного тюка какая борьба? Тем более мама мечтала, чтобы Митя стал знаменитым, как Робертино Лоретти, и всё свободное время разучивала с ним то «Аве, Мария», то «Ямайку». Я потихоньку смеялся над их прибабахом: «Ямайка, а где мои трусы и майка?..» Митя грозил пожаловаться маме, но сунутый под нос кулак удерживал его от погибельного шага.
И чего я только над младшим братцем не вытворял!
Но, слава Богу, всё это закончилось, я поумнел.
Умнеть я начал, когда в конце восьмого класса пристрастился к чтению, но особенно интенсивно, когда с полгода назад тайком от родителей взялся читать бабушкино «Остромирово Евангелие». Насчет «Остромирова Евангелия» я только чуть-чуть присочинил: бабушкино Евангелие на самом деле было старинным, на чистокровном церковнославянском языке, с огромными полями, сплошь закапанное воском. Начав читать из спортивного интереса, я поначалу подумал, что до самого конца так и будет «Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова…» и в конце, когда закончатся роды, станет ясно, чем окончится дело, и из чистого любопытства заглянул в конец. Но там было написано, что «всему миру не вместить пишемых книг», и стал читать по порядку…
Тогда-то меня и посетил Бог…
Сам я Его, конечно, не видел, но не могу же я не верить верующей бабушке. Это неверующим можно беззастенчиво врать, а верующих за это подвешивают на крюках за рёбра, варят в котлах со смолой, держат нагишом на лютом морозе и бросают в огромную яму с грызучими червями. Когда я узнал об этом, понял, почему верующие никогда не лгут, и тоже решил говорить правду.
Но тут и началось…
И, как нарочно, – шестнадцатого июля, в день отесиных именин. Отеся – отец в ласковой форме. Так звали своего родителя братья Аксаковы, славянофилы, по мнению отца – лучшие люди России. Он в то время ими бредил и приучил меня к непривычному для пролетарского уха слову. Бзик этот (по мнению мамы) у него давно прошёл, а у меня ещё нет, и при всяком случае я нарочно обращался к отцу, как и прежде, делая вид, что не замечаю возникавшего в его глазах вопроса: «Ты прекратишь?» или: «Тебе ещё не надоело?» Но разве может надоесть месть? А это была своего рода месть за мое несчастливое детство. И досталось же мне за этого «отесю» в школе! Не будешь же всякой смешливой дубине объяснять, что это он и его предки отсталые дурынды, а не я и мой продвинутый во всех смыслах отец. Одно время меня даже стали дразнить «отесей», но я вовремя сообразил вывести заковыристое словцо из оборота, и прозвище не прилепилось.
Короче…
И в тот, и во все предыдущие дни стояла жара. Из-за жары приходилось качать насосом воду из озера для полива сада. Вода в озере, начинавшемся от конца сада, была как парное молоко. Противоположный берег считался заливными лугами и был сплошь в молоденькой дубовой роще, над которой возвышался высокий берег Оки.
Отец с утра уехал в университет и вернулся к четырём с охапкой цветов, сеткой фруктов, из которой торчали горлышки шампанского и коньяка. Дома вовсю шла подготовка к праздничному ужину. Мама, особенно взволнованная и красивая в этот день, несколько раз отвечала на мои вопросы растерянной улыбкой. Отец был возбуждённо весел. Разглаживая рубашку на солидном животе и заводя складки за спину, как это делают солдаты, он то и дело останавливался посреди комнаты и произносил, словно не мог в это поверить:
– Сорок пять, а! Co-орок пять! – Он подходил к стоявшему в прихожей трюмо и придирчиво всматривался в своё тщательно выбритое отражение. – Нет, это Бог знает что такое!
Мама сочла необходимым вмешаться:
– А что это тебя так огорчает?
– Ещё бы! В сорок пять, говорят, баба ягодка опять, а про мужиков ничего такого не сказано. И знаешь, почему?
– И почему же?
– А ты как думаешь?
– Откуда мне знать? Это у тебя два института и ты у нас всё про всех знаешь.
– Причём тут образование? Мама вон человек необразованный, а непременно по этому поводу что-нибудь думает. Или я не прав, мам, слышишь?
– Слышу, не глухая, слава Богу, ещё. – Бабушка оторвалась от работы и, чтобы не испачкать, поправив тыльной стороной ладони съехавшую на глаза косынку, заявила, как припечатала: – Пить стали шибко много – вот что я об этом думаю.
– Понятно вам, Алексей Витальевич? – Отец подмигнул своему отражению, а затем с тою же игривостью, очевидно, без всякого злого умысла, из одной лишь забавы, задал встречный вопрос: – Тогда, может, и по какой причине пьют, скажешь?
– И про это скажу. Бога забыли потому что. Всю совесть тэтак и пропили. Раньше не то что бабы, а и мужики ни вина, ни табаку в рот не брали. А теперь что? Еду туточки на рынок…
Не переносившая от бабушки подобного рода нравоучений мама наигранно-заботливым тоном перебила:
– А не позвать ли на помощь Лену, не успеем, боюсь, да и к столу заодно пригласить?
Бабушка с нескрываемой досадой возразила:
– Не выдумывай, сделали почти всё. А вот к столу пригласить надо. И так бедная всё время одна да одна.
– А ты как считаешь? – тут же обернулся ко мне с хитрой улыбкой отец.
– Я тут причём? – отозвался я как можно равнодушней, хотя при одном упоминании имени соседки у меня ёкнуло сердце. – Мне, что ли, сорок пять?
– А ты и рад. Погоди, брат, придёт и твой черёд.
– Э-э, когда ещё это будет! А и придёт, так, по крайней мере, не буду ныть, как некоторые!
– Ишь ты, как не-экоторые!..
Мама спросила, в котором часу будут Лапаевы. Отец ответил, не преминув добавить в интригующем тоне:
– И кое-кого ещё прихватят.
– И кого же?
– Ни за что не догадаешься.
– Кочнева?
– И как догадалась?
– Да просто подумала: что-то Филипп Петрович у нас давненько не был.
– И Леонид Андреевич собирался, – ввернул я и, вспомнив, как вчера между супругами Паниными учинился скандал, в суть которого посвятили меня Люба с Верой, совсем некстати прибавил: – А Ольга Васильевна по этому поводу громы и молнии мечет…
Отец многозначительно уставился на маму и, как бы намекая на что-то, покашлял.
Мама на него мельком взглянула.
– Чего ты на меня так смотришь? – И принялась переставлять с места на место тарелки.
– Я? Ничего.
Мама опять на него глянула и махнула рукой.
– Да ну тебя.
– Ещё бы! Как сорок пять, так сразу и ну!
– Лё-оша!
И тогда отец как по команде повернулся ко мне:
– Ну, и чего стоим? Чего, спрашиваю, лодырничаем? А ну живо наверх!
– Как, разве не в саду накрывать будем?
– Вот именно.
– Но почему?
– По радио обещали кратковременные дожжы.
– С грозами! Слышал. Да они вторую неделю их обещают.
– Я кому сказал?
И я потащился в мансарду. И хотя в мансарде было не хуже, а, может, и лучше, чем внизу, поскольку с наступлением темноты на балкон выносили стол, стулья и сидели, любуясь закатом или на то, как лунный свет, серебристой дорожкой скользя по глади озера, выхватывал из темноты мостки, лодку, – словом, было не хуже, зато не было той таинственности, которая создавалась у ночного костра, и которую я любил больше всего на свете.
Положим, вечер был душный, но сколько бы я ни вглядывался в горизонт, не мог обнаружить и тени облачка – предвестника обещанного синоптиками дождя.
Мы вытащили из чулана специально изготовленную для праздников столешницу, ножки, собрали стол, подняли наверх стулья, посуду.
– Так говоришь, что Люба с Верой похожи как две капли воды? – между делом интересовался отец.
– Когда это я говорил?
– Не говорил разве?
– Да они ровно столько похожи, сколько земля и небо.
– А по-моему, очень. Я их всегда путаю.
– Да их отличить проще пареной репы. Покажи палец, которая засмеётся – Люба, а Вера вообще не смеется, потому что у нее, х-хы, зубы кривые.
– Это ты, брат, на них за что-то в обиде.
Это действительно было так.
– В обиде! Не то слово. Представляешь, до чего додумались? Будто я на Елене Сергеевне жениться собрался!
– А ты считаешь, Елена Сергеевна вышла из возраста, когда выходят замуж? Между прочим, ей нет ещё и тридцати.
– Знаю. Но я – и она! Это же такая нелепость, пап, как ты не понимаешь? Я – и она! А эти… знаешь, чего вчера отчубучили? Идут за мной и поют: «Молодая вдова всё смогла пережить, Пожалела меня и взяла к себе жить». Чтобы я к ним после этого пошёл!
– А завтра и побежишь.
– Я?!
– Ты.
– На спор?
– И спорить нечего. Начитаешься под одеялом своего Жуковского и побежишь. Удивляюсь, как он тебе до сих пор не надоел.
Я удивился в свою очередь: откуда он узнал про Жуковского?
– Не больно-то я его теперь читаю…
И это было так. Евангелие практически вытеснило из меня все остальные пристрастия. Разве что один Жуковский и остался.
Отец снисходительно на меня глянул, хотел что-то сказать, но в это время послышался визг тормозов, и мы пошли встречать гостей.
Жёлтая «Волга» с шашками на дверях стояла напротив нашей калитки. Первым из машины проворно выскочил друг отца по литобъединению Анатолий Борисович Лапаев, следом – Варвара Андреевна, его жена, довольно симпатичная, но до приторности накрашенная дама. Она была лет на десять моложе мужа, а смотрелись они ровней. Последним неторопливо выбрался Филипп Петрович Кочнев, написавший в конце двадцатых нашумевший роман «Девахи». Филипп Петрович свято хранил и где только можно козырял письмом от Горького, ещё до «Девах» откликнувшегося на его первые опусы и давшего начинающему писателю путёвку в пролетарскую литературу. Судьба Филиппа Петровича была из необыковенных. Вышел из крестьян. В первые годы советской власти был секретарём комсомольской ячейки, окончил Рабкрин, работал селькором, выбился в люди, стал знаменитым. После лагерей, куда угодил при Сталине по доносу товарища-писателя, написал повесть, по мнению отца, почище «Ивана Денисовича», которую «в хрущёвскую оттепель» опубликовать не удалось, но, в отличие от Солженицына, ни за границу, ни в самиздат пустить её автор не решился. И затеял, как выражался отец, тягомотину: трилогию под названиями «Громыхачая поляна», «Волжский откос» и «Степан из захолустья». Два тома уже вышли, третий был в работе, отрывки из которого время от времени печатала местная «Правда». Но что-то плохо роман этот продвигался, и несколько лет Филипп Петрович промышлял литобъединением, в котором в студенческие годы познакомился с Лапаевым отец.
Филипп Петрович не был у нас лет шесть, и я подумал, не узнает меня, но он не только узнал, а даже справился о моём здоровье.
– Как наше самочувствие, молодой человек?
– Отлично, Филипп Петрович! – в тон ему отрапортовал я.
– О-о! Ты даже помнишь, как меня, старую перечницу, зовут?
– Ещё бы! Я над вашими «Девахами» со смеху подыхал!
– Вот вам и суд потомства! Пишешь серьёзную вещь, а они над тобой смеются… Ну-ну… – похлопал он меня по плечу. – Все мы когда-то были такими! Так, говоришь, жизнь бьёт ключом? Что ж – как и подобает молодому человеку. Чем занимаемся, если не секрет? У молодых ведь всегда секреты.
– Никаких секретов, Филипп Петрович! По совету отеси, – нарочно ввернул я, – веду растительное существование!
– По совету кого?
– Отеси – к которому вы на именины прибыли.
– А-а… И как это понимать? На подножный корм, что ли, перешёл?
– Не-э!.. Загораю, купаюсь, ем, сплю. Раза полтора был на рыбалке, два с половиной – на охоте. На рыбалке с тоски чуть было не помер. Сидишь – и, как Ванёк, пялишься на поплавок. А охота сами знаете, какая она теперь. Нет, эти занятия не по мне.
– По-твоему, лучше книжки читать?
– По крайней мере, интереснее.
– Понятно. Учёба как?
– Взял академический.
– Ясно.
Все направились в дом, а я полетел к Елене Сергеевне.
Выслушав приглашение, она растерянно на меня глянула и спросила, что, может, лучше не ходить.
– Да почему?
– Там будут все свои, а я кто?
– Вы нам тоже не чужая. Собирайтесь.
– Не знаю даже… неудобно как-то…
– Неудобно спать на потолке.
– Потому что одеяло спадает – знаю, ты уже говорил.
– Вот и собирайтесь, а я подожду.
Она сказала, ждать не надо, оденется и придёт сама.
2Когда я поднялся в мансарду, между писателями шла оживлённая беседа. Женщины ещё возились на кухне.
– Вся наша беда в том, – похаживая с заложенными за спину руками, говорил Филипп Петрович, – что мы утратили критерии оценки и от этого разучились понимать жизнь. Подчас в очевидном не видим смысла.
– Это смотря что считать смыслом, – возразил Лапаев, не отрываясь от обычного во время посещения нашего дома занятия – изучения новых переплётов на книжной полке, занимавшей всю стену мансарды. – Блажен, кто верует.
– Тоже мне сказанул, – усмехнулся отец. – Идиотизма у них не меньше нашего.
– Да разве в этом дело, Алексей?
– А в чём, Филипп Петрович? Идиотизм – это же апофеоз русской государственности! На Западе он, по крайней мере, ограничен законом, у нас – до сего дня сам себе закон. И вы об этом не хуже меня знаете.
– Знаю, – отмахнулся Филипп Петрович. – Да говорю не о том. Цивилизации наши покоятся на одном и том же фундаменте – вот что я имею ввиду. Поинтересуйся «Историей русской словесности» Степана Шевырёва. Был такой в прошлом веке профессор Петербургского университета. В книгохране книги с курсом его лекций имеются. Рекомендую.
– Там и «Ведьмы и ведовство» Сперанского имеются и что?
– Это о чём?
– О молоте ведьм. Иначе о том самом фундаменте, который вы только что упомянули.
– Причём тут какие-то ведьмы?
– Извините, в двух словах объяснить не смогу.
– Хорошо, объясни не в двух.
– Может, для начала всё-таки закусим?
И это было как раз кстати: в это время на веранду поднималась бабушка с тарелками в руках, следом за ней, кто с чем, остальные.
Отец тут же представил Елену Сергеевну как нашу новую соседку.
– Вот как? А Андрей Степанович куда делся? – удивился Филипп Петрович и тут же вспомнил: – Ах, да, ты же говорил… Постой, а бабуля его, горбатенькая такая, с ним жила, с ней что?
– К сестре, кажется, перебралась, а дом они купили…
«Беспутный», как выражалась бабушка, муж: Елены Сергеевны погиб два года назад в Бодайбо, в старательской артели, на зимнике, провалившись под лёд вместе с бульдозером. Это была бесшабашная голова, за которого Елена Сергеевна, по собственному признанию, выскочила девчонкой в Сусумане, откуда была родом. Была она «сахаляркой» – есть такой тип местных красавиц, происходивших от смеси якутов с русскими. Чёрные, как смоль, волосы, крупный разрез глаз, их жгучий, цыганский омут и необыкновенно привлекательные, тонкие черты лица. Ростом, правда, была невысока, теперь даже немного ниже меня, но это ничуть не умаляло её привлекательности. Не знаю, все ли «сахалярки» были такими, но Елена Сергеевна была красавицей бесспорной. Да, видимо, пословица «не родись красивою, а родись счастливою» не зря сложена. Муж; Елены Сергеевны красоты жены своей не ценил и без зазрения совести изменял ей направо и налево, в чём однажды хвастался мне в пьяном угаре, описывая подробности похождений с таким смаком, что я не знал, куда девать глаза. Елену Сергеевну, оказывается, он «завел» вместо сторожевой собаки и, очевидно ревнуя, издевался над ней, оскорбляя даже при людях. Она несколько раз порывалась с ним развестись, но он говорил: «Убью», и она, зная его бешеный нрав по Сусуману, действительно очень этого боялась. «Да-а… – вздыхала не раз бабушка, глядя на их отношения. – Не зря, видно, говорено: «При плохом муже и царица – захудалая птица». Все у нас её жалели. И как-то по совету бабушки мама однажды пригласила Елену Сергеевну на Новый год. С тех пор я по-соседски частенько заходил к ней поболтать о том о сём, и вскоре эти общения сделались для меня жизненной необходимостью.
Последним в мансарду поднялся Леонид Андреевич. Не такой шумный и весёлый, как обыкновенно, да ещё без гитары. Догадавшись, что гитару не дала ревнивая Ольга Васильевна (с мамой они были в контрах), отец представил Филиппу Петровичу друга детства, не преминув заметить, что и тот «золотишком промышлял». Филипп Петрович полюбопытствовал:
– Если не ошибаюсь, вы и есть тот самый Панин, лауреат всяких там конкурсов?
– Он самый, Филипп Петрович, он самый, – вздохнул с некоторым сожалением и, однако же, не без удовольствия Леонид Андреевич, поскольку та золотая пора хотя и прошла, однако же заслуги его ещё помнят.
– Слышал, слышал вас по радио как-то. «Соловей мой, соловейка…» и ещё что-то. Порадуете старика?
– Если только под фортепьяно.
И Леонид Андреевич обернулся за поддержкой к маме, действительно иногда ему аккомпанировавшую.
– Что, прямо сейчас? – возразила мама.
– Ну, разумеется, после! – перехватил инициативу отец. – Для этого, по крайней мере, нужно спускаться вниз. Кстати. Когда пойдём, заодно рекомендую послушать нашего меньшого. Второй Робертино Лоретти, говорят!.. Ну а теперь прошу всех к столу, к столу… Ма-ама! – заметив, как бабушка потихоньку перекрестила стол, покачал головой отец и стал разливать кому шампанское, кому коньяк.
– Коньячку, пожалуй, выпью, от шампанского увольте. Сердце… – приложил Филипп Петрович руку к груди. – И где же этот ваш… Робертино Лоретти?
Отец вопросительно посмотрел на маму.
– Однокласснику игру какую-то подарили. С утра умчался. Сходишь, Никит?
Я было дёрнулся, но Филипп Петрович остановил:
– Зачем? Не надо. Пусть забавляется. Хуже нет, когда заставляют. Споёт – споёт, нет – нет… – И дрожащей рукой поднял рюмку. – Ну-с, за именинника?
Мне впервые, ввиду совершеннолетия, плеснули шампанского, и я залпом выдул фужер. Через минуту голова моя поплыла, а грудь налилась храбростью.
– Ешь, давай, ешь, закусывай, – шепнула мне Елена Сергеевна.
Глянув на неё, я пришёл в такой восторг, что мне даже неудержимо захотелось её поцеловать. Она, видимо, догадалась и незаметно, но довольно чувствительно, ткнула меня кулачком в бок. Потихоньку спросила, попутно охмурив полуночным омутом цыганских глаз:
– Совсем, что ли? Ешь давай! Закусывай!
Но я был не пьян, а – счастлив! И так в эту минуту всех любил! Но не меньше, чем целоваться, тянуло меня вклиниться во взрослый разговор. Я столько уже знал, столько понимал… И, главное, видел и понимал, что только я один из всех это вижу и понимаю. И, как непризнанное дарование, выжидал наступление своего звёздного часа.
– И как вам Сибирь-матушка? Работа как? – между делом интересовался Филипп Петрович у Леонида Андреевича.
– Сибирь она Сибирь и есть. До сих пор, кстати, вспоминаю. Сопки, тайга, ночное небо… А якуты! Прошу внимания! Отец нахваливает дочь: «Мой доська караси-ывый, нос нет са-авсем, адин лиса, салавать места мно-око!»… – и выждав, когда уляжется смех (дольше и громче всех хохотал я), продолжал: – А что до работы… Если откровенно – бестолковое дело. Иные и по десять лет в артелях, и ни гроша за душой.
– Такие плохие заработки?
– Зачем? Заработки как раз хорошие. Да бич – он бич и есть. До сезона – бывший, после сезона – будущий интеллигентный человек. Не успеет вырваться из тайги – и буквально через час превращается в форменную скотину… А! И вспоминать не хочется. Ни за что бы сейчас не поехал!
– Да разве бы ты тогда отгрохал такой дворец? – возразил отец.
– Гори он синим пламенем!
– Да ладно тебе!
– Точно тебе говорю!
– Смотрю я на вас, – по очереди глянув на перепалку друзей детства, перевёл Филипп Петрович на другое. – Алексей, Анатолий, слышите? Смотрю, говорю, на вас и вспоминаю, как вы ко мне в литобъединение тогда ходили. У тебя, Алексей, скажу прямо, получалось неплохо, и зря ты это дело оставил, зря. Один твой рассказ всё припоминаю… Что-то такое бунинское, что-то вроде «Митиной любви»… И кончается так же печально. Но дело не в этом. Там у тебя всё очень живо и верно было подано. Атмосфера тех лет… Ненавязчиво, без дидактики и дутой многозначительности нынешних фокусников. Анатолий хуже начинал, но он упрямый, и гляди – третью книгу уже выпускает.
– И кто его читает?
– Кто читает, кто читает… – дёрнул плечами Филипп Петрович, очевидно, не ожидая такого некорректного вопроса. – Кто-нибудь да читает.
– А вот мы сейчас у нашего книгочея спросим – кого он у нас только не читал. Никита Алексеевич, ты читал Анатолия Борисовича?
Несмотря на переполнявшее меня счастье, я вздрогнул, как пойманный шкет. Лапаев писал на рабочую тему, так сказать, о передовом рабочем классе. Для мне было сущей каторгой про всё это читать, но признаться было неудобно, и я принялся мямлить:
– Про эту… повесть… Нинку-фрезеровщицу… Или это в кино было… забыл…
– Нашёл кого спрашивать! – ненатурально засмеялся Анатолий Борисович. – В его годы я тоже, знаешь ли, читал «охотно Апулея, а Цицерона не читал». Только про это самое и выискивал…
– Не в этом дело, Толя! Просто все вы… Ну не все, не все… – тут же оговорился отец. – А всё-таки большинство не о том пишете. Куда уж вам до Апулея! Нынешняя литература не ведает главного – страстей, а это двигательный нерв всей мировой классики.
И он опять принялся разливать вино.
Я тут же подставил свой бокал. Занятый разговором, отец наполнил его шипучим и игривым до краёв, и я тут же, никого не дожидаясь, его прихлопнул. Отчасти – от конфуза. Хотел, можно сказать, рвануть, а даже не дёрнулся. Пожалел. Или постеснялся? Или побоялся?
Елена Сергеевна опять ткнула меня в бок кулачком, прошипела: «Ешь давай, ешь, закусывай». Но мне расхотелось есть совершенно. Шампанское заполонило во мне всё естественое и сверхъестественное пространство.
– А сам? Посмотри на свои картины! – задетый за живое, пошёл в атаку Лапаев. – Вон их сколько! Обоев не видать. А кто-нибудь их хотя бы раз выставлял?
– Говорят, в них нет ошушшэния солнечного тепла, – с самоиронией возразил отец.
– А вот это верно подмечено, – подхватил Филипп Петрович. – И знаешь, почему? Не надо от жизни отворачиваться. А ты отворачиваешься. Отворачиваешься, отворачиваешься, не спорь… В вашем доме, кстати, Елена Сергеевна, жил до вас один не то монах, не то просто в синих штанах, некий Андрей Степанович. Тоже, знаете ли, всё от жизни отворачивался.
– А знаете, что он мне сказал, когда я заявил ему, что и без религии можно быть порядочным человеком, и что христианство в существе своём негуманно, а монашество бездеятельно и погубило Россию?
– И правильно сказал, – подхватил Филипп Петрович. – На этом ещё Луначарский в споре с обновленцем Введенским настаивал. В чём, собственно, суть атеизма? В отрицании пассивного начала. Так? А именно христианство внесло пассивное начало в мир.
– Вы это серьёзно? – в свою очередь удивился Леонид Андреевич и даже вилку положил на место. – А как же Суворов, Кутузов, Александр Невский?
– Это, Лёня, так сказать, оборотная сторона медали, – ответил за классика отец. – Ты, разумеется, прав. И я бы к словам Филиппа Петровича сделал поправку. Есть тут у меня кое-что на эту тему. – Я от неожиданности даже вздрогнул: я единственный знал, что именно и где имеется. – Не знаю, был ли Андрей Степанович священником, но если и был, то, по крайней мере, тихоновцем.
– Какая разница – тихоновцем, сергианцем? – возразил Филипп Петрович. – Разве в этом дело?
– И я на этот счёт даже одну характерную историю знаю, – подхватил Лапаев. – Из «Житий святых», кстати. Однажды на пир к какому-то киевскому князю пришёл монах из Киево-Печерской лавры. Присел у края стола и стал плакать. Ему: «О чем слёзы льешь, горе луковое? Или обидел тебя кто? Так скажи… А ежели нет, выпей с нами сладкого мёда за здоровье князя и княгинюшки да порадуйся нашей радости!» Что же чернец? «Я плачу, – говорит, – братие, от мысли: так ли весело будет нам в загробной жизни?» И сразу испортил нашим суеверным предкам торжество.
– Почему же – суеверным? В этом как раз и заключалась суть их веры!.. – возразил Филипп Петрович и повернулся к отцу: – И что тебе Андрей Степанович на это ответил?
– А что он мог ответить? Вы же знаете, как он всегда возражал. Вроде соглашается, а сам свою линию гнёт. «Вы правы, мол, Алексей Витальевич, вы правы. Я знал много замечательных людей из атеистов, с которыми довелось в лагере горе мыкать, некоторые из них потом сделались мне близкими людьми. Они говорили тогда примерно то же самое. Я очень любил их слушать. Умных людей всегда приятно послушать. Но слушая, всякий раз думал о том, что, в сущности, у нас почти до совершенства развита любая наука, только нет науки о том, как жить, а главное, как умирать. Предоставив себя во власть слепому случаю, человек не может быть не только счастлив, а хотя бы ровен и стоек против того, что иногда преподносит жизнь. И многие от этого плохо кончают».
– А ты?
– А что я? Говорю, «червяк не больше терпит, когда его давят». Так это когда ещё Гамлет сказал! А что насчет «быть или не быть», так, говорю, столп христианства покачнулся на сторону в самом начале, о чём свидетельствует Апокалипсис. «А вы читали, спрашивает, Апокалипсис?» Читал, говорю. Да ведь там понять ничего невозможно. Какие-то печати, животные с головами львов, быков и орлов… Понял только, что времени больше не будет, но так и не понял, куда его денут.
– Ну-ну. А он?
– «Вы, говорит, Алексей Витальевич, во многом правы. Но этим мы не решим вопроса, потому что сами же во всём виноваты. Сидим на древе и рубим сук под собой». Каков гусь, а?
– Да просто хитрый! – ввернул Лапаев.
– Так-так. А ты?
– «Да разве, говорю, монашество не тем же всю историю занималось? Не вы ли, говорю, приучили к этому медленному самоубийству народ?» – «Очень, – улыбается, – похоже, Алексей Витальевич, очень похоже. И тем не менее это наука». А как умер, вы знаете.
Я тоже хорошо помнил эту загадочную смерть. Андрей Степанович умер в своей комнате на Пасху, стоя на коленях, очевидно, во время молитвы. Видел я его и в гробу и был поражён тем спокойным выражением лица, от которого на меня впервые пахнуло не ужасом, который я обыкновенно испытывал при виде покойников, а чем-то иным, священным величием смерти, что ли, которую благодаря своей науке с таким стоическим спокойствием принял монах Андрей.









































