Текст книги "Буря (сборник)"
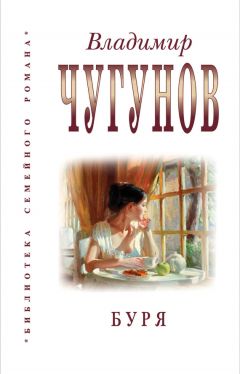
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
С минуту стояла абсолютная тишина. Больше всех, казалось, была потрясена Маша. Несколько раз во время чтения я вскидывал на неё глаза. И Боже, сколько внимания, сколько душевного волнения было в её ещё недавно таких беспечно лучистых глазах!
– Мы не можем этого так оставить! – сказала она. – Надо об этом поговорить.
– С кем? С отцом? – удивился я. – И как ты себе это представляешь? Извини, папа, я твой тайник нашёл?
– И что? Не для себя же он это написал? Так пусть скажет, для чего написал, и что надо делать?
– А разве надо что-то делать? – молвила Люба.
– Конечно! И давайте прямо сейчас дадим обещание… Ему, Богу, – прибавила она потише. – Что будем жить, как Он велит, а не как эти…
– Кто? – сглотнув слюну, спросила Вера.
– Плохие церковники.
– Вне Церкви? – удивился я.
– Зачем? Мы же не секта какая-нибудь.
– И с чего начнём?
– Да хоть с Евангелия. Анастасия Антоновна даст?
– На вынос – вряд ли. А вот если для чтения у неё собираться, думаю, будет только рада.
– Так решено?
И мы скрестили на журнальном столе руки.
– Ну-у, как вы тут? – неожиданно выросла над нами бабушка. – А вы чего это, в игру, что ли, какую играете?
– Да вроде того… – промямлил я.
– Ну-ну, играйте, не буду мешать.
И она хотела удалиться, но я остановил:
– Баб, погоди. Мы тут… к отцу Григорию хотим съездить. Сказала бы, когда лучше всего…
Она обрадовалась, присела к столу и стала объяснять, как лучше добраться. Сказала, что можно и на теплоходе, и на «Метеоре», и на автобусе. Но ближе и дешевле получалось по воде. «В субботу, – сказала, – с утра и поезжайте. И народу будет немного. И от меня поклонник с гостинчиком и записочками передадите».
Маша попросила:
– Анастасия Антоновна, а расскажите про него.
– Про батюшку-ту? Да что рассказывать? Поедете – сами увидите. – А сама стала рассказывать: – Батюшкой ещё когда не был, в гонения, перед войной, когда на строительстве Канавинского моста работал – было дело. Сядут мужики перекусить, он обязательно молится, без молитвы за стол не садился. А один раз кто-то и скажи ему: «И в наше время ты ещё молишься? У вас что, все в деревне такие?» – «Нет, – мол, – много и таких, что перед едой не молятся – кошки, собаки, свиньи». И весь тебе сказ! Ладно, сидите, пойду.
– Баб, а можно нам у тебя Евангелие почитать?
– Ты, что ль, надоумил?
– Я предложила, Анастасия Антоновна, – сказала Маша. – Пожа-алуйста.
– Ну как тут отказать? – и ко мне: – Вот, учись, как просить надо. Приходите, все приходите. Как надумаете, так и приходите.
И тогда Маша спросила:
– А можно прямо сейчас?
Бабушка сказала: «Отчего же». И мы пошли вниз.
Бабушкина комнатка была самой уютной и светлой в доме, но более, чем света, было в ней какой-то благостной тишины. Немудрёное убранство – железная кровать, аккуратно заправленная, с тремя водружёнными одна на одну подушками, комод с разными шкатулками и круглыми железными расписными банками, в которых лежали швейные принадлежности, ножная швейная машинка «Зингер», у небольшого, занавешенного тюлем окна, фотографии дедушки, свадебные родительские, наши семейные в рамочках на стене, жёсткий допотопный стул, самотканые половики и круги на полу – всё казалось незначительным придатком главного: красного угла, где помещалась больших размеров оплетённая позолоченной виноградной лозой икона Фёдоровской Божией Матери, сохранённая бабушкой от времени разрушения церквей и привезённая сюда из родного села. Перед иконой висела фарфоровая лампада в виде белого голубя, стояла высокая, примерно с комод, тумба с выдвижным ящиком и дверцей, напоминавшая аналой. На тумбе лежал старинный молитвослов, со следованной Псалтирью. За ней же, обычно стоя, я и читал бабушкино «Остромирово евангелии». Хранилось оно в верхнем выдвижном ящике комода.
– Как у вас хорошо! – сказала Mania.
– Куда ж вас, хорошие вы мои, посадить? – тут же засуетилась бабушка и ко мне: – Ну чего встал? Беги за стульями.
Я принёс стулья. Затем достал Евангелие. Бабушка уверяла, что оно напрестольное, из их церкви, но уже без оклада, конфискованного «Помголом» по указу «самово Ленина» вместе с другими церковными ценностями. Хранилось сначала у её тётки. Потом к ней перешло. По её просьбе перед самой войной деревянные корки были обёрнуты дедушкой бордовым плюшем.
– Садитесь, – сказала бабушка гостям и сама присела. – Тут не в церкви. Можно и сижа слушать. А он пусть стоя читает. Читать лучше стоя. И сижа можно. Но стоя лучше. Евангелие всёжки.
– Баб, я не с начала, а от Иоанна начну. Можно?
– А что, чай? Не на службе. Читай, отколь понравится. А то так открой, где откроется, и читай. И так иные читают, когда волю Божию узнать хотят.
– Волю Божию? – удивилась Mania. – Это как?
– Волю Божию-ту? А когда приспичит, открыл – и читай, что прописано. Вот те воля Божия и будет. Только допреж надо хорошенько помолиться. Десяток поклонников положить. Так, мол, Господи, и так, в вразумленьи нуждаюсь. И читай.
– А можно как-нибудь попробовать?
– Да хоть сейчас!
Mania задумалась.
– А что? – поддержал я. – Давайте прямо сейчас и попробуем. И я загадаю. Баб, а можно одновременно всем?
– Должно – нет… Кажному своё на роду написано.
– Тогда пусть Mania одна загадает, а мы помолимся. Можно?
– Даже лучше. Сам Господь сказал, коли двое или трое попросют об одном, будет им.
И мы, встав так, чтобы не мешать друг другу, сделали по десять земных поклонов. Я лично молился о том, чтобы то, что выпадет Маше, стало и моей судьбой. Можно себе представить, с каким волнением открывал я Евангелие.
– Закрываю глаза-a. О-открыва-аю. Внимание! Читаю справа, с первого абзаца весь эпизод до конца, – сообщил я и открыл глаза.
То, что прочёл, поразило всех. Не знаю, было ли то пророчеством, определением нашей дальнейшей судьбы, но что было открыто со смыслом и попало в самую точку, я даже не сомневался. А выпало вот что.
– «И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей: и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и учиницы его на брак. И не доставшу вину, глагола Мати Иисусова к нему: вина не имут. Глагола ей Иисус: что есть Мне и Тебе, Жено; не у прииде час мой. Глагола Мати его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите. Веху же ту водоносы каменни шесть, лежащие по очищению иудейску, вместящыя по двема или трием мерам. Глагола им Иисус: наполните водоносы воды. И наполниша их до верха. И глагола им: почерпите ныне, и принесите архитриклинови. И принесоша. Якоже вкуси архитриклин вина бывшаго от воды (и не ведаше откуду есть: слуги же ведяху почерпшие воду), пригласи жениха архитриклин. И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упиются, тогда худшее: ты же соблюл еси доброе вино доселе. Се сотвори начаток знамением Иисус в Канне Галилейстей, и яви славу свою: и вероваша в него ученицы Его».
По окончании чтения воцарилось благоговейное молчание. Казалось, сам Иисус невидимо стоял среди нас.
– И что это означает? – первой нарушила молчание Mania.
– Придёт время, милая, сама всё узнаешь… – как будто нарочно уклонилась от прямого ответа бабушка.
– Ну что, ещё? – спросил я.
И с общего молчаливого согласия прочёл первую главу от Иоанна. Особенное впечатление на всех произвело начало. Мы ещё не знали, что именно его уже много веков подряд читают на Пасху. Говорилось в нём об удивительном и непостижимом, о том, что никому и «на ум не взыде», а именно, что в начале, когда ещё ничего во всей вселенной, а может, и самой вселенной не было, было – Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. И было Слово от начала у Бога. И всё, что мы теперь видим и не видим, «Им быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть». И только в Нём, в этом Божественном Боге-Слове была настоящая жизнь, и жизнь эта была живоносным светом для человеков. «И свет во тьме светит, и тьма его не объят». Это уже я, как мог, переводил и объяснял. Говорил, что Христос и был Светом истинным, просвещающим всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, в том самом, который через Него начал быть. И мир этот Его не узнал. Пришёл к своим, а они Его не приняли. А тем, кто принял, всем верующим в Него, дал власть быть чадами Божиими. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И многие видели славу Его, как Единородного от Отца. От полноты Его и все верующие в Него приняли благодать на благодать, ибо «закон Моисеем дан бысть: благодать же и истина Иисус Христом бысть».
15Потом опять сидели наверху и пили чай со смородиновым вареньем. И ещё часа два катались на лодке, причаливали к тому берегу, к месту виденного мною ночного костра, ходили к берегу Оки. Под конец я причалил к мосткам дома Паниных и мы молча пошли было на нашу веранду, как вдруг из-за угла дома неожиданно нарисовался с зачехлённою гитарой Глеб.
– Куда, думаю, все запропастились? А они вон где! Дядь Лёня к пяти велел, а скоро шесть. Песню новую не хотите послушать?
Мне лично – не хотелось. И не только потому, что был совершенно в ином, после чтения Евангелия, настроении, а еще потому, что знал, зачем он пришёл, что занятия – блеф, и как только мы войдём, он начнет отпускать в мою сторону плоские шуточки. Такая уж у него натура. Не мог он, находясь в компании, кого-нибудь не подкалывать, над кем-нибудь не подсмеиваться. А вообще, это в обиходе нашего посёлка среди парней водилось. Соберутся – и для забавы подкалывают кого-нибудь. Я этого терпеть не мог. И, скорее, это, а не запреты отца было основной причиной моего отчуждения. К тому же и похабщины не переносил, которая в их чисто мальчишеской компании с уст не сходила. При девчатах, правда, затухала, и то сказать – при каких. Были у нас две или три оторвашки, хоть уши затыкай да беги. Откуда знаю? Да пару раз испытал на своём горьком опыте, когда, минуя запреты отца, попробовал было войти в их компашку через одноклассника. И что же? Прогуливаясь со мной по нашему Бродвею, где по вечерам, прежде чем отправиться в беседку, все обычно гуляли, он, ни слова не говоря, выслушал исповедь моего сердца и в тот же вечер поднял в беседке на смех. И Глеб в этом участвовал. И всякий раз, когда случалось проходить мимо беседки, вслед мне летели самые обидные, в сопровождении лошадиного ржанья, слова.
А потому, выслушав напыщенную звезду, сказал:
– Лодку отгоню и приду.
– Ну да, ну да, она скоро кое-кому понадобится… – с явным намёком на что-то обронил Глеб.
Я не придал его словам никакого значения.
– Никит, мы ждём! – очевидно, назло Глебу крикнула мне вслед Маша.
– Мы ждём, Никитк! – тотчас съерничал он и на этот раз чувствительно кольнул: – Смотри, куда не надо не заплывай! Заблу-удисси-и!
Дома я застал отца, да не одного, а с Лапаевым. Приехали, как выяснилось, обмывать только что вышедшую книжку Анатолия Борисовича.
Когда я поднялся в мансарду поздороваться с Анатолием Борисовичем, отец, уже изрядно захмелевший (бабушка шепнула, «уже хорошие заявились!»), увидев меня, оборвал разговор.
– Никита Алексеевич собственной персоной! Ну, и как прошло сватовство?
– Сватовство? – пьяно изумился Лапаев. – Он что, женится? На ком?
– Да есть тут одна… Как это? А соловей поёт всю ночь, но дева юная не внемлет…
– Ну всё переврал!
– Не слушайте вы его, Анатолий Борисович, – возразил я, – отеся шутит.
– Опять – отеся! Ну что ты с ним будешь делать? Слышь, Толь, а может, мне его высечь?
– Чем?
– «Жилами говяжьими» или «древием суковатым».
– «Древием суковатым»? Не гуманно. А «говяжьими жилами» – не современно.
– Зато полезно. И потом, почему не гуманно? Всё же лучше, чем… как это? «резаша» и «секоша» носы и уши?
– «Резаша» и «секоша»? – удивился Лапаев. – Отцы? Своим детям?
– Отцы! Да ещё какие! «Пыстырие и учителие вселенной»! Патриархи простые и патриархи вселенские. А ты думаешь, почему Византия пала? Если бы тебе, к примеру, ухо отрезали за то, что ты не тремя, а двумя перстами крестился, ты бы пошёл за «отрезателей» воевать? Турки… Да что турки! Большевики, безбожники, оказались куда гуманнее! Из наганчика или из винтовочки хлоп – и всё. А тут походи-ка всю жизнь с отрезанными ушами, носом или языком. И занимались этим отцы, не сеявшие, не жнущие и не рожавшие. Ты думаешь, я способен ему уши или нос отрезать? Да я его не только «древием суковатым» или «говяжьими жилами», пальцем ни разу не тронул и не трону. И он это прекрасно знает. Потому и не дрожит!
И тут, видя доброе расположение отца, я решился.
– Пап, а можно тебя кое о чем попросить?
– Видишь? И без «говяжьих жил» исправляется!
Анатолий Борисович согласно кивнул.
– Спрашивай, сынку! Чем сможем, поможем!
– Пап, я тут… мы тут… Ты извини… В общем, нашёл я случайно там, в «Капитале», у тебя…
Отец, слушавший сначала снисходительно, будто я хотел попросить его о какой-нибудь невинной мелочи, насторожился.
– Это ещё что за штучки?
– Вы о чём?
Но отец отмахнулся.
– Так… – и ко мне: – И чего ты после этого хочешь?
Я, разумеется, уже ничего не хотел.
– Ну чего замолчал? Высунулся с языком – спрашивай.
– Лучше в другой раз… – попытался отделаться я, но отец не уступил:
– Нет уж, извини… Вы что? – удивился он своей догадке. – Вы это… читали?
Я кивнул.
– Та-ак! Слушаю.
– Мы, в общем… разделяем… и хотели с тобой поговорить…
– Да в чём дело? – ничего не понимал Лапаев. Но отец и на этот раз отмахнулся от него:
– Да погоди ты! Разделяете, значит? Любопытно. И чья это идея, твоя?
Разумеется, я взял огонь на себя.
– Твоя, значит.
– Да что случилось-то? – не унимался Лапаев.
Отец и на этот раз не ответил и, глянув на меня строго, сказал:
– Ладно, ступай! Потом поговорим! – и, взявшись за бутылку, к Лапаеву: – По маленькой?
– Давай.
Отец разлил, они выпили.
Я знал, что сейчас начнётся или, вернее, продолжится только им одним понятный разговор о культуре вообще и о личных качествах отдельно взятого дарования в частности, который никогда и ничем не кончался, и пошёл вниз.
Бабушка стояла у лестницы, с тревогой прислушиваясь к разговору наверху.
– Ну, что там?
– А!.. – махнул я рукой. – Баб, я к Паниным.
– Ну-ну, ступай с Богом, ступай.
И она перекрестила меня на дорожку.
У Паниных в моё отсутствие произошло событие, о чём потихоньку известила меня Люба. Пока Mania с Верой выясняли отношения, Люба рассказывала.
– В общем, ушёл ты, мы на веранду пошли. Сели, то да сё. До песни дело дошло. Ну-у, я тебе скажу, и пе-эсня!.. На стихи этого… Ну, ты знаешь. При Пушкине жил. Из народа.
– Кольцов?
– Да… Вчетвером сидели, Вера с Машей на диване, я тут, он между нас на стуле, к ним лицом, ко мне спиной. А слова что-то типа: «Mania, Mania, молвил я, будь моей сестрою. Я люблю, любим ли я, милая, тобою». Смекаешь? Спел, значит, сидим… Он струны перебирает, в пол глядит. Верка бычится. Как только про Машу запел, супиться стала. А тут встала – и в дом. Я говорю: «Пойду плёнку закрою». А сама напротив окна встала и не дышу. Слышу, говорит Manie: «Понравилось?» Она: «Да ничего». «Знаешь, – говорит, – для кого написал?» – «Ну откуда нам знать?» – «Для тебя». «Да-аже?» Представляешь? Всем одно и то же говорит! И песня эта не новая, и не его вовсе, только имена он в ней всё время меняет. А Маша (ну, умора!) говорит: «К счастью, я хоть и Маша, да не ваша». Иду назад. Открываю дверь, а он мимо меня и к калитке. «А где, – кричу, – ваше до свиданья?» Ух, как он на меня глянул! А эти, – кивнула на дверь, – всё разбираются. Верка думала, из-за неё таскается… А то не видно, из-за кого. Я с танцев поняла.
С того дня Глеб перестал посещать Паниных, но обиды не забыл.
Маша с Верой, разумеется, помирились.
И костёр в ту ночь на том берегу не горел.
Проводив Лапаева, отец всю ночь храпел и стонал на весь дом. Бабушка не спала, караулила и, само собой, разумеется, молилась, о чём пожаловалась мне поутру.
Часам к десяти отец очухался и, не показавшись на глаза, уехал в город. После обеда, как договорились вчера, мы опять читали в бабушкиной комнате Евангелие. И так все дни до субботы. И все эти дни отец не ночевал дома, и костёр по ночам на том берегу горел. Бабушка, ни о чём не подозревая, говорила: «Всяко лучше, чем вино пить». И я был с нею совершенно согласен. Наше общее пробуждение началось позже, после поездки в Великий Враг.
16Великовражская Казанская церковь была единственной в округе. Даже в Кстове, в довольно большом районном центре, с известным на всю страну нефтяным комбинатом, не было ни одного храма. Правда, и город был молодым, в прилегающих и вошедших в его черту сёлах прежде, до перемены курса, храмы имелись, но, как и везде, стояли в разрухе или были приспособлены под что-нибудь социалистическое.
Добирались на «Метеоре». До этого я ни разу не плавал ни на «Метеоре», ни на «Ракете», ни на чём вообще, не было нужды, и был потрясён первозданной красотой волжских берегов. Наверное, нигде так не чувствуется связь столетий, как на Волге. Такие же пустынные, в зарослях ивняка, берез, с глинистыми проплешинами оползней, были её берега и сто, и двести, и триста лет назад. Кто только не промышлял на ней! Кто только не ходил торговать или разбойничать! И торговля с её берегов ушла сравнительно недавно.
Мне не сиделось, и весь путь я простоял в тамбуре, у выхода к трапу, глядя на неторопливо плывущий мимо высокий берег. Шумела, рассекаемая подводными крыльями, вода, летели мелкие брызги, попалась навстречу баржа, обогнали рыбачью моторную лодку, – а я всё стоял и думал.
Думал об отце.
Почему он не захотел поговорить со мной о своей рукописи ни на другой, ни на третий, ни на четвёртый день? Встречались же – правда, мельком – несколько раз. Но мог же он наконец сказать, как не раз прежде: «Загляни ко мне». Нет, не сказал. Более того, казалось, вообще старался избегать встречи со мной, а когда встречались, прятал глаза: так, кивнёт, опустит вниз и пройдёт мимо. Неужели до сих пор сердится? Я даже стал переживать: не случилось ли чего неприятного на работе? Бывало, случались у него неприятности из-за его, как выражалась мама, неординарности. Но у кого этих неприятностей не было? У меня за последние два года учёбы в школе так целых сто. Разумеется, все из-за литературы, из-за рабоче-крестьянской особенно. И не только. Не жаловал я и Серебряный век. Не всех, конечно. Есенина, например, кое за что прощал, за «Анну Снегину», например. Эта милая Анна была угаданная им моя мечта… Но теперь не об этом. Так почему избегает меня отец?
Знаю, что до появления Мити он очень любил меня. Переплывали мы с ним раз даже озеро. Он плыл, а я крепко держался за его шею. Было и хорошо, и страшно! Частенько отец возил меня в наш старый канавинский деревянный цирк. Помню дуровских лохматых собачек, ходивших на задних лапках, с вёдрами, по устроенной для них деревушке. Качали из игрушечного колодца воду, открывали калитки, танцевали друг с дружкой и чего они только не вытворяли. Помню и знаменитого Олега Попова в клетчатой широкой фуражке, с помидорным носом и всё время смеющимся огромным помадным ртом. А как заразительно он хохотал! А какое там было необыкновенно вкусное эскимо на палочке! Разносившая его по рядам в белом фартуке тётенька казалась волшебницей! Из пломбиров в стаканчике на всю жизнь запомнилось одно мороженое. Это когда в осенний вечер мы вышли с отцом из цирка. Кругом стояли лужи, воздух был влажен, редкий свет фонарей тускло блестел на мокром асфальте, было прохладно. Я до того объелся мороженым, что уже не мог одолеть этот последний пломбир. Только обкусал хрустящий стаканчик да лизнул несколько раз сверху. Мороженое уже подкапывало. Отец предложил: «Давай оставим птичкам?» Поставив мороженое на асфальт, мы пошли. И пока шли, я всё время оглядывался на одиноко стоявшее на чёрном асфальте мороженое – мой дорогой подарок птичкам. И в кукольный театр, и в старый ТЮЗ возил меня отец множество раз. Так что театральная жизнь города была мне известна, как никому в нашем поселке. И театр я любил. Телевизор смотрел тоже и в кино ходил, но разве могли они сравниться с живым театральным действом, когда всё происходит у тебя на глазах, и ты даже можешь, как в былые времена, с чувством благодарности отнести букет цветов за кулисы и даже перекинуться несколькими словами с живым актёром. А как они играли, захватывая зал, сколько вызывали аплодисментов! А книги, к чтению которых пристрастил меня опять же отец! Как же мне было сомневаться в его любви? И как было об этом странном отчуждении не скорбеть и не думать?
Mania вышла ко мне. Я на неё мельком глянул. И она, видимо уловив что-то в моём взгляде, осторожно спросила:
– Случилось чего?
И странно, я чуть не заплакал. Не от обиды, нет, а от интонации её голоса.
«Право, что Госпожа!» – подумал я. Мария же в переводе с еврейского – госпожа.
– Да так, ничего…
– Дома что-нибудь?
– Нет?
И тогда она спросила прямо:
– Не из-за Глеба?
У меня даже сердце провалилось. Чувствуя, что краснею, я отрицательно покачал головой.
– Не скажешь?
И тогда я рассказал ей всё. Она слушала молча. Столько лучистой печали было в её глазах! Таким прекрасным было её лицо! Не знаю, хотелось ли мне её, как Елену Сергеевну на именинах, поцеловать? Если и хотелось, то так, чуть-чуть, как целуются голубки на крыше. В самом деле, было в её облике что-то голубиное, чистое, к чему и хотелось, и боязно было прикоснуться.
– А я всю жизнь, сколько себя помню, была предоставлена самой себе. Родители, можно сказать, с пелёнок мне во всём доверяли. Папа постоянно в походах. Мы же, как в кино, из Кронштадта. Папа военный, подводник. А в Питер мама уже из-за меня подалась. Единственная я, выходит, у них и неповторимая. Потому и в университете учусь. Мама хочет, чтобы я стала журналистом, работала на радио или телевидении. Лишь бы за военного замуж; не выходила. В Кронштадте же сплошь одни бескозырки да белые кителя. И в Питере попадаются, но гораздо меньше. Тебя нравится Питер?
– Я там ни разу не был. А по фотографиям – да!
– А кто тебе из поэтов нравится… кроме, разумеется, Жуковского?
– Да много кто нравится.
– А из современников?
– Я даже не знаю… Немного у одного, немного у другого.
– А «Гроза» Павла Когана нравится?
– Не читал.
– Хочешь послушать?
Я кивнул, и она стала читать. И как! Я даже не узнал её!
Косым, стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся, ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну!
И вниз. К обрыву. Под уклон.
К воде. К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло…
Далёко, может быть, в края,
Где девушка жалеет моя.
Но, сосен мирные ряды
С высокой силой раскачав,
Вдруг задохнулась и в кусты
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь. И снова мир,
Как равнодушъе, как овал.
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!
Маша выдержала паузу, спросила:
– Как?
– Даже мурашки по коже!
– Правда? На школьном новогоднем бале первый раз прочла! Представляешь? Только что танцевали шейк, кругом шум, болтовня. Я подхожу к микрофону – и на весь зал (в спортзале было дело) читаю! Аплодисменты, советы: в артистки, мол, надо идти!.. – и, глянув искоса, спросила: – А ты как считаешь?
– Я думаю, у тебя везде получится.
– А ты хотел бы, чтобы я стала артисткой?
Разумеется, я этого не хотел и неопределённо пожал плечами.
– Вот и я не знаю, чего хочу. Приедем – спрошу у отца Григория. Как скажет, так и поступлю. А ты что после чтения Евангелия подумал?
Этого я уже точно сказать не мог и опустил глаза.
– Ладно… – И, глянув вдаль, спросила: – Это не она?
«Метеор», как по команде, сбавил ход. Я посмотрел вверх и на выступе крутого высокого берега увидел голубенькую деревянную церковь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































