Текст книги "Две недели в сентябре"
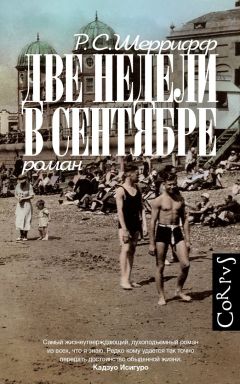
Автор книги: Р. С. Шеррифф
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Р. С. Шеррифф
Две недели в сентябре
This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency
© The Estate of RC Sherriff
© А. Гайденко, перевод на русский язык, 2022
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022
© ООО “Издательство АСТ”, 2022
Издательство CORPUS ®
Из автобиографической книги “Без женской роли” (1968)
Однажды мне в голову внезапно пришел замысел романа. Было это во время отдыха на море в Богноре, когда мы спускались к морю, садились на набережной и наблюдали за проходящими мимо толпами.
Глядя на этот бесконечный людской поток, я выбирал какое-нибудь семейство и представлял себе, как проходит их жизнь, какие надежды лелеют и к чему стремятся отцы, гордятся ли матери детьми или разочаровались в них, кого из детей ждет успех, а кто отдастся на волю волн и ничего не добьется. Мимо бесконечной чередой проплывали люди, которых я прежде не встречал и больше не встречу, но на минуту, когда они оказывались рядом, я отчетливо видел в каждом личность, и время от времени кто-нибудь из них зажигал во мне искру интереса, которая теплилась в памяти даже после того, как они скрывались из виду.
Мне захотелось взять наугад одно из этих семейств и выдумать историю о том, как они каждый год отдыхают на море.
Эта история не могла стать пьесой. Для театра она не подходила, да и в любом случае с пьесами было покончено.
Она должна была стать романом, но все мои предыдущие попытки написать роман в конце концов оказывались в мусорной корзине. Мне не хватало словарного запаса. Я барахтался в поисках новых слов, которые раньше не использовал, сбивался, запутывался и злился. Но теперь я решил, что не стану писать с прицелом на публикацию. Даже если роман будет закончен, я никогда не предложу его издателю, чтобы не потерпеть очередное фиаско.
Я собрался писать просто ради того, чтобы писать, и однажды вечером в номере отеля приступил к работе. Вскоре я столкнулся с теми же трудностями, которые мучили меня всякий раз, когда я брался за роман. Я ломал голову, подбирая слова, но те, которые мне удавалось найти, не сочетались друг с другом. Я оказался в еще худшем положении, потому что на этот раз у меня под рукой не было ни толкового словаря, ни словаря синонимов.
После нескольких бесплодных попыток я начал задумываться: уж не сбился ли я с пути? Я хотел написать о простых, обыкновенных людях, живущих ничем не примечательной жизнью, но подыскивал для этого цветистые обороты и высокопарные фразы. Конечно же, лучше всего было говорить об этих людях простыми, обыкновенными словами, которыми они сами описали бы свои чувства и приключения. Я решил попробовать так и сделать – ограничиться скромным запасом слов, который есть в моем распоряжении, и посмотреть, хватит ли мне его. Может, у меня и не выйдет книги, которую люди захотят прочесть, но зато карандаш не будет лежать без дела, и мне по вечерам найдется занятие.
Сюжет был прост, настолько прост, что, пиши я не для собственного удовольствия, я бы постыдился брать его для романа. Семья из пригорода – муж, жена, взрослая дочь, которая работает в швейном ателье, сын, который только что устроился в лондонскую контору, и младший сын, еще школьник, – ежегодно ездит на две недели отдыхать в Богнор. Я собирался написать о том, как проходит каждый день их отпуска, начиная с вечера перед отъездом и заканчивая днем, когда они собирают вещи, чтобы возвращаться домой; как они каждое утро выходят из старенького пансиона и спускаются к морю; как отец во время короткой передышки от скучной работы обретает надежду на будущее; как дети жаждут романтики и приключений; как мать, которая боится моря, пытается убедить остальных, что ей все нравится.
Простой стиль поначалу давался мне не легче, чем прежний витиеватый. Было трудно избавиться от привычки подыскивать эффектные выражения и мудреные обороты. Но рано или поздно незатейливые слова пробьют себе дорогу. Со временем дело пошло так гладко, что за вечер я успевал написать гораздо больше, чем раньше.
Но и в этом стиле были свои подводные камни. Если писать слишком просто, скатываешься в вульгарность, и язык становится примитивным до нелепости. Если переусердствовать, придумывая заурядных героев, они становятся очень маленькими, и начинаешь относиться к ним покровительственно. Я не сразу нашел золотую середину. Сначала я смотрел на своих персонажей сверху вниз, а потом слишком далеко зашел в противоположном направлении и обнаружил, что смотрю на них снизу вверх. Только по-настоящему узнав их, я смог без труда идти с ними наравне.
Особая прелесть состояла в том, что я не продумал план романа заранее и не знал, что произойдет в следующей главе, пока не наступала очередь ее писать. Это позволяло мне сопереживать героям, потому что каждый вечер, ложась спать, они точно так же не знали, что будет с ними на другой день, как не знал об этом и я, когда выключал лампу на столе и ложился спать сам. Готовый роман я назвал “Две недели в сентябре”.
Я все время повторял, что пишу только для себя и вовсе не собираюсь издавать роман. Иначе я не получал бы такого удовольствия от работы над ним. Но, закончив, я не мог удержаться от желания показать его кому-нибудь и узнать, что о нем думают. Когда я перечитал книгу, мне показалось, что она написана детским языком, но совсем не годится для детей. Нечего было и думать выдавать ее за детскую, но я не мог представить, какой взрослый возьмется такое читать.
“Конец пути” опубликовал Виктор Голланц – единственный издатель, которого я знал лично. Правда, Голланц был интеллектуалом и отличался взыскательностью. Романы, которые он публиковал, завоевывали признание критиков за свои художественные достоинства, и предлагать ему “Две недели в сентябре” было все равно, что предлагать льву леденец. Но терять было нечего. Мои писательские акции упали до нуля, и после недавних неудач с пьесами у меня выработалась невосприимчивость к разочарованиям. Роман был написан по той же схеме, к которой я прибегал в пьесах: те же обыкновенные люди, те же ничем не примечательные события. Послать его Голланцу значило злоупотребить нашей дружбой, но я был уверен, что он прочтет книгу сам, а его мнение, каким бы оно ни было, останется между нами. Я хорошо знал его и не сомневался, что я в надежных руках.
С философским спокойствием я ждал, когда он вышлет мне рукопись обратно, приложив к ней любезное письмо, полное сожалений, но то письмо, которое я от него получил, оказалось самым большим сюрпризом в моей жизни. Начиналось оно со слов “Это превосходно”, и они были словно солнечный луч после месяцев, проведенных в темной комнате. Это было замечательное письмо. Я привык, что издатели и директора театров ведут себя осторожно и сдержанно, но в ответе Виктора не было ничего подобного. Его энтузиазм казался безграничным. “Я с радостью опубликую эту книгу, – сообщил мне он. – Я бы не изменил в ней ни слова”.
Он действительно опубликовал ее ровно в том виде, в каком она была написана, и отзывы были изумительными. “Прелестный роман”, – говорилось в “Дейли телеграф”. “Маленький шедевр”, – говорилось в “Санди экспресс”. “Это очаровательно”, – говорилось еще в одной газете. Успех “Конца пути” повторялся.
Публика, которая отвернулась от точно такой же истории, но в виде пьесы, расхватала роман, как горячие пирожки. Первое издание было распродано за неделю, десять тысяч экземпляров кончились сразу же после выхода из печати, двадцать тысяч – за месяц. Американский издатель выпустил его в рекордно короткие сроки. У них роман получил такие же восторженные отзывы и продавался так же хорошо, как и здесь. Его купили Германия, Франция, скандинавские страны, Италия, Испания и, наконец, почти все европейские государства, в которых выходил “Конец пути”.
Почему это произошло, можно только догадываться. Наверное, главным образом потому, что читалась моя книга легко и в ней не было ничего грандиозного или слишком вычурного, а еще потому, что она была первой в своем роде. Одна девушка из Нью-Йорка написала, что читала мой роман каждое утро на пароме, который перевозил ее через Гудзон на работу в город, и ей становилось тепло, легко и радостно.
Самому же мне казалось, что я попадаю в яблочко только в тех случаях, когда не особенно стараюсь. Так было с “Концом пути”. Я сел за эту пьесу, чтобы чем-нибудь занять зимние вечера, и даже не думал ставить ее на сцене. А вот над двумя последующими пьесами я работал как проклятый, и все насмарку. Я сдался, потому что мои старания ни к чему не приводили, написал роман, чтобы скоротать время, и снова добился всего, о чем только мог мечтать.
Трезво поразмыслив, я пришел к выводу, что этот роман так и не сделал из меня профессионального писателя. Нельзя заработать на жизнь исключительно благодаря стечениям обстоятельств, которые, судя по всему, складываются в твою пользу только тогда, когда ты пережил уже много неудач и решил отказаться от дальнейших попыток. Я сильно обжегся, пытаясь повторить свой бешеный театральный успех с другими пьесами, и не хотел рисковать снова. Попытайся я заработать на успехе первого романа, состряпав второй, критики, вероятно, сказали бы, что это совсем не “Две недели в сентябре”, и, без сомнения, были бы правы – так что правильным было на этом остановиться: нельзя войти в одну реку дважды.
Глава I
В дождливые дни, когда западный ветер гнал по небу тучи, первые намеки на то, что скоро распогодится, появлялись над Железнодорожной насыпью, прямо за садом. Нередко миссис Стивенс, когда ей особенно хотелось, чтобы дождь перестал, выглядывала из боковой двери и искала на горизонте над Насыпью полоску просветлевшего неба.
Насыпь, бесконечно простиравшаяся вправо и влево, делила мир миссис Стивенс пополам. По эту сторону были ее дом и Далидж с его длинными исхоженными дорогами, вдоль которых тут и там жили ее знакомые. А еще по эту сторону, в полумиле отсюда, над крышами возвышался Хрустальный дворец; осенью он иногда посылал им золотые квадраты отраженного заката. За ним расстилались поля и росли деревья – в этих зеленых уголках вересковой пустоши вся семья обычно устраивала пикники, когда Дик и Мэри были маленькими.
По другую сторону Насыпи лежала вторая половина мира миссис Стивенс – почти неизвестная ей половина. Там были Херн-Хилл, Камберуэлл и огни Лондона, которые в пасмурном небе светились, как серные свечи в темной, давно опустевшей комнате больного, а в ясные ночи слегка разбавляли темную звездную синеву.
В том месте, где заканчивалась Корунна-роуд, под Насыпь ныряла асфальтовая дорожка, продолжавшаяся с другой стороны, но миссис Стивенс редко углублялась в эту часть мира. Покупки она делала в Далидже, и друзья ее жили именно там. Погожие субботние дни они проводили в полях и среди деревьев, к югу от города, на пути к Бромли.
Хотя миссис Стивенс жила в доме двадцать два по Корунна-роуд уже двадцать лет, с тех пор как вышла замуж, она имела весьма смутное представление о том, что находится прямо позади сада, за Насыпью.
Время от времени, когда они проезжали на поезде мимо дома, она пыталась это выяснить. Но народу в вагоне всегда было полно, и она не успевала перебежать от одного окна к другому, чтобы посмотреть в обе стороны. Поэтому ей так и не удалось разгадать тайну местности, лежащей за границей Насыпи, а впрочем, кое-что она с гордостью отмечала всегда. Пока поезд грохотал по Насыпи, перед ее глазами разворачивалась панорама тридцати садов – тридцати домов на Корунна-роуд с четными номерами. И ни один из них не представал в таком выгодном свете, как номер двадцать два с его тщательно подстриженной лужайкой, аккуратными клумбами и сиренью. Только в саду дома номер двадцать два на крыше сарая не было ни расколотых кирпичей, ни старых помойных ведер.
Но в этот промозглый сентябрьский день сад имел унылый и жалкий вид. Дождь начался рано утром; когда в двенадцатом часу миссис Стивенс вышла из мясной лавки, еще накрапывало, а теперь, в пять, уже шел тихий, унылый дождь, заливавший ямки на дорожках. Она чувствовала себя подавленной и несчастной. Вечер перед отъездом на море всегда считался семейным праздником. Когда Дик и Мэри были маленькими, он мог сравниться разве что с сочельником; иногда они даже признавали этот вечер лучшим во всем отпуске, хотя проводили его дома, а от моря их отделяло еще целых шестьдесят миль.
Но в этот вечер море всегда манило их, и мистер Стивенс, прогуливаясь после ужина по саду, почти ощущал в воздухе солоноватый привкус. У него вошло в привычку перед отъездом задерживаться в саду дольше обычного: он захлопывал крышку письменного стола на пятнадцать великолепных дней, работа оставалась позади, и ему нравилось думать, что этим вечером отпуск уже начался. Выходя в сумерках на лужайку, он расстегивал воротник и дышал полной грудью. Потом шел в спальню и доставал одежду, которую собирался носить на море: серые фланелевые брюки, спортивную куртку из твида, коричневые ботинки на толстой подошве и мягкую твидовую кепку. Правда, кепку он надевал редко. Целых две недели он подставлял свои редкие темно-русые волосы солнцу и ветру.
Миссис Стивенс снова выглянула на улицу. Хоть бы дождь прекратился! Весь отпуск будет испорчен, если они лишатся этого первого вечера, особенно драгоценного потому, что он украден у будней, – потому, что на самом деле он еще не часть отпуска.
В такие вечера на ужин всегда готовили что-нибудь особенное. В этом году их ждет отварная говядина, потому что из нее получаются хорошие сандвичи в дорогу, и посуда моется легко, а значит, больше времени останется на окончательные сборы. На сладкое будут яблоки в тесте – любимый десерт мистера Стивенса.
Уже начало шестого. Через час вернется вся семья. Сначала мистер Стивенс (в этот вечер он всегда уходил с работы минута в минуту), потом Дик, а потом и Мэри. К семи все уже соберутся дома. А вдруг дождь будет идти две недели? Однажды именно так и случилось. Она до сих пор помнит тот вечер, когда они тащились от станции по Корунна-роуд, в сумерках, под непрекращающимся дождем, – Дик нес ведерко, с которым толком и не поиграл, и мокрую лопатку.
Но на этот раз такого не будет – не может быть: она молилась, чтобы небо прояснилось, и ее молитва была услышана. Еще раз выглянув из кухонной двери, она заметила, что на улице посветлело; гравийная дорожка блестела, капли все реже барабанили по луже, и их становилось все меньше, а вдали, над Насыпью, крошечная голубая полоска вытесняла с неба тяжелые тучи.
Она вернулась на кухню с таким чувством, будто гора упала с плеч. Теперь все будет хорошо.
Если бы вы спросили миссис Стивенс, почему она счастлива, она бы не сумела это объяснить. Ответить: “Потому что будут счастливы все остальные” она бы не решилась – это прозвучало бы слишком напыщенно и глупо. Спроси вы ее: “Нравится ли вам отпуск?”, она бы вздрогнула: этого вопроса она всегда боялась, но ей так ни разу его и не задали. Никто этим не поинтересовался. Члены семьи считали, что ей все нравится, а друзья спрашивали только: “Ну как, хорошо ты провела время?”, на что она двадцать лет кряду отвечала: “Чудесно”.
Они всегда ездили в Богнор – с тех самых пор, как во время медового месяца она впервые увидела море. У ее отца была сестра, которая жила на ферме, и он, хотя сам пренебрегал отпуском, год за годом отправлял к ней детей, пока одна из его дочерей не встретила мистера Стивенса и не вышла за него замуж.
Море пугало миссис Стивенс, и она так и не смогла побороть свой страх. Больше всего оно пугало ее в полный штиль. Что-то внутри нее содрогалось при виде этой огромной, скользкой глади, уходящей в никуда, и голова начинала кружиться. На медовый месяц они по объявлению сняли комнаты на Сент-Мэтьюз-роуд у мистера и миссис Хаггетт. Пансион назывался “Прибрежный”, потому что из окна уборной была видна верхушка фонаря на набережной.
Мистер и миссис Хаггетт оказались необычной парой. Тучный и жизнерадостный мистер Хаггетт когда-то служил камердинером у человека, который оставил ему немного денег, – вот на них-то он и купил “Прибрежный”. Он отличался покладистым нравом, на других поглядывал слегка снисходительно и выпивал. Миссис Хаггетт, в отличие от него, была худой и так заискивала перед гостями, что становилось неловко. Коренастая, кривоногая и рыжеволосая Молли, которая верой и правдой работала у Хаггеттов уже много лет, была их единственной служанкой.
Впрочем, дом содержался в порядке и в безупречной чистоте. Стивенсы вернулись туда на следующий год и с тех пор возвращались постоянно – двадцать лет подряд, в дождливую и в ясную погоду, в жару и в холод.
Они часто говорили о том, что стоило бы поехать в другое место – в Брайтон, в Бексхилл, даже в Лоустофт, – но в конце концов Богнор всегда побеждал. Мало того, с каждым годом их все сильнее тянули туда сентиментальные воспоминания. Чернильное пятно на скатерти в гостиной, которое посадил Дик, когда был еще маленьким; небольшое панно, которое сделала Мэри, наклеив на открытку ракушки, – перед отъездом его подарили миссис Хаггетт, и с тех пор каждый год, возвращаясь в “Прибрежный”, Стивенсы видели его на каминной полке в гостиной. На лестничной площадке стояло чучело усача, которое они называли мистером Ричардсом, потому что усач напоминал молочника, когда-то приходившего к ним в Далидже. Их связывали с Богнором и многие другие ниточки, которые, увы, иначе оборвались бы.
Однако с течением лет “Прибрежный” мало-помалу неумолимо менялся. Мистер Хаггетт, некогда цветущий, как деревья весной, начал чахнуть. Румяные щеки поблекли и покрылись сеточкой тонких лиловых прожилок. Однажды Стивенсы заметили, что его исхудавшие руки дрожат, когда он подписывает квитанцию, а кожа на костяшках пальцев стала дряблой.
Каждый год в один из вечеров, когда дети уже ложились спать, миссис Хаггетт заглядывала в гостиную Стивенсов и тревожным полушепотом, часто поглядывая на дверь, рассказывала своим постояльцам, как тяжело пришлось зимой мистеру Хаггетту – все время в постели, то с бронхитом, то с другими загадочными болезнями, о которых миссис Хаггетт никогда не могла толком ничего сказать.
С каждым годом ее повествование становилось все длиннее и внушало все больший страх, пока однажды на Пасху Стивенсы не получили письмо с черной каймой. Миссис Хаггетт сообщала, что в прошлый вторник, в десять часов вечера, ее муж скончался.
В сентябре миссис Хаггетт встретила их в черном. Она рассказала, какая чудовищная погода была в тот вечер, когда умер ее муж, как ревело море, как хлопья снега кружились над дорогой, но, по ее собственным словам, смерть прекратила его мучения. С тех пор она носила траур.
Несколько лет назад мистеру Хаггетту пришлось отказаться от своей единственной обязанности (он менял электрические лампочки), потому что у него начинала кружиться голова. В последнее время толку от него в доме было мало. Но хозяйка пансиона тяжело переживала потерю: теперь, после смерти супруга, долгие зимние месяцы она проводила одна.
В последующие годы Стивенсы не замечали в “Прибрежном” явных перемен к худшему. Миссис Хаггетт все так же волновалась и все так же суетливо, как и всегда, пыталась им угодить. Молли, казалось, не сидела на месте ни минуты – и все-таки что-то было не так, каждый год происходили какие-нибудь мелкие неприятности. Несколько лет назад порвалась цепочка, к которой крепилась пробка для ванны; ее так и не починили, и теперь пробка валялась на дне. Год от года постельное белье ветшало и становилось все тоньше; однажды мистер Стивенс острым ногтем на ноге зацепил пододеяльник, разорвал его посередине и с тех пор каждый вечер, ложась в постель, случайно попадал ногой в дыру, которая от этого становилась еще больше.
Стивенсы никогда не жаловались и не говорили об этом вслух. Их многолетняя связь с “Прибрежным”, боязнь доставить лишние хлопоты миссис Хаггетт и, возможно, жалость к ней заставляли их молчать. В конце концов, они весь день проводили вне дома.
Но для миссис Стивенс перемены в “Прибрежном” были лишь малой частью волнений и тревог, которые доставляли ей эти две недели в году. Она ненавидела себя за то, что отдых не доставляет ей такой радости, как остальным. Необходимость делать вид, что она получает удовольствие, огорчала ее, потому что было в этом что-то притворное, нечестное. Когда Дик – лет четырнадцати – возился в песке в подвернутых шортах, открывавших его загорелые ноги, и время от времени внезапно подбегал к ней с восторженным: “Как хорошо, правда, мам?”, она отвечала: “Правда!”, и улыбалась, и ненавидела себя за ложь.
Но хорошим был только медовый месяц; с появлением детей эти две недели превратились в тяжкое бремя, а иногда и в настоящий кошмар. Дома дети принадлежали ей, любили ее, приходили к ней со всеми радостями и горестями. Но в Богноре они отдалялись от нее, становились совсем другими. Если она бралась за весла, они смеялись над ней и говорили, что она выглядит очень забавно. Дома они никогда так не делали.
Когда миссис Стивенс была моложе, она пыталась играть с ними в крикет на пляже, но не успевала вовремя заметить летящий мяч и поймать его. Они смеялись – и вскоре она бросала игру и пряталась в шезлонге за журналом, а от жаркого солнца у нее начинала болеть голова.
Но хуже всего была сама дорога до Богнора: хотя дети, подрастая, доставляли все меньше хлопот, миссис Стивенс так и не преодолела ужас перед станцией Клэпем-джанкшен, где они делали пересадку.
Громыхающие тележки носильщиков, путаница с платформами, визг поездов, заблудившийся муж – однажды, купив билеты, он вышел не с той стороны, – ад предстал бы для миссис Стивенс раскаленной добела Клэпем-джанкшен, а черти в нем носили бы форменные фуражки.
Но если Клэпем-джанкшен была самым большим из ее страхов, то путешествие в поезде до предела истощало ее терпение. В первую субботу сентября, когда они уезжали, в вагоне всегда было полно народу. Однажды кому-то из пассажиров стало дурно, и он глухим голосом попросил открыть окно. А в другой раз – несколько лет назад – с одной женщиной в углу купе случилось нечто вроде припадка: она стучала каблуками по полу и стонала. Миссис Стивенс тогда вся похолодела от ужаса. Это происшествие продолжало время от времени сниться ей, и с тех пор она, садясь в вагон, первым делом с неизменной тревогой вглядывалась в лица попутчиков, отчаянно надеясь, что у них будет отменное здоровье и непринужденный вид. Если же кто-то казался бледным и болезненным, она старалась отгородиться от него, прячась за спинами других пассажиров и презирая себя за трусость.
Впрочем, одна неприятность по мере взросления детей отпала, потому что в детстве Мэри всегда тошнило в поезде – тошнило с поразительной регулярностью, сразу после поворота на выезде из Доркинга. Миссис Стивенс пробовала не кормить ее, пробовала давать ей леденцы с резким мятным вкусом – все безрезультатно. В конце концов ее соседка миссис Джек, чью маленькую Аду укачивало точно так же, поделилась с ней отличным планом. Перед путешествиями на поезде миссис Джек всегда клала к себе в сумочку два-три бумажных пакетика. Они быстро открывались, легко применялись по назначению, и их было удобно выбрасывать в окно. Миссис Джек научилась очень ловко обращаться с ними и иногда хвасталась, что успевает расправиться с пакетиком прежде, чем ее удивленные попутчики понимают, что произошло.
Миссис Стивенс ненавидела эти поездки. Она никогда особенно не любила читать. Погрузиться с головой в книгу или журнал она не могла. В дороге она до рези в глазах разглядывала багажную полку и зловещую сигнальную цепочку красного цвета.
И все же сейчас, хлопоча над ужином, поднимая крышку кастрюли и переворачивая вилкой кипящую говядину, она была счастлива и почти ликовала от того, что вечером неожиданно проглянуло солнце, – она была счастлива, потому что отпуск приносил огромную радость остальным. Она очень ждала их возвращения домой; ей не терпелось отправиться в дорогу и в то же время не хотелось уезжать, когда дом на один вечер стал лестницей, ведущей к свободе.
Была и еще одна причина, по которой в этом году она побаивалась отпуска чуть меньше. Дик и Мэри росли. Дику было уже семнадцать, а Мэри почти двадцать. Пару раз за последний год Дик туманно намекал, что хочет сходить с друзьями в поход, а Мэри заговаривала о том, как весело несколько девушек из ее швейного ателье провели время на ферме.
Теперь Дик и Мэри часто гуляли по вечерам. Каждый четверг они ходили на танцы в Сент-Джонс-холл, но были у них и другие развлечения. Дома в последнее время все стало не так, как раньше, и отпуск должен был не разлучить их, а наоборот, сплотить. В прошлом году Дик только заканчивал школу, а теперь уже устроился на работу. Похоже, эта работа ему не слишком нравилась. Отпуск пойдет ему на пользу, и, возможно, все уладится. Один Эрни, третий и самый младший ребенок, все еще учился в школе: Эрни было всего десять лет, и в последние два года, сам того не осознавая, именно он задавал настроение отпуска, веселясь и вовлекая остальных в шумные игры.
К счастью, намеки на то, чтобы провести отпуск по отдельности, кончились ничем, потому что, когда настал день заказывать комнаты, никто не сообщил о других планах. Дик как будто рвался в Богнор еще больше с тех пор, как начал работать, и это казалось миссис Стивенс немного странным.
Дождь совсем прекратился; светило солнце. Миссис Стивенс достала из кухонного ящика скатерть и пошла в столовую.
Эрни, наконец выбравшийся из дома, играл с теннисным мячом, кидая его в стену.
– Ноги промочишь! – крикнула миссис Стивенс.
– Тут сухо! – отозвался Эрни.
Часы на местной церкви Святого Иоанна пробили шесть. Cкоро вернутся все остальные. Как хорошо, что они все-таки смогут провести отпуск вместе! Будет чудесно, если в течение этих двух недель погода не испортится и все насладятся отдыхом, как и раньше.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































