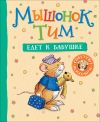Читать книгу "Мышонок и его отец"

Автор книги: Рассел Хобан
Жанр: Зарубежные детские книги, Детские книги
сообщить о неприемлемом содержимом
Рассел Хобан
Мышонок и его отец
Недаром сердце стиснула тревога:
Тропа твоя крута и коротка -
И лишь отсюда кажется пологой.
Смотри, но знай: не избежать прыжка.
У.Х. Оден
1
Бродяга был рослый и крепко сбитый, и шёл он вразвалку, шагом дальних дорог, слишком широким для тесных улочек маленького городка. Трясясь в хлипком пальтеце, он бесцельно брёл сквозь толпу; раскрасневшиеся в предрождественской суете прохожие при виде его учащали шаг и уступали дорогу.
Заслышав музыку, он остановился перед магазином игрушек, где то и дело распахивающаяся в потоке посетителей дверь звякала колокольчиком и выпускала на улицу волны тёплого воздуха и обрывки рождественских гимнов. «Украсьте свою прихожую ветками остролиста», – тараторил громкоговоритель в зале, а бродяга стоял и вдыхал Рождество в сосновых венках, в ярких красках и лаке, в блестящем металле и свежем картоне новеньких игрушек.
Он прижался лицом к стеклу и заглянул между игрушками на витрине в глубь магазина. Там, на зелёном сукне, под венками и гирляндами подмигивающих цветных огней, по сверкающим туннелям и пёстро раскрашенным горам мчался игрушечный поезд, то вторя музыке тонким дребезжаньем колес, то сбиваясь с такта. А дальше виднелись полки, битком набитые игрушками: игрушки жестяные, деревянные и плюшевые, куклы и медвежата, игры и мозаики, пожарные машины, лодки и фургоны; ряд за рядом тянулись штабеля закрытых коробок, и каждая – с очаровательным портретом игрушки, укрытой в ней от любопытных глаз.
На прилавке, горделиво вздымаясь над головами столпившихся вокруг ребятишек, красовался роскошный кукольный дом: огромный и очень дорогой, в целых три этажа, – чудо из чудес в своём роде. Балконы и галереи грациозно опирались на витые консоли, а мансардную крышу со слуховыми окошками и фронтонами венчали высокие кирпичные трубы и прелестная дозорная башенка. Перед домом стояла заводная слониха в пурпуровом чепце, а когда продавщица заводила её для глазеющей детворы – степенно расхаживала взад-вперёд, помахивая хоботом и хлопая ушами. Рядом с нею вертела на кончике носа красно-жёлтый мяч маленькая жестяная тюлениха, а её отражение в стеклянной крышке прилавка с улыбкой вертело на кончике носа свой мяч, точно такой же красно-жёлтый.
Бродяга увидел, как продавщица, вскрыв одну из коробок, извлекла на свет пару игрушечных мышат. Один большой, другой маленький, они стояли на задних лапках, протянув друг к другу передние; большой крепко держал маленького за ручки. Оба были в синих бархатных штанишках и лакированных ботиночках, оба – со стеклярусными глазками, белыми нитяными усами и хвостиками из чёрной резинки. Продавщица несколько раз повернула ключик в спине мышонка-отца, и он заплясал по кругу, раскачивая сынишку вверх-вниз над прилавком, а дети вокруг смеялись и тянулись их потрогать. Торжественно выписывая круг за кругом, мыши всё замедляли ход, и вот наконец пружина раскрутилась до упора и отец застыл, держа малыша на вытянутых кверху лапках.
Заводя игрушку снова, продавщица подняла голову и заметила обросшую физиономию бродяги, неотрывно глядящего сквозь стекло. Она поджала губы и отвела взгляд – и бродяга отвернулся от витрины. Серое небо разразилось снегом, но человек в лохмотьях всё стоял посреди тротуара, и мягкие снежные хлопья падали вокруг него, а прохожие, прибавляя шагу, торопились прочь.
А затем, пятная свежий снег следами огромных стоптанных ботинок, бродяга величаво двинулся по кругу, то вскидывая, то опуская пустые руки. Пробегавший мимо черно-белый пятнистый пёсик остановился и сел посмотреть на него, и в то мгновение только они двое на всей улице не двигались к какой-то определённой цели. Люди смеялись, качали головами и пробегали мимо. Бродяга застыл с поднятыми руками. Потом опустил голову, сунул руки в карманы и побрёл вдоль по улице, за угол, в сумерки и свет фонарей на снегу. Пёс обнюхал его следы и потрусил вдогонку.
Магазин закрылся. Покупатели и продавцы разошлись по домам. Музыка смолкла. Гирлянды погасли, весь магазин погрузился во тьму, кроме кукольного дома на прилавке. Изо всех его окошек лился свет, разгоняя окрестные тени, а игрушки перед ним стояли чёрными недвижными силуэтами. Час медленно тянулся за часом.
Но вот старинные ходики на стене объявили: «Полночь!» Раскачивая маятником, поблёскивающим в полутьме, они с тонким звоном отмерили двенадцать ударов, сложили стрелки на двенадцати часах и уставились в тёмное окно – на снег, густо сеющийся в круге фонарного света. Вдали, тоном ниже, приглушённые снежной пеленой, пробили полночь часы на городской башне.
– Где мы? – спросил отца мышонок. Чуть слышный голосок прорезал ночную тишь.
– Не знаю, – сказал отец.
– Кто мы, папа?
– Не знаю. Поживём – увидим.
– Ну и невежество! – возмутилась заводная слониха. – Поразительно! А впрочем, вы же новенькие. Я-то здесь уже так давно, что и запамятовала, как оно было. Итак. Это место называется «магазин игрушек», а вы – игрушечные мыши. Скоро придут люди и купят вас для детей, потому что вот-вот наступит время, которое называется «Рождество».
– А вас почему не купили? – спросила слониху жестяная малышка-тюлениха. – Как вам удалось продержаться так долго?
– Ну, это совсем другое дело, детка, – объяснила слониха. – Я, видишь ли, принадлежу к здешнему антуражу, а вот это – мой дом.
Дом и впрямь был великолепен даже по её меркам – да и по чьим угодно. Всё в нём, вплоть до карнизов и резных консолей, воплощало достоинство и стиль, и обитатели его никогда не опускались до того, чтобы ступить наружу. Им это было ни к чему: всё, чего они только могли пожелать, в доме и так имелось – всё, от салатниц с крышечками и кастрюлек с подогревом в буфетной и до роскошного чёрного фортепьяно в зимнем саду, среди папоротников в кадках. Тут не пожалели никаких расходов, не упустили из виду ни единой мелочи. А каких только комнат не было в этом доме – на все случаи жизни! И каждая пышно обставлена и подобающим образом заселена: в зимнем саду за фортепьяно сидели учительница музыки и юная леди-ученица, в детской обитали кукла-нянька и дети-куколки, в кухне – кукольные повар и буфетчик. Куклы-гости отдыхали в кроватках по гостевым комнатам – выходной здесь тянулся вечно; куклы-игроки вели нескончаемую партию в бильярдной, а кукольный учёный в библиотеке не отрывал глаз от книги, зажатой в одной руке, но и связи с миром не терял, ибо другой рукой легонько опирался на стоящий рядом глобус. Был даже кукольный астроном – в обсерватории, на вершине дозорной башенки: не зная устали он изучал в свой крошечный телескоп один из автоматических пожаротушителей под потолком магазина. А в столовой, под сверкающей люстрой, бессрочно сидели за столом кукольные леди и джентльмены. Повар с буфетчиком старались напрасно: леди и джентльмены все равно ничего не ели – только пили чай, да и тот из пустых чашечек, а гипсовые кексы и пирожные, неподвластные бегу времени, стояли себе и стояли рядом с серебряным чайником на белой камчатной скатерти.
День за днём слониха с восторгом любовалась этим чаепитием через окошко и, как подобает щедрой хозяйке, очень гордилась своим гостеприимством. Вот и сейчас она в который раз предложила одной из дам:
– Ещё чашечку? Ну попробуйте же пирожное!
– СКАНДАЛ В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ, переменная облачность, шансы на ВЫГОДНУЮ СДЕЛКУ резко ВОЗРОСЛИ! – откликнулась дама. Головка у нее была из папье-маше – из газетной бумаги, промазанной клеем, так что говорить кукла умела лишь обрывками новостей и объявлений, приходившими ей на ум вперемешку.
– Ковшеобразные сиденья, – подхватил ее сосед. – Рулевое управление с усилителем за дополнительную плату. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАЛО.
А мышонок-сын всё думал о том, что слониха сказала раньше.
– И что бывает потом, когда тебя купят? – спросил он.
– Ну, это, естественно, лежит за пределами моего опыта, – сказала слониха, – но смею предположить, что тогда ты просто выходишь в мир и делаешь то, что умеешь. Танцуешь, например, или вертишь мяч, смотря по обстоятельствам.
Малыш вспомнил резкий ветер, задувавший в дверь, и огромное лицо уставившегося на него бродяги за окном, на фоне серого зимнего неба. Теперь небо обратилось в занавес безмолвной тьмы за фонарём и снежными хлопьями. А в кукольном доме было светло и тепло, и чайник сверкал на ослепительно белой скатерти.
– Не хочу выходить в мир, – заявил мышонок.
– Увы, ребёнок дурно воспитан, – пояснила слониха кукольному джентльмену, сидевшему ближе всех к окну. – Но разве могло быть иначе? Бедняжка, он ведь рос без материнского наставления.
– РАСПРОДАЖА, – отозвался джентльмен. – РАСХОДИТСЯ ВСЁ.
– Вы совершенно правы, – согласилась слониха. – Всё так или иначе расходится. Движется всё, и каждый должен делать то, ради чего его заводят. Я – прогуливаться перед своим домом, как от меня и ожидают; вы – пить чай, как ожидают от вас. А от этого юного мышонка ожидают, что он выйдет в мир вместе с отцом и будет танцевать по кругу.
– Но я не хочу, – пропищал малыш и расплакался странным, тоненьким, жестяным, резким звоном, от которого задребезжали оба – и отец, и сын.
– Ну-ну, не плачь, – попросил отец. – Не надо, пожалуйста.
Но все игрушки в магазине уже его услышали.
– Перестаньте! Прекратите немедленно! – раздались недовольные окрики, но тотчас же стихли, потому что за дело взялись старые ходики, всех перепугав мерным гулом своего медного голоса.
– Напоминаю правила заводных механизмов, – прогудели они. – Никаких разговоров до полуночи и после рассвета. Плакать на работе воспрещается.
– Но он же не на работе, – возразила тюлениха. – У нас сейчас нерабочее время.
– Игрушки, которые плачут в нерабочее время, иногда плачут и на работе, – отрезали ходики, – а тут уж добра не жди. Умный поймёт.
– Да успокойся же, – сказала мышонку слониха. – Я спою тебе колыбельную. Слушай внимательно.
Мышонок перестал плакать и навострил уши, а слониха запела:
Тише, тише, плюшевый малыш,
Мама с тобою рядышком всю ночь.
Тише, тише, плюшевый малыш.
Всё плохое сон уносит прочь.
– Ты – моя мама? – спросил мышонок. Он понятия не имел, что это такое – мама, но сразу же понял, что ему она очень-очень нужна.
– О господи! – воскликнула слониха. – Ну конечно же нет! Я не твоя мама. Я просто спела песню, которую когда-то пела своему медвежонку одна плюшевая медведица.
– Ну тогда, может, ты станешь моей мамой? – не отставал мышонок. – И будешь петь мне всегда? Может, мы останемся здесь все вместе и будем жить в этом красивом доме с гостями? И никуда отсюда не уйдем.
– Ишь чего выдумал! – фыркнула слониха. – Сил моих больше нет, – пожаловалась она кукольному джентльмену, – честное слово! Стоит только с этим случайным элементом на прилавке поговорить вежливо – и сами видите, что получается!
– Двадцатиоднодюймовый цветной кинескоп, – предположил джентльмен. – Боли в спине и мышечное напряжение. ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, КОТОРАЯ СОГРЕЕТ ДУШУ ВСЕЙ СЕМЬЕ.
– Вот болван! – разозлилась слониха, и до самого утра больше никто на прилавке не промолвил ни слова. Снежинки за окном кружились, то вспыхивая в пятне фонарного света, то вновь исчезая во тьме; стенные ходики неспешно отсчитывали долгие часы мрака, а в кукольном домике продолжалось беззвучное чаепитие.
На следующий день отца и его мышонка продали. Слониха всё так же прохаживалась взад-вперёд, тюлениха вертела мяч на носу, леди и джентльмены сидели над своими чашечками, а папу и сына уложили в коробку, завернули и унесли.
Когда их распаковали, оказалось, что они уже не в магазине, а стоят под рождественской ёлкой вместе с другими игрушками. Ёлка была увешана лампочками и ангелочками и благоухала хвойным лесом. В камине потрескивал и гудел огонь, дети и кошка лежали на коврике, свернувшись калачиком, а игрушки разыгрывали перед ними представление. Пушистый белый кролик бил в тарелки с тоненьким звоном; жестяная обезьянка играла на скрипочке «Голондрину»; жестяная птичка усердно клевала пол. А мышонок с отцом танцевали.
Вокруг них громоздились коробки с подарками в ярких обёртках, но заводные игрушки были детям не игрушка: каждый год взрослые доставали их с чердака вместе с ёлочными украшениями, а после Рождества всякий раз упаковывали и прятали. «Любуйтесь сколько хотите, – говорили взрослые детям, – но заводить их будем мы. Так-то они уж точно не сломаются и будут радовать нас еще много-много лет».
Мышонок с отцом танцевали под ёлкой каждый вечер, а каждую ночь (пока люди спали) разговаривали с другими игрушками. Обезьянка жаловалась, что её заставляют пиликать на дрянной скрипчонке раз за разом один и тот же мотив; птичка жаловалась, что ей приходится клевать голый пол; кролик – что в его тарелках нет ни малейшего смысла. А вскоре и мышонок с отцом начали жаловаться на то, как это бессмысленно – раз за разом танцевать по кругу, который никуда не ведёт.
Но каждый вечер игрушки исправно давали представление, и каждый день ковёр осыпающихся с ёлки иголок у них под ногами становился всё толще, и вот наконец праздник подошёл к концу. Ёлку выбросили, а игрушки упаковали и отнесли на чердак вместе с украшениями. Там они лежали все вместе в одной коробке, в тёплом, сухом, резком запахе чердачных балок и в тусклом свете оконных стёкол, мутных, затянутых паутиной. Долгими днями и ночами они слушали, как барабанит по крыше дождь и ветер качает деревья, но полуночный бой часов не долетал до них из гостиной, и ни разу никто не позволил им сказать хоть слово. Так они и пролежали в молчании целый год, а потом их опять поставили под ёлку.
И четыре Рождества пришло и ушло, прежде чем наступило пятое – не такое, как другие.
* * *
– Заведите нам игрушки! – попросили дети, улёгшись на коврик у камина и подперев ладонями щёки.
– Мышонка-папу завели, и он, как всегда, двинулся в танце по кругу, раскачивая малыша на руках. Мимо сына проносились круг за кругом комната, ёлка, лица, озарённые светом камина… всё как всегда, но на сей раз появилось кое-что новое. Среди подарков стоял кукольный домик – маленький, одноэтажный, с узором красного кирпича, отпечатанным на фибровых стенах.
Кружась вместе с отцом, малыш заглянул в окно кукольного дома. Там за столом сидели крохотный плюшевый мишка и розовая фарфоровая куколка, а на столе стоял чайный сервиз, по сравнению с ними просто огромный. Круг за кругом мышонок-сын танцевал, то взлетая кверху, то опускаясь на руках отца, и кукольное чаепитие за окошком проносилось мимо него круг за кругом.
Тот, другой кукольный домик – каким же он теперь казался далеким! Как же далеко осталось то, другое чаепитие, и все эти элегантные леди и джентльмены, и слониха, которая могла бы стать его мамой! Мышонок-сын знал, что он на работе, но все равно заплакал.
Никто этого не заметил – ни одна живая душа, кроме кошки. Кошка привыкла к заводным игрушкам и больше не обращала на них внимания, но странные всхлипы этого мышиного детёныша напугали её и потрясли. Нацелившись было на игрушку, она выгнула спину дугой, но тотчас отскочила и взвилась на стол, задев тяжеленную цветочную вазу. Ваза грохнулась прямиком на мышонка с отцом. И разлетелась вдребезги – а игрушка расплющилась.
* * *
Ранним утром следующего дня через городок проходил бродяга – как и каждую зиму. Пёсик по-прежнему бежал за ним по пятам, а бродяга шагал по заснеженной улице. У дома, где жили дети и взрослые, он порылся в мусорном ящике – не найдётся ли чего-нибудь полезного, взял пустую банку из-под кофе и пачку газет и двинулся обратно на свалку старых автомобилей, в одном из которых провёл прошлую ночь. Только тут он обнаружил среди газет мышонка с отцом – сплющенные почти в лепёшку, они по-прежнему крепко держались за руки.
Бродяга обвёл взглядом кладбище разбитых машин, залитое холодным, чистым светом солнца. Опустил глаза и уставился на собственные лохмотья. А потом уселся в машину, где проспал ночь, и достал из кармана отверточку. Пёс молча наблюдал, как бродяга разбирает мышонка с отцом на части – проверить, можно ли снова заставить их танцевать. На свалке царила тишина; остовы машин торчали островками ржавчины в море сверкающего снега; только издали долетал перезвон рождественских колоколов да хриплое карканье ворон порой прорезало морозный воздух.
Целый день бродяга просидел на свалке, колдуя над сломанной игрушкой и отрываясь только перекусить и угостить пёсика хлебом и мясом, что сыскались в кармане. Вернуть жестяные фигурки в прежний вид ему почти удалось, но с пружинным механизмом пришлось повозиться. Едва он повернул ключик, как пружину заело, и, пытаясь высвободить её, бродяга сломал стерженьки и зубцы, заставлявшие мышонка-отца танцевать по кругу и раскачивать малыша вверх-вниз. Ничего не оставалось, как отложить их и собрать игрушку так. Лакированные ботиночки потерялись ещё в мусорном ящике, синие бархатные штанишки измялись и сидели криво, мех кое-где отклеился, но мышонок и его отец были спасены.
Бродяга снова завёл их; пружину не заедало, но танцевать мышонок с отцом больше не могли. Теперь отец ковылял на согнутых ножках вразвалку – вперёд и вперёд, толкая перед собой малыша. Пёсик сел и уставился на них, склонив голову набок. Человек в лохмотьях улыбнулся и выбросил лишние детальки. Затем сунул игрушку в карман и зашагал в сторону шоссе.
Высоко над городом, на вершине холма, за которой тянулись вниз по склону поля, укрытые снегом, шоссе пересекало мост над железной дорогой и, минуя городскую свалку, убегало вдаль, за горизонт. Бродяга поставил мышонка с отцом на обочину и завёл отца.
– Быть вам бродягами, – сказал он, повернулся и зашагал прочь, и пёсик потрусил за ним следом.
2
Отец-мышонок топал к мосту, толкая сына спиной вперёд, пока завод не кончился. Тут они замерли и не могли больше сделать ни шагу. Внизу громыхали и взвизгивали поезда. Легковушки и грузовики с рёвом проносились мимо, сотрясая мост, и растворялись вдалеке, а отец и сын стояли и дрожали.
День склонился к вечеру; в прощальных косых лучах заходящего солнца поблёскивали вдоль обочины битое стекло и слюда. Заснеженные поля вспыхнули на краткий миг и угасли. Рдели и чадили в сумерках горящие мусорные кучи на свалке. Зажглись огни на мосту, заливая дорогу нездешним голубым сияньем, а дальше по шоссе фонари разметили сумрак до тёмной черты горизонта. Горбатая луна угрюмо уставилась вниз с холодного неба; потом ее заслонили облака. Где-то далеко отбивали время часы на городской башне, и мышонок с отцом ждали молча, пока до них не донеслись еле слышно двенадцать полуночных ударов.
– Видишь, до чего нас довели твои слезы, – упрекнул отец малыша.
– Прости меня, папа, – сказал мышонок. – Я не хотел плакать. Так получилось.
Отец вгляделся в темноту за мостом, туда, где исчезали красные габаритные огни, а на смену им надвигались белые огни фар. Ветер крепчал, и в затишьях между машинами слышалось, как поскрипывают от холода балки моста.
– Как же это странно – идти вперёд и вперёд! – воскликнул отец.
– Я шёл задом наперёд, – заметил мышонок, – но это было лучше, чем танцевать по кругу. А что мы теперь будем делать?
– Кто его знает, – сказал папа. – Выходит, мир куда больше рождественской ёлки, чердака и мусорного ящика. Сдаётся мне, может случиться всё. Всё что угодно.
– Может-то может, да не выйдет, – негромко раздалось у него над ухом. – Уж никак не сегодня, ребятки.
Огромная крыса бесшумно выступила из тени балки в круг света от подвесного фонаря и, вскочив на задние лапы, нависла над мышонком и его отцом. Пришелец был в халате – засаленном лоскуте пёстрого шёлка, подпоясанном грязной верёвкой, и пахло от него темнотой, и всякой гнилью и плесенью, и помойкой. Он возник внезапно, но предстал перед мышатами с таким видом, словно был здесь всё время, а они его просто не замечали, но стоило заметить – и теперь он уже не уйдёт никогда. В призрачном голубом сиянье он буравил отца и сына пронзительным взглядом, и непроницаемые глаза его в лучах проносящихся мимо фар вспыхивали багровыми огоньками, словно два круглых рубиновых зеркальца. Усы его затрепетали, морда придвинулась ближе, и жёлтые зубы обнажились в ухмылке; лапа метнулась к мышонку с отцом и сшибла их с ног одним могучим ударом.
– А теперь пора в путь, – объявил он.
Он поставил мышей на ноги, завёл отца и подтолкнул вперёд – через мост и дальше по дороге, в сторону свалки. Тени их под фонарями, горящими вдоль шоссе, то колыхались позади, то обгоняли путников, то растворялись во тьме до следующего пятна тусклого света.
– Куда вы нас ведёте? – спросил отец.
– На бал, куда же ещё, – отозвался их провожатый. – На развесёлый шумный бал. В королевский дворец. Будем пить шампанское и плясать до рассвета. Вы не против? – Он тихонько хихикнул. Голос его, отчасти приятный, но и чем-то отталкивающий, звучал на удивление вкрадчиво и убедительно.
– Мы что, правда идём во дворец? – переспросил мышонок.
– Не думаю, – сказал отец. – Он нас дразнит.
– Точно, – подтвердил провожатый. – Я такой. Чувство юмора у меня знатное – кто хошь подтвердит. Ну, вот мы и дома, в целости и сохранности.
Шоссе осталось позади; вокруг простиралась свалка. Спотыкаясь о припорошённый снегом мусор, отец и сын ковыляли по улице крысиного города. На грязном снегу плясали тени от мусорных костерков, разведённых местными обитателями. Туннели и коридоры вели сквозь груды отбросов к тёмным, грязным жилищам. Кто-то исподтишка провожал прохожих взглядом; отовсюду неслись громкие крысиные голоса – крики, ругань, песни… Мало-помалу улица стала шире, и показались лоточки с крысами-продавцами – это был чёрный рынок.
– Шкура апельсиновая – привозная и местная! Плесень фигурная – зелёная, белая, чёрная! – выкрикивал тощий, сморщенный зазывала со свалявшейся шерстью. – Шкварки свиные из-под яичницы, двухмесячной выдержки, с гарантией! Налетай-разбирай! – Заметив крысу в халате, он замахал лапами, привлекая внимание. – Здорово, Хват! Чёрной икры не желаешь? Твёрдая, что твой камень! Шесть недель выдержки, ни днём меньше! Объедение!
Крысий Хват пощупал икру, но брать не стал.
– А нет у тебя этой импортной патоки? Ореховой? – спросил он. – Ну, той, в красной фольге, помнишь?
– Скажу заготовителю, в другой раз будет непременно, – пообещал продавец, подмигнул Крысьему Хвату и снова заголосил: – Шкура апельсиновая! Шкварки свиные! Мыло ароматное! Клейстер!
Мышонок с отцом, спотыкаясь, топали дальше и вскоре различили в общем гомоне писклявые, нестройные голоса, а затем и слова песни:
Кто там проходит строем в ночи?
Мы – фуражиры Крысьего Хвата!
Закон нам один – хватай и тащи!
Мы – фуражиры Крысьего Хвата!
Голоса устало замерли, хор рассыпался стонами и приглушённой бранью.
– Вперёд! – рявкнул кто-то. – Эй, там, пошевеливайся!
– У меня пружина лопнула, – прозвенело в ответ. – Сам посмотри – вот, из груди торчит. Моя песенка спета.
– Эх, счастливчик, – завистливо звякнул другой жестяной голос, и всё стихло.
Крысий Хват захихикал и подтолкнул мышонка с отцом дальше – в вонючий лабиринт игорных домов и палаток, баров и дансингов, состряпанных на тяп-ляп из деревяшек и картонных коробок. В отблесках костров из переулков вставали огромные тени крыс – завсегдатаев местных притонов; дансинги ходили ходуном от неистового грохота консервных банок, дудочного свиста и бренчания банджо из спичечных коробков, а в тусклом свете свечей, лившемся из дверей и окон, отплясывали на снегу чёрные тени крыс-танцоров. Сквозь общий гвалт пробивался издалека хриплый голос заводной карусели: она играла вальс, то и дело глотая ноты. Еще дальше, за горами мусора и кострами, свистнул и чуть слышно протарахтел товарный поезд.
– Спешите видеть! Не проходите мимо! – выкрикивал чёрно-красный жук-могильщик у входа в театр – бывший ящик из-под апельсинов. Зыбкое пламя оплывающей в ящике именинной свечки отбрасывало перед жуком на снег прыгучую тень. Жук был в плаще из шерсти волосатой гусеницы, но всё равно дрожал.
– Научная выставка! – пояснил он прохожим. – Шанс пополнить своё образование для всей семьи!
Он приподнял рваный занавес, за которым в мерцающем свете свечей обнаружилась розовая целлулоидная кукла без головы – гавайская танцовщица в блёклых лохмотьях травяной юбочки из целлофана. Два сверчка-музыканта в гнезде из сухой травы на дне стеклянной банки молча жались друг к другу, едва живые от холода.
– Мне тут не нравится, папа, – прохныкал мышонок.
– Ш-ш-ш! – сказал отец. – Слезами горю не поможешь.
– Полюбуйтесь, как занятно она дёргается! – не умолкал жук. Он повернул ключик в спине безголовой куклы, и та вяло закачалась вправо-влево. Пламя свечей затрепетало на ветру. – Эй, за работу! – Жук пнул банку со сверчками. Сверчки слабо чирикнули и тут же снова затихли. Жук опустил занавес. – И это только начало! – вскричал он. – Проходите в зрительный зал! Добро пожаловать на представление!
– Сколько сегодня снял? – осведомился Крысий Хват.
– Туго нынче идёт, – пожаловался жук-могильщик и предъявил крошечный хвостик от копчёной колбасы и припорошённую снегом мёртвую ласточку.
– Мы ведь ничего тайком не закапываем, а? – переспросил Крысий Хват, забирая колбасу. – Мы ведь заботимся о том, чтобы Хват получал свою долю?
– Тяжёлая была зима, – сказал жук. – Стараюсь как могу. Честное-благородное!
Крысий Хват завёл мышонка-отца, и, свернув с улицы, они двинулись вверх по склону, на отвал. Мышонок с отцом то и дело падали и съезжали обратно.
– Уже почти пришли, – подбадривал их Крысий Хват. – Сейчас малость расправите пружинки, передохнёте, ну а там – за работу!
Подъём кончился. Путники перебрались через сухое русло ручья, обогнули остов детской коляски и очутились в длинном и узком проулке между двумя рядами банок из-под пива. Банки, словно вязы на подъезде к особняку, окаймляли аллею, ведущую к выпотрошенному, без кинескопа, корпусу телевизора – резиденции Крысьего Хвата.
Завод кончился, и мышонок с отцом остановились, а их похититель уселся на край дыры от кинескопа и слопал колбасный огрызок. Глянув на небо, он увидел, что облака разошлись. Вновь показалась луна; высыпали колючие, ясные звёзды. Над самой землёй клонился Охотник-Орион, а близ сверкающей россыпи Млечного Пути, в созвездии Большого Пса, пламенел Сириус, ярчайшая из звёзд. Крысий Хват предпочитал тёмные ночи; он скорчил звёздам рожу и отвернулся.
Мыши стояли на кочке, под таким углом, что сын тоже видел Пёсью звезду – через плечо отца. Прежде он никогда не смотрел вверх, на небо; да и на земле мышонок пока повидал не так уж много, и даже это малое оказалось куда страшнее, чем он себе представлял. Поначалу льдистый блеск звезды напугал его – малыш почувствовал огромную даль, сводящую его самого в ничто. Но, глядя и глядя на это ровное сияние, он мало-помалу утешился: если я – ничто, подумал он, то и эта крыса, и вся эта свалка – тоже. Отец по-прежнему крепко держал его за руки, и мышонок решился посмотреть, что ещё припас для него большой мир.
– Что вы хотите с нами сделать? – спросил отец у Крысьего Хвата. – Зачем вы нас сюда привели?
Вместо ответа Крысий Хват обернулся и уставился на протоптанную в снегу дорожку, что вела к баночной аллее. До мышонка с отцом опять донеслось пение, и в тусклом свете звёзд они различили тёмные силуэты на снегу – уродливого крысиного юнца, гнавшего перед собой отряд потрёпанных заводных игрушек. Их было десятка полтора, и каждая, спотыкаясь, тащила на спине мешок. В своё время всех их подобрали на свалке Крысий Хват и Ральфи, его слуга и помощник; и остатками своей подвижности игрушки были целиком обязаны технической сметке двух этих крыс. Некогда это были брыкающиеся ослики, танцующие медвежата, кувыркающиеся клоуны, рычащие львы, блеющие козлики – какая только профессия не была представлена в этой компании! – но немногим из них удалось сохранить прежние способности, а большинство вдобавок лишились одной или двух конечностей, одежды и меха, глаз и ушей. Растеряв свои навыки и таланты, они теперь только и умели, что брести вперёд когда заведут, – да и то с грехом пополам. Во главе отряда, пробиравшегося по аллее, ковылял дряхлый козлик, хромой и безглазый, слабо подтягивая общему хору:
Кто там проходит строем в ночи?
Мы – фуражиры Крысьего Хвата!
А всем остальным – тишок да молчок,
Пока не ухватим мы первый клочок
Для Крысьего Хвата!
Песня оборвалась – фуражиры остановились кто где между пивными банками, а тех, у кого завод ещё не кончился, Ральфи попросту посбивал наземь. Мышонок с отцом смотрели на них во все глаза – а те из отряда, кто остался на ногах, молча смотрели на мышонка с отцом.
– А эти откуда взялись? – полюбопытствовал Ральфи, приближаясь к хозяину для отчёта.
– Брели по дороге, – объяснил Крысий Хват. – Отбились от твоей команды, как пить дать. Новенькие, что ли?
– Кажись, я эту парочку раньше не видел, – пробормотал Ральфи, – А, да чего там! Для меня эти заводяшки все на одну морду. Никогда не пойму, все ли в строю, пока не пересчитаю. – Ральфи вперил в мышонка с отцом хищный взгляд. – Брели, значит, по дороге? Может, у них пружина мощновата? Может, их подправить маленько?
– Пока не надо, – отмахнулся Крысий Хват. – Мне гораздо интереснее, кто это там сегодня скулил. Что-то насчёт лопнувшей пружины, если не ошибаюсь.
– Он. – Ральфи ткнул лапой в ослика, у которого не хватало глаза и ноги. – Пускай сам порасскажет.
– Да нет, нет! – испугался ослик, услышав, что Крысий Хват приближается к нему с незрячей стороны. – Во мне ещё силёнок хоть отбавляй! Просто я малость расклеился – ну, знаете, как оно бывает…
– Ты расклеился совсем, – отрезал Крысий Хват. – С первого взгляда видно. Пора тебе на покой.
Хват подобрал тяжёлый камень, занёс повыше и с размаху опустил ослику на спину, расколов его пополам, как грецкий орех.
– Потроха – в банку для запчастей, – велел он помощнику.
Ральфи проворно извлёк из ослика пружину и проволочки, шедшие к ногам, и бросил всё в пустую консервную банку, стоявшую рядом с мышонком и его отцом. На оранжевой этикетке была надпись белыми буквами «СОБАЧИЙ КОРМ БОНЗО», а под нею – картинка: шагающий на задних лапах чёрно-белый пятнистый песик в поварском колпаке и фартуке. Пёсик тащил поднос с точно такой же банкой «СОБАЧЬЕГО КОРМА БОНЗО», на этикетке которой ещё один чёрно-белый пятнистый пёсик, точно такой же, но гораздо меньше, шагал на задних лапах и тащил поднос с очередной банкой «СОБАЧЬЕГО КОРМА БОНЗО», и так далее, пока пёсики не становились совсем уж крошечными и неразличимыми. Мышонок-отец не отрывал взгляда от банки, куда, печально звякнув, упали внутренности ослика; сын стоял к ней спиной.