Текст книги "Самое грандиозное шоу на Земле: доказательства эволюции"
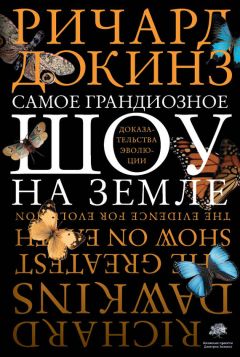
Автор книги: Ричард Докинз
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Некогда гордые крылья
Мы так легко замечаем следы истории в телах китов и сирен потому, что они живут в принципиально другой среде обитания по сравнению со своими предками. Примерно то же можно наблюдать у птиц, которые утеряли привычку к полету и, как следствие, оснащение для него. Страусы и эму – прекрасные бегуны, которые никогда не летают. Однако и у них есть небольшие остатки крыльев, доставшиеся в наследство. Более того, остатки крыльев у страусов не полностью утратили функциональность. Слишком маленькие для полета, они, тем не менее, пригодны в качестве балансира и руля при беге, а также участвуют в социальном и половом поведении. Крылья птицы киви настолько малы, что незаметны за густыми перьями, однако все кости крыльев на месте.
Моа совершенно лишились крыльев. Их родина, Новая Зеландия, вообще богата нелетающими птицами, вероятно потому, что отсутствие млекопитающих оставило свободными множество экологических ниш, которые можно было занять, если долететь в Новую Зеландию. Но первопоселенцы, добравшиеся на острова по воздуху и заменившие там наземных млекопитающих, утратили способность к полету. Моа, однако, это не касается – их предки не летали еще до раскола Гондваны. Среди ее обломков была Новая Зеландия, которой досталась своя порция гондванской фауны. Сказанное в полной мере относится к какапо, нелетающим новозеландским попугаям. Их летающие предки жили так недавно, что какапо до сих пор пытаются летать. Но уже не могут: они утратили крылья. Бессмертный Дуглас Адамс в “Последнем шансе увидеть” отметил:
Это чрезвычайно толстая птица. Взрослая особь нормального размера весит два или три килограмма, а крылья имеют размер, подходящий для того, чтобы перебраться через что-нибудь не очень высокое. Вопрос о полете даже не стоит. Тем не менее, к сожалению, какапо не просто забыли, как летать, но и забыли, что они забыли, как летать. Испуганный какапо взбегает по дереву и прыгает с него, после чего летит вниз как кирпич и немилосердно шлепается на землю.
Страусы, нанду и эму – прекрасные бегуны, а пингвины и галапагосские нелетающие бакланы – великолепные пловцы. Мне повезло поплавать с нелетающим бакланом среди скал острова Изабелла, и я был восхищен скоростью и сноровкой, с которыми птица передвигалась от расщелины к расщелине, задерживая дыхание на чрезвычайно долгое время (у меня было эволюционное преимущество в виде маски). В отличие от пингвинов, которые “летают” под водой, делая гребки короткими, но сильными крыльями, бакланы передвигаются при помощи очень сильных ног с перепончатыми лапами, а крылья используют только как стабилизаторы. Однако все нелетающие птицы, даже страусы, которые очень давно потеряли крылья, происходят от предков, которые использовали крылья для полета. Ни один разумный наблюдатель не станет спорить с этим, а значит, не поставит под сомнение факт эволюции.
Несколько разных групп насекомых также утеряли или существенно сократили крылья. В отличие от примитивных бескрылых насекомых вроде чешуйниц, блохи и вши утратили крылья, которые когда-то были у их далеких предков. Летательные мускулы самок непарного шелкопряда недоразвиты, и они неспособны летать. В этом нет необходимости, поскольку самцы сами прилетают к самкам, привлекаемые издалека запахом химической приманки. Более того, если бы самки летали, система бы не работала: к тому моменту, как самец прилетел бы к источнику медленно распространяющегося градиента приманки, источник давно улетел бы!
Мухи, как подсказывает нам их латинское название Diptera, имеют, в отличие от других насекомых, два крыла, а не четыре. Вторая пара крыльев редуцировалась, превратившись в жужжальца. Они вращаются наподобие крошечных булав и работают как гироскопы. Откуда мы знаем, что жужжальца происходят от крыльев, спросите вы? Во-первых, они занимают в точности то же место на третьем сегменте груди, что летательное крыло занимает на втором (и на третьем у всех прочих насекомых).
Они двигаются по той же восьмерке, что и крылья. Эмбриология их такая же, как у крыльев; в целом, если взглянуть на промежуточные стадии, очевидно, что это укороченные крылья, явно видоизмененные (если вы не отрицаете эволюцию, конечно). Более того, встречаются мутантные дрозофилы (так называемые гомеозисные мутанты), эмбриогенез которых нарушен. У них нет жужжалец: вместо них формируется вторая пара крыльев, как у пчелы или любого другого насекомого.

Жужжальца долгоножки
Как выглядели промежуточные формы между крыльями и жужальцами, и чем они могли заинтересовать естественный отбор? В чем смысл “недожужжальца”? Основной вклад в понимание того, как работают жужжальца, внес оксфордский профессор Джон Уильям Саттон Прингл, мой старый преподаватель, который за суровость и строгие манеры получил прозвище “Весельчак Джон”. Он указывал, что крылья всех насекомых имеют у основания небольшие сенсорные органы, которые реагируют на скручивание и другие внешние воздействия. Имеются схожие сенсорные органы и у основания жужжалец – это еще одно, замечу, доказательство их происхождения от крыльев. Задолго до появления жужжалец поток входящей информации от основания быстро машущих крыльев должен был отрегулировать их работу также в качестве простого гироскопа. Ведь любая летающая машина по определению нестабильна, и ей необходим, например, гироскоп.

Anhanguera (слева) и Rhamphorhynchus
Вопрос эволюции стабильно и нестабильно летающих животных очень интересен. Рассмотрим, например, двух изображенных выше птерозавров, вымерших летающих рептилий, современников динозавров. Любой авиаконструктор скажет вам, что рамфоринх летал стабильно благодаря длинному хвосту, заканчивавшемуся утолщением наподобие ракетки для пингпонга. Ему не был нужен сложный механизм гироконтроля вроде жужжалец: стабильность в полете обеспечивал длинный хвост. С другой стороны, скажет вам тот же конструктор, такая конструкция не слишком маневренна. Устройство любого летательного аппарата представляет собой компромисс между стабильностью и маневренностью. Великий Джон Мейнард Смит, вернувшийся в университет преподавать зоологию после многих лет работы авиаконструктором (он говорил, что самолеты стали слишком шумными и давно устарели), указывал: летающие животные способны двигаться в эволюционном времени влево и вправо в спектре между стабильностью и маневренностью. При этом они иногда теряют стабильность и приобретают взамен маневренность, расплачиваясь за это необходимостью более сложного оснащения и больших вычислительных мощностей, то есть сложно устроенного мозга.
Первым изображен Anhanguera, птеродактиль, живший в меловом периоде на 60 миллионов лет позднее юрского рамфоринха. Как и у современных летучих мышей, у Anhanguera фактически не было хвоста. Как и летучая мышь, он был нестабильно летающим животным, которому приходилось использовать сложное оснащение и точные вычисления для жесткого постоянного контроля над полетом.
У Anhanguera, конечно же, не было никаких жужжалец. Для получения той же, в сущности, информации он пользовался другими органами, вероятнее всего полукруглыми канальцами внутреннего уха. У птерозавров они и вправду были очень велики, но (возражение в адрес Джона Мейнарда Смита) примерно одинаковы по размеру у рамфоринха и у Anhanguera. Однако вернемся к мухам. Профессор Прингл предполагал, что четырехкрылые предки мух имели длинное брюшко, которое обеспечивало им стабильность. Все четыре крыла в такой ситуации выполняли роль гироскопов. Затем, говорил он, предки мух начали смещаться вдоль спектра стабильности, становясь более маневренными и менее стабильными. Их брюшко укорачивалось. Задние крылья стали больше работать как гироскопы (в какой-то степени они делали это, еще будучи обычными крыльями), укоротились и потяжелели, в то время как размах передних крыльев увеличился, чтобы компенсировать уменьшение подъемной силы и летных качеств. Эти изменения происходили постепенно. Передние крылья брали на себя все бремя полета, в то время как задние уменьшались в размере, чтобы лучше справиться с авионикой.

Горбатка
Муравьи-рабочие утратили крылья, но не способность их отращивать. Глубоко внутри притаилась их “крылатая” история. Мы знаем это уже потому, что муравьиные царицы (и самцы) имеют крылья. Рабочие муравьи – это самки, которые не стали королевами по причинам, связанным с внешними факторами, а не с генами[87]87
Личинки муравьев, которые должны стать матками, питаются специальными выделениями желез на голове рабочих-нянь. Очень важно, что различие между маткой и рабочими определяется средой, а не генами. Почему – я подробно рассказал в “Эгоистичном гене”.
[Закрыть]. По всей видимости, муравьи-рабочие утратили крылья в процессе эволюции просто потому, что они мешают перемещаться под землей. Горьким подтверждением этого факта служит судьба цариц, которые пользуются крыльями только однажды, чтобы вылететь из материнского гнезда, найти самца, спариться и начать копать нору для нового гнезда. Первое, с чего они начинают жизнь под землей – избавляются от крыльев. Иногда они их просто отгрызают: болезненное (кто знает?) свидетельство того, что под землей крылья мешают. Неудивительно, что муравьи рабочие просто не обзаводятся ими.

Еще один представитель семейства горбаток
Вероятно, поэтому же гнезда муравьев и термитов служат домом целой армии бескрылых паразитов, пирующих на оброненных кусочках съестного, которые подносятся неутомимыми фуражирами. Им крылья мешают в той же степени, что и муравьям. Кто поверит, что чудовище, изображенное вверху – муха? Однако это действительно муха из семейства горбаток. На этой странице показан чуть более привычный представитель того же семейства, напоминающий, по всей видимости, предков этого странного бескрылого существа, также паразитирующий на общественных насекомых – в данном случае на пчелах. Заметили сходство их серповидных голов? Все, что осталось от крыльев у первой мушки – это небольшие треугольнички по бокам.

Жук, маскирующийся под муравья
В забегаловке, которую представляют собой гнезда термитов и муравьев, посетители – как полноправные рабочие, так и незваные проныры – спешат отказаться от крыльев еще и по другой причине. Многие паразиты (рассмотренные нами мухи к ним не относятся) со временем в качестве защитной меры приобрели внешность, схожую с муравьиной. Так они могут одурачить и муравьев, и хищников, которые в противном случае имели бы возможность выбрать их из массы малосъедобных и хорошо защищенных муравьев. Кто, например, с первого взгляда поймет, что животное, изображенное на рисунке слева и живущее в муравейниках – не муравей, а жук? А откуда мы это знаем? По глубокому, детальному сходству с жуком, которое решительно перевешивает поверхностные признаки муравья. Поэтому же мы причисляем дельфина к млекопитающим, а не к рыбам. Во всем теле этого существа запечатлено его родство с жуком, кроме (как и у дельфинов) внешнего вида, который определяется отсутствием крыльев и муравьиным профилем.
Глаза и зрение
Как муравьи и их подземные попутчики теряют под землей крылья, так же многочисленные животные, обитающие в глубине пещер, почти или полностью утратили зрение и, как замечал еще Дарвин, более или менее ослепли. Для животных, обитающих только в самых темных частях пещер и не способных жить где-либо еще, используется термин “троглобионт”[88]88
А не троглодит – он не столь экстравагантен.
[Закрыть]. Среди троглобионтов – саламандры, рыбы, креветки, раки, многоножки, пауки, сверчки, многие другие животные. Часто они бесцветны, поскольку утратили пигменты, и слепы. У них, однако, как правило, имеются рудиментарные глаза, и мне бы хотелось обратить на это ваше внимание. Наличие рудиментарных глаз служит доказательством эволюции. Если пещерная саламандра живет в вечной тьме и глаза ей не нужны, то зачем Творцу понадобилось комплектовать это животное глазами, похожими на настоящие, но не работающими?
С другой стороны, эволюционистам также приходится объяснять потерю глаз в тех случаях, когда они больше не нужны. Почему бы не приберечь глаза, даже если сейчас от них нет пользы? Неужели никогда не пригодятся? Зачем вообще эти хлопоты с избавлением от глаз? Заметьте, кстати, как сложно уклониться от использования лексики, связанной с намерениями, замыслом и персонификацией. Строго говоря, мне не следовало даже пользоваться словом “хлопоты”, не так ли? Я должен был сказать вот что: “Почему для особи пещерной саламандры потеря глаз является преимуществом, позволяющим ей выжить и оставить потомство с большей вероятностью по сравнению с животными, которые сохраняют глаза, но не пользуются ими?”
Во-первых, пользование глазами точно не бесплатно. Помимо относительно скромной стоимости самого глаза, есть еще всегда открытая миру влажная глазница, в которой вращается прозрачное глазное яблоко. Раз она открыта миру, значит, открыта любым инфекциям. Следовательно, пещерная саламандра, которая “запечатает” свои глаза, имеет большие шансы выжить, чем особь, которая оставит глаза открытыми.
Есть и еще один способ ответить на этот вопрос, и, что немаловажно, тут не потребуется употреблять слова, указывающие на выгоду, замысел и персонификацию. Говоря о естественном отборе, мы думаем о редких благотворных мутациях, возникающих и закрепляемых. Большинство мутаций, однако, оказываются вредными, поскольку процесс случаен, а способов все испортить гораздо больше, чем улучшить[89]89
Это особенно верно для мутаций с выраженным эффектом. Представьте себе сложный механизм, например радиоприемник или компьютер. Макромутация – это как ударить его ногой или выбрать наугад провод, выдернуть его и включить в другое место. Возможно, механизм после этого и вправду станет лучше работать, но это вряд ли. Микромутация – это как подправить один резистор или чуть изменить форму колесика настройки. Чем меньше мутация, тем ближе к 50 % вероятность успеха.
[Закрыть]. Вредные мутации быстро устраняются естественным отбором. Особи, их несущие, с большей вероятностью погибнут, не успев размножиться. Это устранит из генофонда вредную мутацию. Геном любого растения и животного постоянно подвергается бомбардировке вредными мутациями. Это своего рода проверка на износостойкость. В сущности, геном похож на лунную поверхность, испещренную кратерами от падения метеоритов. За редкими исключениями, любая мародерствующая мутация, которая нападает на ген, связанный, например, с глазом, делает орган чуть менее функциональным и в целом чуть менее достойным называться “глазом”. В популяциях животных, обитающих на свету и пользующихся зрением, такие мутации быстро выводятся из генофонда естественным отбором.
Однако в полной темноте мутации, повреждающие гены, ответственные за зрение, никак не “наказываются”: все равно ничего не видно. Глаз пещерной саламандры подобен луне, испещренной кратерами, которые никогда не сглаживаются. Глаз же обычной саламандры подобен Земле, которая бомбардируется мутациями с той же частотой, что и глаз пещерной саламандры, но мутации (кратеры) сглаживаются естественным отбором (эрозией). Естественно, в этой истории действует еще и позитивный отбор. Он стимулирует рост защитной оболочки поверх уязвимых глазниц с постепенно вырождающимися глазами.
Среди наиболее интересных “реликвий” попадаются признаки, которые так или иначе используются (а значит, не являются рудиментарными), но для выполнения своей функции спроектированы довольно-таки нелепо. Возьмем наилучший вариант глаза позвоночного – например, глаз ястреба или глаз человека. Это невероятно точный инструмент, способный выдавать разрешение не хуже, а даже лучше, чем цейсовский или никоновский объектив. Заметим, что если бы наш глаз не отличался такой точностью, то “Цейс” и “Никон” напрасно тратили бы время. С другой стороны, знаменитый немецкий ученый Герман фон Гельмгольц (физик; хотя его вклад в биологию и психологию крупнее) говорил: “Если бы оптик попытался мне продать прибор, имеющий вышеназванные недостатки, то я абсолютно справедливо подумал бы, что он халатно относится к своей работе, и с протестом вернул бы прибор”. Одна из причин, по которой глаз все же не так плох, такова: мозг успешно обрабатывает получаемые изображения, как сверхсложный самонастраивающийся “Фотошоп”. Что касается оптических свойств, то человеческий глаз достигает максимального разрешения только в окрестностях ямки, центральной части сетчатки, которой мы пользуемся при чтении. Когда мы рассматриваем картину, мы передвигаем ямку так, чтобы изучить детали, а “Фотошоп” в нашем мозге обманывает нас, показывая картину целиком. Хороший объектив, напротив, действительно показывает всю картину с практически одинаковой ясностью.
Итак, там, где глазу не хватает возможностей оптики, в игру вступает мозг со своими сложными программами обработки изображений. Но, между прочим, я до сих пор не упомянул о главном несовершенстве глазной оптики. Сетчатка расположена наоборот.
Представим себе Гельмгольца, которому принесли современную цифровую фотокамеру, имеющую тонкий экран из фоточувствительных клеток, улавливающих изображения, попадающие точно на поверхность экрана. Разумно? И, естественно, каждая фоточувствительная клетка будет соединяться с вычислительным центром, в котором происходит обработка информации. Такую машинку Гельмгольц бы оставил себе.
А теперь вообразим, что фоточувствительные клетки расположены задом наперед, то есть развернуты от картины, на которую смотрит глаз. “Провода”, соединяющие чувствительные клетки с центром переработки информации, идут по всей поверхности сетчатки, так что световые лучи должны вначале пройти через плотный ковер проводов и только затем попасть на фоточувствительный элемент. Ни малейшего смысла! Но на самом деле все еще хуже. Поскольку фоточувствительные клетки расположены задом наперед, провода, которые передают информацию, должны каким-то образом пройти сквозь сетчатку в мозг. В глазу позвоночных они собираются в одном месте и там проходят через сетчатку. Это отверстие, заполненное нервами, называется слепым пятном. Оно довольно большое, но не доставляет нам неудобств – снова благодаря встроенному графическому редактору. Куда это годится? К черту такой прибор! Он не просто дурен. Это произведение полного идиота.

Человеческий глаз. Справа: фоторецепторы
Или нет? Будь это так, глаз видел бы плохо. Однако он видит превосходно. А все потому, что после совершения большой ошибки, то есть установки сетчатки задом наперед, за дело взялся естественный отбор, который путем множества мелких дополнений и усовершенствований превратил глаз в высококачественный оптический прибор. Мне это напоминает историю орбитального телескопа “Хаббл”. Вы, возможно, помните, что в 1990 году при его запуске обнаружился серьезный конструктивный изъян. Из-за пропущенной ошибки калибратора в процессе полировки главное зеркало существенно деформировалось. Телескоп был выведен на орбиту, и только тогда обнаружился дефект. И было принято непростое и смелое решение: к телескопу отправились космонавты, и им удалось установить на него нечто наподобие гигантских очков. После этого телескоп работал превосходно, а качество изображений в дальнейшем улучшалось небольшими изменениями, которые внесли три последующих ремонтных группы. Подчеркиваю: существенная, даже катастрофическая ошибка проекта может быть исправлена дополнениями, хитроумие и тонкость которых могут идеально компенсировать изъяны. Как правило, крупные мутации, даже вносящие улучшения в нужном направлении, требуют последующих исправлений и дополнений – “генеральная уборка”, производимая множеством мелких мутаций, которые отбираются, сглаживая острые углы, оставленные начальной кардинальной мутацией. Вот почему, несмотря на грубейшие упущения в конструкции, у людей и ястребов превосходное зрение. Но вернемся к Гельмольцу:
Глаз имеет все мыслимые дефекты, которые можно обнаружить в оптическом инструменте, и даже некоторые, характерные только для него; однако они настолько хорошо уравновешены, что неточность изображения, ими вызываемая, в условиях нормальной освещенности практически не выходит за пределы чувствительности глаза, установленные размером колбочек сетчатки. В других условиях, однако, мы начинаем замечать хроматические аберрации, астигматизм, слепые пятна, венозные тени, непрозрачность внутренней среды и прочие упомянутые мной дефекты.
Неразумный дизайн
Будь у нас проектировщик, мы вряд ли увидели бы эту цепь ошибок проектирования, кое-как исправленных. В этом случае вполне возможны случайные ошибки, как, например, не предусмотренная проектом сферическая аберрация зеркала телескопа “Хаббл”, но не такая явная глупость, как сетчатка, приделанная задом наперед. Такие просчеты не случаются даже в самых неудачных проектах. Они могут сложиться только исторически.
Мой любимый пример “глупостей” такого рода, подсказанный моим преподавателем профессором Джон Д. Карри, – возвратный гортанный нерв[90]90
Этот же пример предпочитает мой коллега Джерри Койн. В книге “Почему эволюция истинна”, которую я настоятельно рекомендую прочитать, он подробно разобран.
[Закрыть]. Это ветвь одного из черепных нервов, идущих непосредственно от головного мозга. Один из них, имеющий очень подходящее название “блуждающий”, разделяется на несколько ветвей, две из которых идут к сердцу, а еще две – к гортани, голосовому аппарату млекопитающих. С каждой стороны шеи к гортани подходит одна из ветвей блуждающего нерва, как и задумал бы любой разумный дизайнер. Но другая идет к гортани удивительным путем: ныряет в грудную клетку, обходит крупную артерию (точнее, две артерии слева и справа, но маршрут нервов с обеих сторон остается принципиально сходным) и только потом возвращается в шею, к гортани.
Если относиться к телу как к проекту, то возвратный гортанный нерв – настоящий позор проектировщика. Гельмгольц нашел бы куда больше поводов его отвергнуть, чем в отношении глаза. Однако положение возвратного гортанного нерва, как и глаза, становится понятным и естественным, если забыть о проектировщике и задуматься об истории. Для этого нам придется вернуться в эпоху, когда наши предки были рыбами. У рыб двухкамерное сердце, в отличие от нашего четырехкамерного. Оно посылает кровь в большую центральную артерию под названием “брюшная аорта”. Затем кровь поступает к жабрам, где насыщается кислородом. Брюшная аорта перед жабрами делится на шесть пар сосудов, ведущих к шести отделам жабр с каждого бока. На выходе из жабр кровь собирается в другие шесть пар сосудов, которые соединяются в спинную артерию. Оттуда кровь поступает к органам тела. Шесть пар жаберных артерий – наследие сегментации тела позвоночных, которая куда более очевидна в строении тела рыб, чем человека. Удивительно, что и у людей она также видна, но лишь на стадии эмбриона, когда можно по деталям строения различить жаберные дуги – очевидное наследие предков. Они, конечно, не действуют, но пятинедельный эмбрион вполне можно считать маленькой розовой рыбкой. Я не перестаю удивляться, почему дельфины, киты, дюгони и ламантины снова не обзавелись функционирующими жабрами. У них, как и у всех млекопитающих, имеется хороший эмбриональный задел, который, казалось бы, упрощает задачу. Однако они этого не сделали. Этому, конечно, должна быть причина, известная какому-либо зоологу (или, если не причина, то хотя бы способ ее найти).
Тело всех позвоночных имеет сегментированный план строения, но у взрослых млекопитающих, в отличие от эмбриона, эта сегментированность очевидна только в спинном отделе, в котором позвоночник, ребра, кровеносные сосуды, мышечные сегменты (миотомы) и нервы образуют следующие друг за другом модули. Каждый отдел позвоночного столба снабжен двумя большими нервами, отходящими по сторонам спинного мозга (так называемые передний и задний корешки). Основные функции этих нервов сосредоточены вблизи позвоночника, но некоторые из них дотягиваются до ног или рук.
Голова и шея также организованы посегментно, но их трудно различить даже у рыб, потому что, в отличие от аккуратно выстроенного ряда позвоночных сегментов, за время эволюции они перемешались. Обнаружение следов сегментации головы – один из триумфов сравнительной анатомии и эмбриологии XIX–XX веков. Например, первая жаберная дуга бесчелюстных рыб, таких как миноги (и эмбрионов челюстных позвоночных), точно соответствует челюстям у челюстноротых позвоночных (то есть всех современных позвоночных, кроме миног и миксин).
Тело насекомых и других членистоногих животных, например, ракообразных, о которых мы говорили в главе 10, также сегментировано. И опять-таки триумфально звучало доказательство того, что голова любого насекомого состоит из шести сегментов (конечно, перемешанных), которые у отдаленных предков были организованы, как остальные части тела, в виде модулей. Триумфом эмбриологии и генетики конца XX века стало доказательство того, что сегментная организация насекомых и позвоночных далеко не независима, как меня когда-то учили: она строится под управлением сходных наборов генов (Hox-генов), а эти гены у насекомых и позвоночных (и других животных) на хромосомах даже расположены сходным образом. Никто из моих преподавателей, рассказывавших о физиологии насекомых и позвоночных, и не помышлял об этом! Оказалось, что такие разные животные, как позвоночные и насекомые, значительно ближе друг к другу, чем мы думали. И причина этого, конечно, – общие предки. План, заложенный в Hox-генах, был намечен еще в общем предке всех животных с двусторонней симметрией. И все они оказались куда более близкими родственниками, чем можно было представить.
Возвратимся к голове позвоночных. Черепные нервы считаются хорошо замаскированными потомками сегментных, с которых у наших примитивных предков начиналась череда передних и задних корешков спинного мозга, подобных тем, что растут из нашего позвоночника. А основные кровеносные сосуды нашей грудной клетки – это реликты когда-то отчетливо сегментированной системы кровеносных сосудов, питающих жабры. Можно сказать, что в грудной клетке млекопитающих смешалась сегментированная жаберная система предков-рыб так же, как в голове рыбы перепутаны сегменты еще более далеких позвоночных предков.
Кровеносная система человеческого эмбриона также обслуживает “жабры”, очень похожие на рыбьи. Она включает две брюшные аорты, по одной с каждой стороны, дуги аорты (посегментно, по одной на каждую “жабру” с каждой стороны), которые соединяются с парными спинными аортами. Большая часть этой реликтовой кровеносной системы исчезает к концу эмбрионального развития, однако видно, что кровеносная система взрослых происходит от эмбриональной. Кровеносная система эмбриона на 26 день подает кровь к “жабрам” точно так же, как у рыб. Далее кровеносная система утрачивает сегментацию и исходную симметрию, а к моменту рождения кровеносная система уже обладает ярко выраженной левосторонней асимметрией, совсем не похожей на стройную симметрию эмбриона-рыбки.

Жаберные дуги человеческого эмбриона
Не будем углубляться в то, наследием каких шести жаберных артерий являются наши грудные артерии. Все, что нам нужно для понимания истории возвратного гортанного нерва, – что у рыб блуждающий нерв посылает ветви к трем задним жабрам, и для них вполне естественно проходить под соответствующими жаберными артериями. У этих нервов нет никакой возвратности, они идут к своим органам-целям кратчайшим и самым естественным путем.
Однако в ходе эволюции млекопитающие обзавелись шеей (у рыб она отсутствует) и расстались с жабрами, которые частично превратились в такие полезные органы, как щитовидная, паращитовидная железы и другие составляющие гортани. Все эти детали снабжались кровью и соединялись нервами, которые в прошлом обслуживали жабры. По мере того как предки млекопитающих, эволюционируя, удалялись от рыб, нервы и кровеносные сосуды вытягивались и удлинялись в самых неожиданных направлениях, что изменило их первоначальное расположение. Грудная клетка и шея высших позвоночных превратились в мешанину, мало напоминающую симметричное упорядоченно сериальное строение рыбьих жабр. И возвратные нервы гортани – составная часть, более чем просто несуразная, этого искажения.

Гортанный нерв у жирафа и акулы
На рисунке из учебника Берри и Холлема 1986 года видно, что у акулы возвратность гортанного нерва отсутствует. В качестве иллюстрации этого долгого вояжа у млекопитающих они выбрали… жирафа.
У людей лишний путь возвратного нерва не превышает десяти сантиметров. Для жирафа же это нешуточное (измеряется метрами) дело: у взрослого животного нерв бежит лишних четыре метра. В 2009 году, назавтра после празднования Дня Дарвина (двухсотая годовщина со дня его рождения), группа анатомов и ветеринаров из лондонского Королевского ветеринарного колледжа пригласила меня принять участие во вскрытии трупа молодого жирафа, погибшего в зоопарке. Это было очень похоже на театр, в котором сцена отделялась стеклянной стеной от зала. Целый день студенты (очень необычно для студентов), а также я сам и съемочная группа Четвертого канала наблюдали за операцией, ход которой анатомы комментировали в микрофон. Тело жирафа лежало на большом секционном столе, одна нога была поднята специальной растяжкой, а огромная шея – ярко освещена. Все участники представления, находящиеся около жирафа, надели оранжевые комбинезоны и белые тапочки. Это подчеркнуло фантастичность сцены.
В доказательство длины обходного пути гортанного нерва замечу, что анатомы, работавшие над разными его участками – около головы, у обхода возле сердца, на остальных участках, – не мешали друг другу. Они не торопясь прошли вдоль всего возвратного нерва. Эта непростая задача не давалась никому со времен великого анатома Ричарда Оуэна, который решил ее в 1837 году. Сложность задачи связана еще и с тем, что нерв очень тонок, а на обходе вообще толщиной с нитку (я это знал, но, увидев, все-таки удивился), и его легко потерять в сплетении пленок и мышц, окружающих дыхательное горло. Спускаясь, нерв, упакованный на этом отрезке вместе с блуждающим, проходит в нескольких дюймах от гортани – конечного пункта маршрута. Тем не менее нерв спускается дальше, поворачивает и проделывает обратный путь. Меня впечатлило мастерство профессоров Грэма Митчелла, Джой Райденберг и других специалистов, проводивших вскрытие, а мое уважение к Оуэну, язвительному критику Дарвина, заметно выросло. Правда, креационист Оуэн упустил очевидное: любой разумный дизайнер отделил бы гортанный нерв, заменив несколькими сантиметрами путешествие в несколько метров.
Помимо бессмысленных затрат ресурсов на столь длинный нерв, я не могу не удивляться также тому, что у жирафа нет задержки вокализации, подобно тому, как бывает у корреспондента, передающего сообщение по спутниковому каналу. Один авторитет, правда, заявил, что “несмотря на хорошо развитую гортань и стадный образ жизни, жираф ограничивается мычанием и блеянием”. Жираф-заика? Интересно. Впрочем, я не настаиваю. Однако подчеркну важный факт, на который указывает пример жирафа: устройство живых существ далеко от рационального. А для эволюциониста важно задать вопрос: почему естественный отбор ведет себя иначе, чем грамотный инженер, который вернулся бы к изначальному проекту и привел его в соответствие с техзаданием? Этот вопрос звучал в этой главе, и я по-разному отвечал на него. Возвратный ход гортанного нерва позволяет дать еще один ответ. Он связан с тем, что в экономике называют предельными издержками.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































