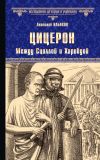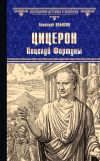Текст книги "Империй. Люструм. Диктатор"
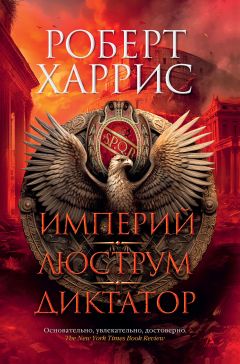
Автор книги: Роберт Харрис
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 73 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Бить его надо регулярно, – напутствовал он Цицерона, еще не успев представить ему сына. – Мальчишка неглупый, вот только непутевый и распущенный. Так что разрешаю стегать его сколько душе угодно.
Вид у Цицерона был озадаченный. За всю свою жизнь он не отстегал ни одного человека. Но, к счастью, впоследствии отлично поладил с молодым Целием, который оказался полной противоположностью отцу. Он был высок и хорош собою, а также полностью равнодушен к деньгам и денежным отношениям. Цицерон находил это забавным, я – не очень: многие докучные обязанности, от которых Целий увиливал всеми силами, как правило, приходилось выполнять мне. И все же, оглядываясь назад, я вынужден признать, что юноша отличался редкостным обаянием.
Не буду вдаваться в подробности преторства Цицерона, ведь я пишу не учебник по юриспруденции, и вам, должно быть, не терпится, чтобы я перешел к самому занятному – консульским выборам. Стоит сказать, что Цицерон имел славу честного и справедливого судьи, а знания и опыт позволяли ему легко справляться с работой. Если же Цицерон не мог распутать правовое хитросплетение и нуждался в мнении еще одного знающего человека, он обращался к Сервию Сульпицию, своему старому приятелю, с которым они вместе учились у Молона. А иной раз отправлялся к уважаемому всеми претору суда по выборным делам Аквилию Галлу, чей дом стоял на Виминальском холме. За время председательства Цицерона самым крупным оказалось дело Гая Лициния Мацера, родственника и сторонника Красса. Речь шла о его отрешении от должности наместника Македонии за злоупотребления. Слушания продолжались несколько недель, и Цицерон вынес вполне справедливое решение, но однажды не смог удержаться от шутки. Обвинение строилось на том, что Мацер получил полмиллиона в виде незаконных выплат. Поначалу тот отрицал это. Тогда были представлены доказательства того, что именно такую сумму уплатили ссудной компании, которая находилась под его управлением. Мацер тут же изменил свои показания и заявил, что действительно помнит эти выплаты, но думал, что они вполне законны.
– Что ж, вполне возможно, – сказал Цицерон присяжным, знакомя их с уликами, – вполне возможно, что обвиняемый так и думал. – Он погрузился в молчание, достаточно долгое для того, чтобы некоторые захихикали, а потом напустил на себя преувеличенную серьезность. – Нет-нет, в самом деле, он мог так считать. И в подобном случае, – (тут снова повисла пауза), – все побуждает заключить: этот человек слишком глуп для того, чтобы быть римским наместником.
Я много раз бывал в самых разных судах, и громоподобный смех стал верным признаком того, что Цицерон доказал вину сего мужа убедительнее самого искусного обвинителя. Беда Мацера заключалась вовсе не в том, что он был дураком. Наоборот, он был очень умен, настолько, что считал всех вокруг дураками. Пока присяжные голосовали, он, не ощущая угрозы, отправился домой, чтобы сменить одежду и подстричься, поскольку вечером надеялся отпраздновать победу. В отсутствие Мацера присяжные признали его виновным; и тот уже выходил из дома, чтобы вернуться в суд, когда Красс перехватил его на пороге и рассказал о случившемся. Одни утверждают, что он упал замертво, сраженный этой вестью. Другие – что он вернулся в дом и лишил себя жизни, дабы его сын не изведал унижения в связи со ссылкой отца. Как бы то ни было, дело завершилось его смертью, и у Красса появилась новая причина люто ненавидеть Цицерона, словно для этого недоставало иных причин.
Аполлоновы игры, по обычаю, давали начало сезону выборов, хотя, честно говоря, в те времена казалось, что ему нет конца. Едва завершались одни, как кандидаты начинали готовиться к следующим. По этому поводу Цицерон шутил, что управление государством – это просто времяпровождение между выборами. Именно это, должно быть, и сгубило республику: она объелась выборами до смерти. Как бы то ни было, устройство общественных увеселений в честь Аполлона входило в обязанности городского претора, а им в тот год был Антоний Гибрида.
Римляне не ожидали ничего особенного, а вернее, не ожидали вовсе ничего – было известно, что все свои деньги Гибрида пропил и проиграл. И потому все едва не онемели от неожиданности, когда он устроил не только великолепные театральные постановки, но и пышные представления в Большом цирке: гонки на колесницах с двенадцатью заездами, атлетические состязания и охоту на диких зверей с участием пантер и всевозможных диковинных тварей. Сам я не был там, но Цицерон, вернувшись домой, рассказал мне обо всем в мельчайших подробностях. Он только и говорил что об этих празднествах. Улегшись на одну из лежанок в пустом триклинии – Теренция с Туллией были за городом, – Цицерон в красках описал увиденное им. Там были колесничие, почти полностью обнаженные атлеты – кулачные бойцы, борцы, бегуны, метатели копья и дискоболы, – флейтисты, лирники, танцоры, одетые вакханками и сатирами, курители фимиама, предназначенные к закланию быки и козы с позолоченными рогами, дикие животные в клетках, гладиаторы… Казалось, голова у него все еще идет кругом.
– Во сколько же все это обошлось? Я не перестаю задаваться этим вопросом. Гибрида, должно быть, рассчитывает вернуть издержки, когда поедет в свою провинцию. Слышал бы ты, как громогласно его приветствовали при появлении и уходе! Видно, я чего-то не понимаю, Тирон. Что ж, сколь невероятным это ни казалось, нам следует дополнить список. Пойдем же.
Мы вместе пошли в комнату для занятий, где я открыл сундук и вынул все записи относительно участия Цицерона в консульских выборах. Там было немало тайных списков – существующих сторонников, тех, кого следовало перетянуть на свою сторону, жертвователей, городов, местностей, с указанием на то, насколько горячо в них поддерживают Цицерона. Важнейшим, однако, был перечень вероятных противников. К именам прилагались сведения о каждом – как положительного, так и отрицательного свойства. Возглавлял список Гальба, за ним следовал Галл, затем Корнифиций и, наконец, Паликан. Цицерон взял у меня стилус и своим мелким и аккуратным почерком вписал пятого – того, чье имя он сам ожидал увидеть меньше всего: Антоний Гибрида.
Несколько дней спустя случилось то, что оказало сильнейшее воздействие на судьбу Цицерона и будущее государства, хотя вряд ли он тогда мог догадываться об этом. Нечто вроде крохотной оспины, которую человек обнаруживает у себя однажды утром, не придавая ей большого значения, – и за несколько месяцев та разрастается в гигантскую опухоль. В нашем случае оспиной стало послание, пришедшее нежданно, словно гром среди ясного неба: Цицерона вызывали к верховному понтифику Метеллу Пию. Моего хозяина снедало любопытство – Пий, уже очень старый (ему было не менее шестидесяти четырех лет) и полный достоинства, ранее никогда не снисходил до беседы с ним и уж тем более не звал к себе в гости. Конечно же, мы немедленно пустились в путь, следуя за ликторами, которые расчищали нам дорогу.
В те времена предстоятель обитал на Священной дороге, близ Дома весталок, и я помню, как польщен был Цицерон тем, что его видели входящим в эти покои. Ибо здесь действительно билось священное сердце Рима, и немногим выпадала возможность переступить этот порог. Нас подвели к лестнице, и мы вместе с провожатым пошли по галерее, с которой открывался вид на сад Дома весталок. В душе я таил надежду на то, что хоть краем глаза смогу взглянуть на одну из этих таинственных дев, одетых в белое, но сад был пуст, а замедлить ход мы не могли, поскольку в конце галереи уже стоял Пий. Он ждал нас, от нетерпения притопывая ногой, по бокам от него стояли двое жрецов. Всю жизнь он был солдатом, и это сказалось на его облике: Пий напоминал грубое и потертое изделие из кожи, которое долгие годы болталось под открытым небом и лишь недавно оказалось в доме. Ни рукопожатия, ни приглашения присесть. Пий с ходу выпалил своим скрипучим голосом:
– Претор, мне нужно поговорить с тобой о Сергии Катилине.
При одном упоминании этого имени Цицерон оцепенел: именно Катилина замучил до смерти его дальнего родственника Гратидиана, государственного мужа, искавшего расположения у народа. Мучитель перебил несчастному конечности, вырвал глаза и язык. Безумная ярость пронзала мозг Катилины внезапно, словно молния. Он мог быть обаятельным, учтивым и дружелюбным. Но стоило кому-нибудь обронить в беседе замечание, внешне совершенно безобидное, или бросить на него будто бы неуважительный взгляд, как Катилина терял самообладание. Во времена Суллановых проскрипций, когда списки лиц, подлежащих смерти, оглашались на форуме, Катилина считался одним из самых искусных убийц. Действовал он молотом и ножом – «ударными орудиями», как их называли, – и сколотил немалое состояние за счет имущества казненных.
В числе тех, кого он замучил, оказался даже его собственный шурин. И все же ему невозможно было отказать в обаянии: на одного человека, содрогавшегося от его кровожадности, приходились двое-трое очарованных его щедростью, не менее безоглядной. Отличался он и плотской невоздержанностью. Семью годами ранее его обвинили в связи с девой-весталкой – ею, кстати, была Фабия, сводная сестра Теренции. За такое преступление полагалась смерть – не только ему, но и ей. И если бы вина Катилины была доказана, Фабию ожидала бы обычная казнь за нарушение священного обета чистоты, – погребение заживо в крохотной каморке близ Коллинских ворот, предназначенной для этой цели. Но вокруг Катилины сплотились аристократы под предводительством Катула. Они добились для него оправдания, и он продолжил государственную деятельность, не понеся особого ущерба. В год, что предшествовал минувшему, он был претором, а затем уехал править Африкой, избежав всех этих страстей вокруг Габиниева закона. Ко времени описываемых событий он только что вернулся оттуда.
– Правителей Африки, – продолжил Пий, – давала в основном моя семья, с тех пор как полвека назад эта провинция оказалась во власти моего отца. Ее жители искали защиты у меня, и должен сказать тебе, претор, что никто не притеснял их так, как Сергий Катилина. Он ограбил провинцию до нитки, обирая и казня ее обитателей, насилуя их жен и дочерей, расхищая богатства храмов. Ах, этот Сергий! – вскричал Пий, с отвращением сплюнув на пол большой сгусток желтой слюны. – Похваляется, что произошел от троянцев. И ни одного порядочного человека среди предков за двести с лишним лет! А недавно мне доложили, что ты – тот самый претор, который должен привлечь этого мерзавца к ответу. – Он смерил Цицерона взглядом с головы до ног. – Любопытно на тебя взглянуть! Не разберу, что ты за человек, но тем не менее… Так что же ты намерен сделать?
На попытки оскорбить его Цицерон всегда отвечал хладнокровием. И теперь он просто спросил:
– Африканцы подготовили дело?
– Подготовили. Их посланники уже в Риме, подыскивают подходящего обвинителя. К кому им обратиться?
– Вряд ли стоит спрашивать об этом меня. Председательствуя на суде, я должен хранить беспристрастность.
– Чушь! Оставь эту судейскую болтовню. Поговорим начистоту. Как мужчина с мужчиной. – Пий поманил Цицерона, приглашая придвинуться. Почти все свои зубы он оставил на полях сражений, а потому, когда заговорил шепотом, слова вылетели из его щербатого рта с громким присвистом: – О нынешних судах тебе известно больше, чем мне. Так кто бы мог справиться с этим делом?
– Если говорить откровенно, дело не обещает быть легким, – сказал Цицерон. – Жестокость Катилины общеизвестна. Лишь отважному мужу по силам выдвинуть обвинения против этого кровавого убийцы. К тому же, насколько можно предположить, в следующем году он будет избираться в консулы. Ты имеешь дело с действительно опасным врагом.
– В консулы? – Пий с размаху ударил кулаком себя в грудь. При этом ухнуло так, что сопровождавшие его жрецы от страха подпрыгнули на месте. – Сергию Катилине консулом не бывать – ни в следующем году, ни в каком другом. Не бывать, пока в этом старом теле теплится жизнь! Должен же найтись в этом городе тот, в ком достанет мужества привлечь его к суду. А если нет, то что ж… Я еще не так стар и глуп, чтобы забыть правила, по которым в Риме ведутся бои. А ты, претор, – заключил он, – на всякий случай оставь в своем расписании достаточно времени для слушаний по этому делу.
С этими словами верховный понтифик зашаркал прочь по коридору, бубня что-то себе под нос. Следом за ним зашагали благочестивые помощники.
Цицерон нахмурился, глядя вслед ему, и покачал головой. Я же не в силах был как следует разобраться в этих хитросплетениях, хоть и провел у него на службе тринадцать лет. Мне было невдомек, почему разговор так сильно встревожил его. Но хозяин мой явно испытал потрясение, и, как только мы вновь оказались на Священной дороге, он оттащил меня в сторону, подальше от ушей ближнего ликтора, и заговорил:
– Дело принимает серьезный оборот. Мне следовало быть готовым к этому.
Когда я спросил, какая ему разница – привлекут Катилину к суду или нет, он дрогнувшим голосом ответил:
– Пойми, глупец, закон не позволяет идти на выборы тому, против кого выдвинуты обвинения. Это означает, что если африканцам удастся найти себе защитника и обвинения против Катилины все же будут выдвинуты, а дело, допустим, затянется до следующего лета, ему не позволят притязать на консульство, пока разбирательство не будет завершено. А это означает, что если, паче чаяния, он будет оправдан, мне придется тягаться с ним в мой год.
Сомневаюсь, что в Риме был другой сенатор, способный заглядывать в будущее столь далеко и усмотреть повод для беспокойства в ворохе всевозможных «если». Действительно, когда он рассказал о своих тревогах Квинту, брат со смехом отмахнулся:
– А если бы в тебя ударила молния, Марк? И если бы Метелл Пий смог припомнить, в какой день недели это случилось?..
Однако ничто не могло успокоить Цицерона, и он негласно начал наводить справки, сопутствует ли африканцам успех в поисках достойного защитника. Впрочем, как он и предполагал, задача оказалась не из легких, хотя они собрали великое множество свидетельств преступлений Катилины, а Пий добился принятия сенатом постановления, осуждавшего бесчинства бывшего наместника. Никто не решался выступить против столь грозного противника: был риск, что в одну прекрасную ночь тебя найдут в Тибре, плывущим лицом вниз. На какое-то время обвинения повисли в воздухе, и Цицерон поместил это дело на задворки своего разума. К сожалению, передышка оказалась непродолжительной.
XIV
Под конец преторства Цицерону следовало отправиться за границу, чтобы в течение года управлять одной из провинций. В республике это было обычным делом. Государственный муж получал возможность набраться опыта по части управления, а заодно и пополнить личные средства, истощившиеся после подготовки к выборам. Потом он возвращался домой, оценивал настроения в обществе и, если все складывалось хорошо, тем же летом выдвигался в консулы. К примеру, Антоний Гибрида, которому Аполлоновы игры явно обошлись очень недешево, отправился в Каппадокию, стремясь поживиться чем только можно. Но Цицерон не пошел этим путем, отказавшись от права хозяйничать в провинции. Ему не хотелось стать жертвой непомерных обвинений, когда за тобой несколько месяцев неотступно ходит особый обвинитель. Кроме того, ему вполне хватило годового пребывания на Сицилии. С тех пор Цицерон боялся покидать Рим, а если уезжал, то лишь на неделю-другую. Трудно представить себе человека, который любил бы городскую жизнь больше Цицерона. Он черпал силы в суматохе улиц и площадей, шуме сената и форума. И какие бы выгоды ни сулила провинциальная жизнь, он совершенно не желал провести год в смертельной скуке, будь то на Сицилии или в Македонии.
К тому же у него стала забирать много времени защитническая практика. Первым его подопечным стал Гай Корнелий, бывший трибун Помпея, которого аристократы обвинили в измене. Не менее пяти видных сенаторов-патрициев – Гортензий, Катул, Лепид, Марк Лукулл и даже старикашка Метелл Пий – ополчились на Корнелия за содействие в принятии Помпеева закона, обвинив его в противозаконном нарушении вето, наложенного коллегой-трибуном. Я был убежден, что под таким натиском ему остается только отправиться в ссылку. Корнелий и сам так думал. Он даже стал паковать домашнюю утварь, готовясь к отъезду. Но, видя на противоположной стороне Гортензия и Катула, Цицерон преисполнился непреклонной решимости. В завершающей речи он был просто неотразим.
– Им ли поучать нас? – спросил он. – Действительно ли об исконных правах трибунов должны рассказывать нам пятеро высокородных мужей, каждый из которых поддержал закон Суллы, отменивший именно эти права? Выступил ли хоть один из этих блистательных мужей в поддержку храбрейшего Гнея Помпея, когда тот, став консулом, первым делом восстановил принадлежавшее трибунам право вето? Спросите себя, наконец: действительно ли движет ими вновь проснувшаяся озабоченность обычаями трибунов, действительно ли она оторвала их от рыбных заводей и собственных портиков, заставив явиться в суд? Или же дело в иных «обычаях», гораздо более близких их сердцу, – себялюбии и жажде мести?
Он произнес еще многое в том же духе, и, когда наконец закончил, все пятеро высокопоставленных истцов (севших в ряд, что было ошибкой) словно уменьшились в размерах, особенно Пий, который явно не поспевал за происходящим. Приставив ладонь к уху, он беспокойно ерзал на месте, в то время как его мучитель расхаживал по площадке, где вершился суд. То было одно из последних появлений старого воина на публике, прежде чем он стал угасать от тяжелой болезни. После того как судьи проголосовали за снятие с Корнелия всех обвинений, Пий под шиканье и издевательский смех удалился из суда с выражением старческого недоумения на лице – тем самым, которое, боюсь, все более свойственно и мне самому.
– Что ж, – с немалым удовлетворением произнес Цицерон, когда и мы собрались идти домой, – теперь-то, во всяком случае, он знает, каков я.
Не стану перечислять всех дел, за которые брался Цицерон, – они исчисляются десятками. Таким был избранный им способ действий – обязать как можно больше влиятельных лиц оказывать ему поддержку на консульских выборах и сделать свое имя хорошо известным среди избирателей. Несомненно, он очень тщательно отбирал клиентов. По меньшей мере четверо были сенаторами: Фунданий, заведовавший крупным объединением голосующих, Орхивий, тоже претор, Галл, намеревавшийся избираться в преторы, и Муций Орестин, обвиненный в ограблении, но тем не менее надеявшийся стать трибуном. Дело Муция было сложным, и Цицерону пришлось уделить ему много дней.
Наверное, ни один еще кандидат не подходил так к выборам – как к деловому предприятию. Для обсуждения подготовки к ним Цицерон каждую неделю созывал собрание в своей комнате для занятий. Одни приходили, другие уходили, но узкий круг оставался прежним. В него входили пять человек: сам Цицерон, Квинт, Фруги, я и Целий – ученик Цицерона, постигавший премудрости правоведения. Несмотря на юный возраст (а может быть, и благодаря ему), он не знал себе равных в собирании слухов по всему городу. Подготовкой снова руководил Квинт, настоявший на своем праве вести эти собрания. Квинт не упускал случая намекнуть – то снисходительно усмехаясь, то приподнимая бровь, – что Цицерон, несмотря на чрезвычайную одаренность, был склонен к умствованиям и витал в облаках: чтобы устоять на земле, он не мог обойтись без здравого смысла, присущего его брату. Цицерон подыгрывал Квинту, довольно умело изображая согласие.
Два брата, посвятившие себя государственной деятельности, – чем не тема? Занятное могло бы получиться исследование, если бы мне было отпущено достаточно времени. Кто не помнит Гракхов – Тиберия и Гая, боровшихся за улучшение жизни бедняков и в итоге погибших ужасной смертью? В мое же время консулами поочередно были патриции Марк и Луций Лукуллы, а также множество других братьев из семейств Метеллов и Марцеллов.
В делах общественных дружба преходяща, а союзы заключаются лишь для того, чтобы через какое-то время быть расторгнутыми. И тут, должно быть, много сил придает сознание того, что, как бы ни сложились обстоятельства, имя твое всегда неразрывно будет связано с именем другого человека. Отношения между двумя Цицеронами – как, полагаю, и отношения между любыми братьями – представляли собой сложное сочетание любви и неприязни, зависти и верности. Без Цицерона Квинту наверняка была бы уготована бесцветная жизнь центуриона, а затем столь же бесцветная жизнь усердного земледельца в Арпине. Цицерону же и без Квинта суждено было стать Цицероном. Зная это и то, что брат все понимает, Цицерон, не жалея сил, ублажал его, заботливо укутывая в сверкающую мантию славы.
В ту зиму Квинт посвятил немало времени составлению руководства по соисканию выборной должности – сборника советов брату, которые он обожал приводить по памяти, словно речь шла о «Государстве» Платона.
«Помни, каков город, которого ты домогаешься, – говорилось в начале наставления, – и кто ты. Каждый день, идя на форум, повторяй: „Я новый человек. Я домогаюсь консульства. И это – Рим“».
Вспоминаются и иные назидания, притязавшие на глубокомыслие: «Кругом обман, ловушки и предательство. Всегда следуй словам Эпихарма[33]33
Эпихарм (VI–V вв. до н. э.) – древнегреческий философ и драматург, автор множества комедий, наполненных афористичными высказываниями.
[Закрыть]: „Не доверяй бездумно“, это основа мудрости… Позаботься о том, чтобы все видели, сколько у тебя самых разных друзей… Я очень желал бы, чтобы во всякое время ты непременно был окружен толпой. Если тебя попросят что-либо сделать, не отказывайся, даже если это тебе не под силу… Наконец, позаботься о том, чтобы твои выступления перед выборами были хорошо выстроенными, блестящими, доступными народу; и если можно это устроить, пускай громкие слухи о преступлениях, страстях и продажности твоих соперников».
Квинт очень гордился своим руководством и много лет спустя даже опубликовал его, к вящему ужасу Цицерона, считавшего, что умение вершить государственные дела, как и любое подлинное искусство, тем действеннее, чем лучше скрыты все его хитрости.
Весной Теренция праздновала свое тридцатилетие, и Цицерон устроил в ее честь ужин для близких друзей. Пришли Квинт с Помпонией, Фруги с родителями, а также вечно суетливый Сервий Сульпиций с женой Постумией, неожиданно оказавшейся хорошенькой. Должно быть, приходили и другие, но поток времени вымыл их имена из моей памяти. Надсмотрщик Эрос собрал на короткое время слуг, чтобы мы пожелали своей госпоже всего наилучшего, и я до сих пор помню свои размышления о том, что я никогда еще не видел Теренцию такой привлекательной и веселой. Ее темные волосы, короткие и кудрявые, блестели, глаза были на редкость ясными, и даже тело, всегда костлявое, казалось, стало полнее и мягче. Своими наблюдениями я поделился со служанкой, после того как хозяин и хозяйка повели гостей ужинать. Та огляделась по сторонам, желая удостовериться, что нас никто не подслушивает, и, соединив ладони, описала ими дугу вокруг своего живота. Поначалу до меня не дошел смысл этого, и она засмеялась моей непонятливости. Лишь когда служанка побежала обратно вверх по лестнице, я понял, как был глуп, – и не я один. Обычный муж давно заметил бы эти красноречивые перемены в жене, но Цицерон всегда вставал вместе с солнцем и ложился спать лишь с наступлением тьмы. Удивительно, что у него оставалось время на исполнение супружеских обязанностей. Как бы то ни было, когда ужин был в разгаре, послышался громкий крик удивления, сменившийся рукоплесканиями: Теренция воспользовалась торжественным случаем, чтобы объявить о своей беременности.
Позже в тот вечер Цицерон вошел в комнату для занятий, широко улыбаясь. На мои поздравления он ответил кивком.
– Она уверена, что будет мальчик. Должно быть, об этом ее оповестила богиня, дав особый знак, ведомый только женщинам. – Он потер руки в предвкушении, все еще не в силах согнать улыбку с лица. – Да будет тебе известно, Тирон, появление ребенка в год выборов будет как нельзя кстати. Это свидетельство того, что кандидат – мужчина в силе, а также примерный семьянин. Поговори с Квинтом о том, когда ребенок примет участие в подготовке к выборам. – Цицерон ткнул пальцем в сторону моей восковой таблички. – Да шучу я, шучу, глупец! – рассмеялся он, видя мое обескураженное лицо, и сделал вид, что хочет дернуть меня за ухо.
Неясно, впрочем, к кому относилось это слово – ко мне или к нему самому. Я до сих пор не знаю наверняка, шутил он или нет.
С той поры Теренция стала гораздо строже в отправлении религиозных обрядов и на следующий день после своего дня рождения заставила Цицерона сопровождать ее в храм Юноны на Капитолийском холме. Жрецу она передала барашка, благодаря богиню за свою беременность и свой счастливый брак. Цицерон охотно повиновался ей, поскольку был полон искренней радости по случаю предстоящего рождения еще одного ребенка, и к тому же он знал, как ценят избиратели прилюдную набожность.
Теперь же, к сожалению, я вынужден вернуться к нашему разраставшемуся нарыву – Сергию Катилине.
Через несколько недель после того, как Цицерона вызвал к себе Метелл Пий, состоялись консульские выборы. Но победители для достижения успеха настолько широко использовали подкуп, что итоги быстро объявили недействительными, и в октябре состоялось новое голосование. По этому случаю Катилина внес в списки соискателей свое имя. Но ему тут же преградил путь Пий – для старого солдата это был, наверное, последний бой. Сенат постановил, что избираться смогут лишь те, чьи имена значились в первоначальном списке. Это вызвало у Катилины очередной припадок бешенства, и он начал бродить по форуму вместе со своими друзьями-злодеями, бросаясь всевозможными угрозами. Сенат воспринял их вполне серьезно и решил дать консулам вооруженную охрану. Вряд ли стоит удивляться тому, что никто не брал на себя смелость выступить от имени африканцев в суде по вымогательствам. Я предложил Цицерону взять на себя это дело: такой шаг понравился бы народу. Низложил же он когда-то Верреса, став после этого самым известным защитником в мире. Однако Цицерон покачал головой:
– В сравнении с Катилиной Веррес был сущим котенком. К тому же Верреса никто особенно не любил, а у Катилины, несомненно, есть сторонники.
– Откуда же у него такая популярность? – спросил я.
– У опасных людей всегда есть последователи, но меня заботит другое. Если бы речь шла лишь об уличной толпе, это не было бы так страшно. Дело в том, что он пользуется широкой поддержкой аристократов – во всяком случае, Катула, а значит, по всей видимости, и Гортензия.
– Мне кажется, для Гортензия он слишком неотесан.
– Поверь, Гортензий знает, как использовать уличного драчуна, когда того требует случай. А Катилина к тому же из знатного рода – не забывай об этом. Народ и аристократия – сильное сочетание! Будем надеяться, что нынешним летом ему не дадут участвовать в консульских выборах. И я очень рад, что не мне выпала эта задача.
Я подумал: вот высказывание, способное убедить в существовании богов. В своих небесных сферах они забавляются, слыша такие самоуверенные слова, и немедля показывают свою мощь. А потому вряд ли стоит удивляться, что по прошествии краткого времени Целий Руф принес Цицерону тревожную весть. Целию к тому времени исполнилось семнадцать, и он стал, по выражению своего отца, просто неуправляемым. Юноша был высок и хорошо сложен – его вполне можно было принять за мужчину двадцати с лишним лет. Впечатление усиливали низкий голос и короткая бородка. Вечером, когда Цицерон уходил с головой в работу, а остальные ложились спать, юнец ускользал из дома и зачастую возвращался лишь с восходом солнца. Он знал, что у меня отложено немного денег на черный день, и постоянно докучал мне просьбами о мелких займах. Однажды, отказав ему в очередной раз, я возвратился в свою каморку и обнаружил, что он отыскал мой тайник и забрал оттуда все мои сбережения. Я провел ночь без сна, в тяжелых раздумьях, но, когда утром столкнулся нос к носу с юным мерзавцем и пригрозил ему рассказать обо всем Цицерону, из его глаз брызнули слезы, и он пообещал вернуть все сполна. Нужно воздать ему должное, он выполнил свое обещание, вернув взятое с солидной приваркой. А я сделал себе новый тайник и ни разу не обмолвился о нем.
Ночи напролет Целий таскался по городу, предаваясь пьянству и блуду в обществе беспутных молодых людей из знатных семейств. Одним из них был двадцатилетний Гай Курион, чей отец был консулом и одним из верных сторонников Верреса. Другим – племянник Гибриды Марк Антоний, которому, по моему разумению, было тогда лет восемнадцать. Но настоящим главарем шайки считался Клодий Пульхр, не в последнюю очередь потому, что, будучи самым старшим и богатым среди них, показывал другим такие примеры распутства, которых те и представить себе не могли. Ему было лет двадцать пять, из них восемь он служил в восточных легионах, умудряясь попадать во всевозможные переделки. Так, он возглавил мятеж против Лукулла, который доводился ему шурином, а потом оказался в плену у морских разбойников, с которыми должен был сражаться. Теперь же молодой человек вернулся в Рим, стремясь сделать себе имя, и в один вечер объявил, что точно знает, как добиться цели. По его словам, дело обещало быть смелым, рискованным, озорным и веселым (Целий клялся, что именно так и сказал Клодий). В общем, он заявил, что привлечет к суду Катилину.
Когда на следующее утро запыхавшийся Целий ворвался в дом и сообщил новость Цицерону, сенатор поначалу не поверил. О Клодии он судил лишь по грязным сплетням. Так, весь город судачил, будто тот спит с собственной сестрой. Позже слухи обрели более прочную основу, и сам Лукулл приводил их в качестве одной из причин для развода со своей женой.
– Как может такое ничтожество предстать перед судом? – недоверчиво фыркнул Цицерон. – Разве что в качестве ответчика…
Однако Целий со свойственным ему озорством возразил, что, если Цицерону требуются доказательства его правоты, пусть он в ближайшие час-два наведается в суд по вымогательствам, куда Клодий как раз намеревается подать иск. Стоит ли говорить о том, что Цицерон был просто не в силах пропустить подобное представление? Наскоро побеседовав с самыми важными клиентами, он направился в хорошо знакомое место – храм Кастора, прихватив меня и Целия.
Весть о том, что должно произойти нечто крайне важное, чудесным образом распространилась по городу, и у ступеней храма скопилась толпа в сотню человек или даже больше. Тогдашний претор Орбий, правивший позже Азией, только что сел на свое курульное кресло и озирался, видимо пытаясь уразуметь, что же случилось. Тут подошли шесть или семь юношей с одинаковой глуповатой ухмылкой на лицах. Все явно следили за последними веяниями моды и, должен признать, вполне успешно им следовали. У них были длинные волосы и короткие бородки, а на поясе свободно болтались широкие ремни, расшитые узорами.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!