Текст книги "Мир чудес"
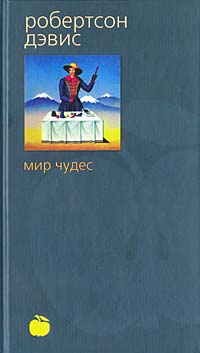
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но скучать вовсе не входило в мои планы, а потому я принялся искать – чем бы заняться. Я был ловкий парнишка и значительно моложе режиссера, а потому, когда понадобилось переставить стулья, я подскочил к нему и предложил помощь, которую он принял, не произнеся ни слова. Еще до конца репетиции я стал официальным перестановщиком стульев, и именно так я и оказался помощником режиссера. Моего непосредственного босса звали Макгрегор, и у него были больные ноги. Такие толстые – словно из одного куска мяса, и облаченные в тяжелые ботинки; он обрадовался, когда у него появился помощник. От него-то во время перерыва я и узнал, что мы здесь делаем.
«Новая постановка, – объяснил он мне. – „Скарамуш“. По роману Рафаэля Сабатини.[115]115
По роману Рафаэля Сабатини. – Рафаэль Сабатини (1875—1950) – английский писатель итальянского происхождения, автор популярных приключенческих и любовных романов.
[Закрыть] Ты слышал про Рафаэля Сабатини? Нет? Ну, держи уши шире, тогда поймешь что к чему. И конечно, кр-райне романтично». «Р» у него было шотландское, раскатистое.
«А что я должен делать, мистер Макгрегор?» – спросил я.
«Мне об этом не сказали, – ответил он. – Но, судя по твоей наружности, думаю, что ты – дублер».
«Какой такой дублер?»
«Дублер для два-два», – совсем по-шотландски ответил он. Имея дело с Рамзи, я давным-давно понял, что бесполезно задавать вопросы шотландцу, если он говорит таким тоном – сухим, как старое печенье. Этим мне и пришлось удовольствоваться.
Кое-что мне удалось узнать, слушая и задавая вопросы, когда кто-нибудь из второстепенных актеров спускался в бар на скромный ленч. Прошло три или четыре дня, и я узнал, что действие «Скарамуша» происходит во время Французской революции, хотя я понятия не имел, когда это было. Я ничего не знал о том, что у французов была какая-то революция. Я слышал про американскую, но что касается деталей… возможно, заварушка произошла оттого, что Джордж Вашингтон пристрелил Линкольна. Я неплохо ориентировался в царях Израилевых, а вот более поздняя история была для меня тайной за семью печатями. Хоть и по кусочкам, но все же я составил кой-какое общее представление о сюжете пьесы. Сэр Джон играл молодого француза, который «родился с даром смеха и ощущением, что мир сошел с ума». Именно так сказал о нем один из актеров. Удивительно, но никому не казалось странным, что сэр Джон, будучи в весьма солидном возрасте, ничуть не дорожит своей солидностью, играя молодого человека. Этот молодой француз поссорился с аристократами, потому что придерживался прогрессивных взглядов. Чтобы скрыться от преследователей, он поступает в труппу бродячих актеров, но его революционный пыл так силен, что он никак не может удержать язык за зубами и бросает со сцены обвинения белой кости, чем вызывает грандиозный скандал. Когда как нельзя кстати происходит революция, он становится одним из ее вождей; он уже близок к тому, чтобы отомстить аристократу, который злодейским образом убил его лучшего друга и упрятал в каталажку его девушку, но тут пожилая аристократка под давлением обстоятельств признается, что она его мать, а затем – естественно, против своей воли – вынуждена сообщить ему, что его смертельный враг, которого он собирается уничтожить, – его отец.
Кр-райне романтично, как сказал Макгрегор, но совсем не так глупо, как вы это, может быть, подумали с моей подачи. Просто я представил вам эту пьеску такой, какой она мне показалась на первый взгляд. Меня же интересовало только то, что должен был делать я, отрабатывая свое жалованье. Поскольку теперь у меня было жалованье – вернее, половина жалованья, так как, пока шли репетиции, платили только половину. Холройд дал мне пару напечатанных вкривь и вкось страничек машинописного текста – это был мой контракт. Подписал я его как Жюль Легран, что соответствовало моему паспорту. У Холройда это имя вызвало некоторые подозрения, и он спросил, говорю ли я по-французски. Я был рад, что могу ответить «да», но он настоятельно посоветовал мне найти для сцены другое имя – не такое иностранное. Я никак не мог понять, для чего это нужно, но мне все стало ясно, когда мы дошли до второй сцены второго акта.
В течение первой недели репетиций мы два или три раза подходили к этой критической точке – критической она была только для меня, – но сэр Джон просил актеров только «пробежать по ней», разве что определить свои места на сцене. Итак, все тот же юный защитник революции по имени Андре-Луи выходил на сцену с бродячими актерами – труппой «Итальянские комедианты». Все они играли характерные роли: Полишинеля – старика-отца, Климену – приму, Родомона – хвастуна, Леандра – любовника, Паскареля и других персонажей комедии масок[116]116
Комедия масок – или комедия дель арте; вид итальянского народного театра, возникшего в эпоху Возрождения. Большинство актеров играло в масках, которые переходили из одного спектакля в другой, подчеркивая типичность образов, – Щеголь, Трус, Весельчак и т. п. Комедия масок положила начало профессиональному европейскому театру.
[Закрыть]. Я ничего не знал про комедию масок, но общую идею ухватил – все это, как вы догадываетесь, было не очень далеко от атмосферы эстрадных театриков в Канаде и Америке. И в самом деле, чем-то это напоминало мне беднягу Дзовени, несчастного жонглера. Андре-Луи (его играл сэр Джон) исполнял роль Скарамуша – отчаянного, остроумного негодяя.
Во второй сцене второго акта «Итальянские комедианты» давали представление, и в самом его начале Скарамуш должен был демонстрировать несколько эффектных жонглерских трюков. Позднее он не упускал случая произнести пламенную революционную речь, которой не было в пьесе, представляемой «Комедиантами». Когда его главный враг со своими приятелями-аристократами бросался на сцену, чтобы наказать возмутителя спокойствия, тот убегал по канату, натянутому высоко над местом действия, не забыв сделать на прощание несколько издевательских жестов. Очень эффектно. И явно за пределами возможностей сэра Джона. А поэтому я должен был появиться точно в таком же костюме, продемонстрировать искусство жонглера, потом уступить место сэру Джону, чтобы он произнес свою зажигательную речь, а потом снова выйти на сцену – когда нужно было убегать по канату.
Все это требовало точной режиссуры. Когда Макгрегор сказал: «Занавес поднят», я выпрыгнул на обозначенную стульями сцену справа (если смотреть из зала) и, пританцовывая и жонглируя тарелками, направился в левое крыло. Когда Полишинель разбил тарелки своей тростью, произведя много звона и шума, я сделал вид, что ныряю за его плащ, а на сцене вместо меня тут же появился сэр Джон. Кажется – просто, но мне нужно было держать в голове отсутствующие тарелки, плащ и все остальное, и я чувствовал себя неуверенно. Сцену с канатом мы «пробежали» по такой же схеме. Сэр Джон всегда говорил «пробежим», если мы не были готовы играть. В критический момент, когда аристократы бросились на сцену, сэр Джон медленно отступил к левой кулисе, отбиваясь от них тростью, потом ринулся назад к своему стулу, что сделал с поразительной живостью – суматоха, мелькание плащей, он в это время исчезает из вида, и тут же появляюсь я – выбегаю по канату из-за кулис. Вы, вероятно, думаете, что все это не составляло труда для такого старого балаганного волка, как я. Уверяю вас, это был отнюдь не легкий труд – прошло два-три дня, и мне стало казаться, что я потеряю эту работу. Даже если мы «пробегали» сцену, сэр Джон оставался мной недоволен.
Мне по-прежнему никто ничего не говорил, но я понял, к чему идет дело, когда однажды утром Холройд привел на разговор к сэру Джону какого-то парня, который, судя по всему, был акробатом. Я терся поблизости, якобы помогая Макгрегору, и подслушал их разговор – не весь, но мне хватило. Акробат ни в какую не соглашался с чем-то и вскоре отбыл, оставив сэра Джона в исключительно дурном настроении. Во время репетиции он ко всем цеплялся. Он цеплялся к мисс Адели Честертон, хорошенькой девушке, исполнявшей роль романтической героини. Она была начинающей актрисой, и вымещать на ней дурное настроение было очень удобно. Он цеплялся к старому Франку Муру, который играл Полишинеля и был старым театральным волком и удивительно добрым человеком. Он ворчал на Холройда и отпускал язвительные замечания в адрес Макгрегора. Он не кричал и не бранился, но был нетерпелив и требователен, а от его раздражения в помещении словно образовалась дымовая завеса и видимость ухудшилась вдвое. Когда подошло время «два-два», он сказал, это, мол, сегодня пропустим, и быстро свернул репетицию. Холройд попросил меня остаться после всех, но не путаться под ногами. И я никому не мешал – держался у двери, пока сэр Джон, Холройд и Миледи совещались о чем-то в дальнем углу комнаты.
Я слышал лишь отдельные фразы из того, что они говорили, а говорили они обо мне, и дискуссия была довольно жаркой. Холройд повторял что-то вроде «Настоящий профи не согласится, чтобы его имени не было в афише» и «Найти дублера не так легко, как вы думаете, по крайней мере в данных обстоятельствах». У Миледи был настоящий сценический голос, и даже если она понижала его, он продолжал звучать чисто, как колокольчик, и в моем углу комнаты. И все ее аргументы в разных вариантах сводились вот к чему: «Ты должен предоставить бедняге шанс, Джек. Каждому должен быть предоставлен шанс». Но из того, что говорил сэр Джон, я не мог разобрать ни слова. У него тоже был сценический голос, и он знал свои возможности, а потому, когда не хотел, чтобы его слышали посторонние, переходил на неразборчивое бормотание, изрядно сдобренное его эканьем и кныканьем, которые вроде бы имели какой-то смысл для тех, кто знал его получше.
Минут через десять Миледи громким голосом – не оставляя никаких сомнений в том, что ее слова предназначаются и мне, – произнесла: «Верь мне, Джек. Он принесет нам удачу. Я это вижу по его лицу. Я никогда не ошибаюсь. И если мне не удастся вправить ему мозги, мы к этому разговору больше не вернемся». Она устремилась через комнату ко мне, используя зонтик, как трость, и с таким шиком, что вы и представить себе не можете. И вот что она мне сказала: «Ступай-ка со мной, дружок. Нам нужно поговорить без посторонних». Вдруг ей пришла в голову какая-то мысль, и она повернулась к сэру Джону и Холройду. «У меня же нет ни пенса», – сказал она, и по тому, как оба бросились к ней, доставая банкноты, можно было понять, как много она для них значит. Из-за этого у меня возникло к ним теплое чувство, хотя минуту назад они и собирались отделаться от меня.
Миледи шла впереди, я тащился за ней. Мы спустились вниз – она сунула голову в помещение бара, который как раз открывался, и на удивление по-приятельски (ведь она была леди Тресайз, а ее собеседник – простой бармен) сказала: «Мне бы на полчасика в „Раб Нулас“. Поговорить надо. Вы не возражаете, Джои?» Бармен прокричал в ответ: «Какие могут быть возражения, Миледи!» – и она провела меня в мрачноватый кабинет, огороженный с трех сторон грязным матовым стеклом; на дверях красовалась надпись «Салун-бар». Когда дверь закрылась, я смог прочесть надпись задом наперед и догадался, что мы в «Рабе Нуласе». Бармен подошел к прилавку, составлявшему четвертую сторону кабинета, и спросил, что нам подать. «Джин с тоником, Джои», – сказала Миледи. Я попросил то же самое, понятия не имея, что это такое. Джои принес джин, мы сели, и по тому, как это сделала Миледи, я понял, что настал решающий момент. Момент истины, как говорят.
«Давай откровенно. И я первая буду откровенной, потому что я старше. Ты просто не понимаешь, какой шанс дает тебе судьба в „Скарамуше“. Ведь это такой эпизод – пальчики оближешь! Я всегда говорю начинающим: нет маленьких ролей – есть эпизоды, а останется эта роль эпизодом в вашей жизни или будет первой ступенькой вашей карьеры, зависит только от вас. Покажите мне молодого актера, который из маленькой роли может сделать превосходный эпизод, и я покажу вам будущую звезду. А твоя роль предоставляет тебе такие возможности, о каких я за всю мою жизнь в театре еще не слышала, потому что ты должен играть с таким блеском, чтобы никто – ни один самый проницательный критик, ни один самый восторженный поклонник – не смог отличить тебя от моего мужа. Вдруг перед их глазами, великолепно жонглируя, возникает сэр Джон, а они, конечно, восторгаются им. Проходит несколько мгновений, и они видят сэра Джона на канате, они видят все его характерные жесты и движения головой, они просто поражены – они никак не могут поверить, что он выучился искусству канатоходца. А изюминка-то, видишь ли, как раз в том и есть, что все это время перед ними ты! Включи воображение, дружок. Только представь себе, какой фурор это произведет. А благодаря кому это возможно? Благодаря тебе!»
«Я все это понимаю, Миледи, – сказал я. – Но сэр Джон недоволен. А я не знаю почему. Я честно делаю, что в моих силах, а ведь у меня даже жонглировать нечем да и каната нет. Что я еще могу?»
«Ага, значит, ты уже обо всем догадался, дружок. Я как тебя увидела, сразу поняла, что ты парень очень-очень сообразительный. Я уж не говорю о том, что твое лицо должно приносить удачу. А теперь ты сам сказал: ты делаешь все, что в твоих силах. Но пойми, здесь нужно совсем другое. Ты должен делать все, что в силах сэра Джона».
«Да, но… Но сэр Джон ведь ничего не умеет, – сказал я. – Он не умеет жонглировать и ходить по канату. Если бы умел – зачем ему нужен я?»
«Нет-нет, ты меня не понял. Сэр Джон может сделать и сделает кое-что совершенно необыкновенное: он заставит публику – то огромное число людей, которые не пропускают ни одного, – его спектакля, – поверить, что именно он исполняет все эти великолепные, сложные трюки. Он может сделать так, что они захотят поверить, будто ему подвластно все. Они с радостью будут считать, что ты – это он, если только тебе удастся почувствовать его ритм».
«И все же я не понимаю. Ведь люди не такие глупые. Они догадаются, что это обман».
«Кто-нибудь, может, и догадается. Но большинство из них предпочтет верить, что это – всамделишное. Так уж устроен театр. Люди хотят верить, что происходящее перед ними – правда, пусть хотя бы только пока они сидят в зале. Вот что такое театр. Неужели ты не понимаешь? Люди хотят, чтобы мечта стала правдой – а мы им это и показываем».
Тут я начал понимать, что она имеет в виду. Я ведь видел выражение на лицах тех, кто смотрел на Абдуллу, кто смотрел, как Виллар глотает иголки с ниткой, чтобы потом вытащить изо рта эту же самую нитку с нанизанными на нее иголками. Я нервно спросил Миледи, не хочет ли она еще джина с тоником. Она сказала, что определенно хочет, и дала мне фунт, чтобы я расплатился. Когда я заартачился, она сказала: «Нет-нет, платить должна я. У меня больше денег, и я не собираюсь злоупотреблять твоей галантностью, хотя и ценю ее, дружок. Не думай, что не ценю. – Когда принесли джин, она продолжила: – Давай будем очень-очень откровенными. Твой замечательный эпизод должен быть большой тайной. Если мы всем все расскажем, то лишим их части удовольствия. Ты видел парня, который приходил сегодня утром, – как он занудно спорил? Он, видимо, умеет жонглировать и ходить по канату не хуже тебя, но нам от него мало проку, потому что у него гордыня циркача. Он хочет, чтобы его имя было в программе и в афише. Настаивал, чтобы в нижней строчке афиши, после всех участников, было написано: „и Требелли“. Нелепое требование. Все захотят узнать, кто такой Требелли, и сразу же догадаются, что это жонглер и канатоходец. И вся романтика – коту под хвост. А кроме того, я уверена: ему и на секунду не удастся никого обмануть; никто не поверит, что он – сэр Джон. У него такая нахальная, отталкивающая физиономия. А у тебя, дружок, великолепный козырь – почти никакой индивидуальности. Тебя никто и не замечает. Ты почти табула раса[117]117
Tabula rasa (лат.) – чистая доска.
[Закрыть]».
«Извините, Миледи, я не знаю, что это такое».
«Не знаешь? Ну, это такое распространенное выражение… Мне даже никогда не приходилось его объяснять… Понимаешь, это просто милая пустышка, такая маленькая, смешная глупость, на которой можно нарисовать любое лицо. Бесценное свойство, понимаешь? Это говорят о детях, когда собираются научить их чему-нибудь невыносимо прекрасному. Они так легко поддаются обучению».
«Я хочу учиться. Что я должен выучить?»
«Я знала, что ты необыкновенно умный. Даже больше. Правда. Умные люди нередко просто несносны. А ты очень восприимчивый. Я хочу, чтобы ты научился быть в точности как сэр Джон».
«Вы хотите, чтобы я ему подражал?»
«От подражания мало проку. Ему подражали в эстрадных номерах. Нет. Если мы хотим, чтобы у нас что-то получилось, ты просто должен научиться быть им».
«Но как, если я не буду ему подражать?»
«Это очень тонкая вещь. Конечно, ты должен ему подражать, но смотри, чтобы он не застал тебя за этим занятием – он этого не любит. Ведь этого никто не любит, правда? Я хочу сказать, – боже мой, так ужасно трудно выразить то, что хочешь сказать, – что ты должен перенять его походку, его манеру поворачивать голову, его жесты и все такое, но самое главное – ты должен перенять его ритм».
«И с чего же мне начать?»
«Настройся на его колебания. Стань сверхчувствительным волшебным телеграфом или, может, как радио – принимай эти послания по воздуху. Делай то, что он делал с Хозяином».
«Я думал, он и есть Хозяин».
«Ну да, теперь-то он, конечно, Хозяин. Но когда мы оба работали у старого душки Хозяина в „Лицеуме“[118]118
…мы оба работали у старого душки Хозяина в «Лицеуме»… – «Лицеум» – театр в Лондоне на Веллингтон-стрит, где с 1878 по 1903 г. работал Генри Ирвинг.
[Закрыть], сэр Джон просто обожал его и был распахнут перед ним, как Даная – перед золотым дождем (об этом-то ты, конечно, знаешь?), и во многом стал удивительно похож на него. Конечно, сэр Джон не так высок, как Хозяин. Но ты ведь тоже невысокий, правда? Он перенял у Хозяина романтический блеск. Именно это должен сделать и ты. Чтобы публика, когда ты будешь жонглировать перед нею своими тарелками, не чувствовала, будто внезапно выключили электричество. Еще джин с тоником?»
Вообще-то джин с тоником мне не очень понравился. В те времена я еще не мог себе позволять никакой выпивки, а джин с тоником – не лучшее начало. Но я бы и горячего жира со сковородки выпил, чтобы продолжить этот разговор. Поэтому мы заказали еще, и Миледи управилась со своей порцией значительно лучше меня. Еще один джин чуть позднее (наверно, минут через десять), и я совершенно потерял ориентацию. Вот только отдавал себе отчет в том, что хочу ей угодить и должен как-то попытаться понять, о чем она говорит.
Когда она собралась уходить, я ринулся за такси, но меня опередил Холройд – он явно бил в лучшей форме. Вероятно, он все это время просидел в баре. Мы оба помогли ей сесть в машину. Я, кажется, помню, что один мой туфель был на тротуаре, другой – на мостовой, и я никак не мог понять, что случилось с моими ногами, а когда машина отъехала, Холройд взял меня под руку и повел назад в бар, где мы устроились в уголке со старым Франком Муром.
«Она потчевала его советами и джином с тоником», – сказал Холройд.
«Теперь ему нужно старую добрую пинту портера пополам с элем – тогда он быстро очухается», – сказал Франк и сделал знак бармену.
Они вроде бы знали, что на уме у Миледи, и изъявляли готовность объяснить это на понятном мне языке, что было очень мило с их стороны. По их словам, все было очень просто: я должен подражать сэру Джону, но делать это элегантнее, чем прежде. Получалось, что я должен подражать великому актеру, который подражает жившему в восемнадцатом веке джентльмену, подражавшему персонажу комедии масок, – проще не придумаешь. Я же все делал слишком, к чертям собачьим, быстро, поверхностно – дешевка. А потому я должен все это бросить и уловить ритм сэра Джона.
«Вот этого ритма я как раз и не понимаю, – сказал я. – Я, пожалуй, знаю о ритме в жонглировании. Держишь ритм – значит, все у тебя под контролем и можешь не беспокоиться: ты ничего не уронишь, потому что все идет как надо. Но что такое этот чертов человеческий ритм? Это что, как в танце?»
«Нет-нет, танцы, которые ты знаешь, тут ни при чем, – ответил Холройд. – Впрочем, это и в самом деле немного похоже на танцы. Но не на чарльстон и не на всю эта дерготню. Скорее, на этакую изящную разновидность сложного, понимаешь, ритма».
«Ничего не понимаю, – сказал я. – Я должен воспринять ритм сэра Джона. А сэр Джон перенял свой ритм у того, кого называют Хозяином. Какой такой Хозяин? Что, в театре полным-полно Хозяев?»
«Вот теперь мы и дошли до главного, – сказал старый Франк. – Миледи говорила о Хозяине, да? Хозяином был Ирвинг, понял, дурья голова? Ты хоть слышал об Ирвинге?»
«Никогда», – сказал я.
Старый Франк недоуменно посмотрел на Холройда.
«Ты понял – он об Ирвинге никогда не слышал. Клинический случай».
«Не такой уж клинический, как тебе кажется, Франк, – сказал Холройд. – Эти нынешние никого не знают. Ну и нельзя забывать, что Ирвинг уже двадцать пять лет как в могиле. Ты-то его помнишь. Ты с ним играл. Я его немного помню. Но какое он может иметь отношение к такому вот парнишке? Подумай-ка лучше. Миледи считает, что здесь есть какая-то связь. Ты же знаешь, какой она бывает. Иногда чистый псих. Но вот когда тебе кажется, что у тебя сейчас тоже шарики от всего этого поедут, оказывается, что она права да еще правее любого из нас. Ты помнишь, где я тебя нашел?» – этот вопрос был обращен ко мне.
«На улице. Я показывал всякие штуки с картами».
«Да. Но ты не помнишь – где? Я-то помню. Я тебя увидел, потом вернулся на репетицию и сказал сэру Джону, что, кажется, у меня есть, что ему нужно. Нашел, говорю, под самым памятником Хозяину – подрабатывает фокусником. Вот тут-то, смотрю, у Миледи ушки на макушке. Джек, говорит, это счастливый знак! Пусть скорее приходит. А когда сэр Джон попытался задать вполне уместные вопросы, ну подойдешь ли ты по росту и есть ли какое-нибудь сходство между вами, она принялась болтать о том, что ты – просто счастливая находка и как здорово, что я увидел, как ты зарабатываешь на жизнь под защитой Ирвинга. „Джек, ты же помнишь, как Хозяин заступался за всех малых сих в театре, – сказала она. – Я уверена, этот парнишка – наш счастливый билет. Давай возьмем его“. И вот с тех пор она за тебя горой, хотя ты, наверно, не удивишься, если я скажу, что сэр Джон хочет от тебя избавиться».
Пинта портера пополам с элем добралась, наконец, до джина с тоником, и у меня в желудке началось что-то вроде Французской революции. Мне стало жалко себя.
«Почему он меня ненавидит? – воскликнул я, размазывая сопли. – Я все делаю, чтобы ему угодить».
«Лучше уж я буду с тобой на чистоту, – сказал Холройд. – Твоя беда, что сходство между вами слишком большое. Уж слишком ты похож на него».
«Я так и сказал, когда тебя увидел, – сказал старый Франк. – Черт возьми, говорю, какой великолепный дублер! Вылитый Хозяин».
«Так разве им не это надо?» – спросил я.
«Ты вот как на это посмотри, – сказал Холройд. – Представь: ты знаменитый актер, хотя уже и не в расцвете сил – чуть-чуть перевалил за свой пик, но по-прежнему великий мастер. Понял? Тридцать лет все вокруг только и говорят, какой ты великолепный, какое у тебя замечательное выразительное лицо, как Метерлинк бросил к чертям завтрак, чтобы увидеть тебя в одной из своих пьес, как он говорил газетчикам, что ты похитил его душу, что ты так хорош – одухотворенный, романтичный, поэтичный и вообще распрекрасный. Ты продолжаешь получать письма от поклонниц, которые видят в тебе идеал. Тебе досталось столько любви – в основном настоящей и трогательной, хотя иногда и не без сумасшедшинки, – той, что великие актеры пробуждают в людях, у большинства из которых был в жизни печальный опыт разочарований. И вот тебе понадобился дублер. А когда дублер появляется, – причем такой дублер, от которого просто так не отмахнешься, – оказывается, что это маленький голодранец из балагана. У него бегающие глаза карманника, а запах изо рта – как у людей, которые едят всякую дрянь. Вид у него такой, что ты ему и медный грош не доверил бы, и каждый раз, когда он попадается тебе на глаза, все твое нутро протестует. И к тому же он все время смотрит на тебя (а ведь ты знаешь, что ты на него смотришь), словно ему известно о тебе что-то такое, чего ты и сам не знаешь. А теперь скажи откровенно. Ты что, не захотел бы от него избавиться? А тут еще твоя жена; она была с тобой в радостях и горестях, она поддерживала тебя, когда ты был готов рухнуть под тяжестью долгов и неудач; ты так ее любишь, что это невозможно скрыть, а она за это восхищается тобой еще больше. И что же говорит тебе она? Она несет вздор, что этот дублер принесет тебе удачу, что ему нужно дать шанс. Ты следишь? Постарайся быть объективным. Не хочу говорить о тебе ничего плохого, но правда есть правда – от нее никуда не денешься. Ты, конечно, не самый плохой выбор для дублера, но вот ты здесь и, как говорит Франк, точь-в-точь вылитый сэр Джон».
Я держался из последних сил, чтобы меня не вывернуло наизнанку, и был исполнен решимости выяснить, что же я могу сделать, чтобы сохранить работу. Теперь я жаждал этого даже сильнее, чем раньше.
«Так что же мне делать?» – спросил я.
Холройд принялся пыхтеть своей трубочкой, пытаясь найти ответ, а тем временем заговорил старый Франк. Говорил он очень сочувственно.
«Ты просто продолжай в том же духе, – сказал он. – Попытайся нащупать ритм. Попытайся влезть в шкуру сэра Джона».
Эти слова стали роковыми. Я ринулся на улицу, и меня шумно и обильно вырвало на мостовую. Попытаться влезть в шкуру сэра Джона? Меня что, ждет еще один Абдулла?
Так оно и оказалось, но только это был Абдулла особого рода – мне такое и в голову не приходило. Прошлое никогда не повторяется в точности. У меня начинался период нового рабства – гораздо более опасного и потенциально разрушительного, но ничуть не похожего на мое унизительное существование у Виллара. Я поступил в долгое ученичество к эгоизму.
Обратите внимание: я говорю «эгоизм» – не «эготизм» и готов растолковать вам, в чем различие. Эготист – это себялюбивый человек, довольный собой и жаждущий сообщить миру о своем захватывающем любовном приключении. Но эгоист, как сэр Джон, – личность гораздо более серьезная. Он считает, что он сам, его интуиция, его устремления и вкусы – единственный критерий всего сущего. Да и сам мир – это его творение. Внешне он может быть вежливым, скромным и обаятельным (и конечно, сэр Джон именно таким и был для тех, кто его знал), но под бархатным жилетом – стальная кольчуга; если сталь наткнется на что-то, не уступающее ей по твердости, она отступит и просто проигнорирует существование этой твердыни. Эготист – это то, что на поверхности, тогда как внутри у него слабохарактерная каша неуверенности. Эгоист может даже проявлять почтительную уступчивость в вопросах, которые кажутся ему несущественными, но во всем, что касается его сути, он безжалостен.
Всем нам в той или иной мере свойствен эгоизм. Да и как иначе-то, когда все мы у него столуемся? Я думаю, что вы, Юрген, по преимуществу эгоист. И вы тоже, Гарри. Ничего не могу сказать об Инджестри. Но вот Лизл – определенно эгоистка, а ты, Рамзи, эгоист неистовый, сражающийся со своим демоном, – ведь тебе хочется быть святым. Но всем вам далеко до эгоизма сэра Джона. Его эгоизм питался любовью жены и аплодисментами, которые он умел исторгать у зала. Я не знал никого, кто мог бы сравниться с ним во всепоглощающем и влекущем за собой проклятие грехе эгоизма.
– Проклятие? – не удержался я.
– Мы с тобой, Данни, воспитывались с верой в проклятие, – очень серьезно произнес Айзенгрим. – Что это значит? Неумение слышать голос сострадания; равнодушие к чувствам других, если только они не могут послужить нашим интересам; слепоту и глухоту ко всему, что не льет воду на нашу мельницу? Если я не ошибся в определении и если это разновидность проклятия, то я использовал слово очень даже к месту.
Только поймите меня правильно. Сэр Джон вовсе не был жесток, или бесчестен, или упрям в жизни; но все эти качества проявлялись в нем сразу, как только дело касалось его художнических интересов. А вот в этой достаточно широкой сфере он не знал жалости. Нет, он доводил Адель Честертон до слез на каждой репетиции вовсе не потому, что был тираном. Он полностью подчинил себе Холройда – который во всем остальном был крепкий орешек – вовсе не потому, что любил помыкать себе подобными. Он превратил Миледи в некую разновидность огнетушителя для заливки разжигаемых им повсюду пожаров совсем не потому, что знал о ее исключительных человеческих качествах – необыкновенной душе и умении тонко чувствовать. Это и многое-многое другое он делал потому, что бы предан идеалу театрального искусства (насколько оно касалось его) в себе. Я думаю, он прекрасно понимал, что делает, и считал, что игра стоит свеч. Это служило его искусству, а его искусство требовало безжалостного эгоизма.
Он был чуть ли не последним представителем вымирающей породы актеров-антрепренеров. Не существовало никакого попечительского художественного совета, который помог бы ему остаться на плаву в случае провала или оплатил бы счет за художественный эксперимент или акт мужества. Ему самому приходилось отыскивать деньги на свои предприятия, и если какой-то его спектакль приносил одни убытки, то он должен был возмещать их из доходов нового, иначе вскоре его обращения к инвесторам стали бы гласом вопиющего в пустыне. Помимо всего прочего, он был и финансистом. Он просил людей вкладывать деньги в его мастерство, его опыт и предпринимательское чутье. А также – в его индивидуальность и обаяние, а еще – в удивительную технику, которую он приобрел, чтобы его индивидуальность и обаяние стали очевидными сотням тысяч людей, покупавших театральные билеты. Нужно отдать ему справедливость, у него были очень тонкие вкус и чутье, поднимавшие его над актерами первого эшелона до уровня очень небольшой группы звезд с гарантированными зрителями. Он отнюдь не был алчным, хотя и любил пожить на широкую ногу. То, что он делал, он делал ради искусства. Его эгоизм коренился в вере, что искусство (которое он собой олицетворял) стоит любых жертв, какие может принести он и те, кто с ним работает.
Когда меня приняли в его труппу, там уже вовсю шла борьба со временем. Не борьба с приближающейся старостью – потому что на этот счет он не заблуждался. Это была борьба с переменами, которые приносит время, борьба за то, чтобы перенести в двадцатый век представления о театре, бытовавшие в девятнадцатом. Он был глубоко предан тому, что делал. Он верил в романтизм и не мог смириться с тем, что концепция романтизма уходит.
Романтизм не остается неизменным. Из его пьес, в которых красавец-герой выходил победителем (пусть хотя бы и ценой смерти за какое-нибудь благородное дело) из целого ряда великолепных приключений, начинал сыпаться песок. Романтизм в то время ассоциировался с «Интимной жизнью»[119]119
«Интимная жизнь» – комедия Ноэля Кауарда, появившаяся в начале 20-х гг. XX в. В этой комедии две супружеские пары, вступившие во второй брак, проводят медовый месяц в одном отеле.
[Закрыть], которая только-только появилась. Тогдашние зрители не воспринимали эту пьесу как романтическую, но именно такой она и была. И из нашего представления о романтизме (который нередко исследует убожество и деградацию) когда-нибудь тоже будет сыпаться песок. Романтизм – это образ чувствования, непомерно акцентирующий (можно, кстати, и без трагического оттенка) жизнь отдельного человека. В трагедии, как и в комедии, есть вещи поважнее человеколюбия. Для романтизма человеколюбие – главное. Те, кому нравился романтизм сэра Джона, были людьми средних лет или стариками. Конечно, на его спектакли приходило и много молодых людей, но это были не самые интересные молодые люди. А может быть, они по-настоящему и молоды-то не были. Интересные молодые люди ходили на другие постановки. Они валом валили на «Интимную жизнь». Вряд ли сэр Джон мог это принять. Его идеал романтизма был далек от «Интимной жизни», и он развил в себе ужасающую форму эгоизма, чтобы служить своему идеалу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































