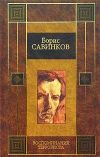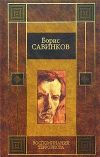Текст книги "Азеф"

Автор книги: Роман Гуль
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
14
– Да он же уличен! – кричали в комнате. – Погибли товарищи! – Убить – Но разве на основании!? – Провокаторов убивали с меньшими основаниями!
Азеф кричал бешено: – И выпустили!? Выпустили?! Его надо было давить сейчас же, как гадину! – лицо Азефа исказилось злобой, какой еще никогда никто не видал.
– Но пойми, не тут же на квартире Осипа Соломоновича!? – кричал Чернов.
– Мягкотелые вороны! Слюнтяи! Чистоплюи! Тут нельзя!? А ему нас посылать на виселицу можно?! Вы знаете, что он повесил товарищей? Или вам это как с гуся вода!!!??? – закричал Азеф, и быстрыми шагами, ни с кем не прощаясь, вышел, хлопнув дверью.
15
Утром в номер Татарова постучали. Татаров сидел неумытый, в рубахе, перерезанной помочами. Вошел Чернов. Не подавая руки, сел в кресло. Татаровым овладело беспокойство.
– Даже руки не подаете? – проговорил он.
– Николай Юрьевич! Мы не подадим вам руки до тех пор, пока вы не смоете с себя подозрений, – начал Чернов.
– Скажите, – задушевно сказал он. – Зачем вы лгали? Зачем вся эта история с Кутайсовым? с Чарнолусским? с гостиницей? что всё это значит?
Мысли Татарова бились и путались.
– Виктор Михайлович, понимаете, что я переживаю? – голос его задрожал, это было хорошо, – мне, проведшему годы тюрьмы, ссылки, восемь лет жившему мучительной революционной работой, словно сговорясь, бросают нечеловечески тяжелое обвинение?
Челюсть Татарова вздрагивала, он мог заплакать.
– Я не могу на суде, это слишком тяжело. Но у меня есть что сказать. Все говорят о провалах в Питере, в Москве, о провокации. Но разве я не чувствую сам, что провокация есть, – проговорил Татаров. – Я знаю, что есть. И вижу, что я ошибся, не доведя об этом до сведения товарищей. Я ведь на свой риск и страх давно веду расследование, как могу, и теперь мне удалось…
– Выяснить провокатора?
– Да.
– Фамилия? – взволнованно придвинулся к нему Чернов.
– Виктор Михайлович, вы не поверите, но это факт! Это – факт! – ударил себя в грудь Татаров, – партию предает… Азеф…
– Что?! – вскрикнул, вскакивая Чернов. – Оскорблять Азефа! Руководителя партии?! Вы наотмашь эдак не отмахивайтесь! Я пришел за чистосердечным признанием! И ваша роль теперь ясна, потрудитесь явиться для дачи новых показаний!!
– Но это же правда, уверяю вас, Виктор Михайлович, что это правда! – закричал Татаров, наступая на Чернова, – я достану вам факты!
– Негодяй! – сжав кулаки, Чернов выбежал из комнаты.
Татаров торопливо укладывал чемоданы. «Смерть, да, да, да, смерть!» – метался он по запертому номеру. И когда его ждали для дачи показаний, Татаров был уже под Мюнхеном, по дороге в Россию.
16
Весна шла теплая, голубая. В Петербурге пахло ветром с Невы. Цвели острова. По Невскому шли веселые люди. В притихших садах пригородов белым цветом раскидалась черемуха. По ночам на улицах слышалось пенье.
Близорукий шатен в золотом пенснэ, товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, Федоров, в этот день не чувствовал весны. Он был мягок. Получив предписание выехать в Шлиссельбург для присутствия при казни террориста Каляева, почувствовал себя дурно.
Федоров даже не знал, как туда ехать, в Шлиссельбург? Объяснили, надо сесть в полицейский катер у Петропавловской крепости. И Федоров в катере, волнуясь, ехал пять часов. Были тихие сумерки. Нева катилась потемневшая. Над ней плыла ущербленная луна. В лунном свете бе-лосиними показались Федорову стены и башни Шлиссельбурга.
Подрагивая от холода, от нервов, в сопровождении жандармов Федоров прошел в ворота с черным двуглавым орлом и надписью «Государева». Белые дома, зеленые садики крепости показались странными. В сопровождении жандармов пошел к дому коменданта. Направо в сумерках увидал белую церковь, с потемневшим крестом. Церковь стояла тихо, словно была в селе, а не в крепости.
– Я товарищ прокурора, Федоров, – проговорил Федоров, здороваясь с комендантом.
– Очень приятно, – сказал комендант, но видимо ему было скучно.
– Я хотел бы сейчас же пройти к заключенному.
– Время еще есть, – сказал скучно комендант. – Впрочем ваше дело. Корнейчук! – крикнул он. – Проведи господина прокурора в манежную.
17
Каляев, в черном обтертом сюртуке, сидел на кровати. Шея была голая, худая. В камере стоял стол, стул, кровать. Каляев казался маленьким, тщедушным. На шум открывшейся двери он обернулся.
– Здравствуйте, – проговорил, входя с жандармом Федоров. – Я товарищ прокурора судебной палаты.
Федоров представлял себе террористов гигантами с огненными глазами. Мягкий Каляев поразил его. Странными были ласковые глаза. Это не глаза террориста.
– Я знал, что вы придете. Садитесь, – проговорил Каляев.
– Простите, – сказал Федоров, голос его дрогнул. – Я, господин Каляев, не знаю, известно ли вам, что если вы подадите на высочайшее имя прошение о помиловании, то смерть будет заменена вам другим наказанием?
Странные глаза Каляева остановились на Федорове, как бы не понимая его.
– Я буду просить, – улыбаясь сказал Каляев, – но не царя, а вас и то только об одном. Доведите пожалуйста до сведения правительства и общества, что я иду на смерть совершенно спокойно. Помилования я не просил, когда меня уговаривала великая княгиня Елизавета. И сейчас просить не буду.
Каляев увидал: Федоров взволнован, у него вздрагивают губы.
– Я хочу говорить с вами, – сказал Каляев и улыбнулся мягко, – как бы это сказать… казнь будет через несколько часов… как с последним человеком, которого я вижу на земле. Только постарайтесь понять меня и исполните мою просьбу. Я не преступник и не убийца. Я воюющая сторона, сейчас слабейшая, в плену у врага, он может со мной сделать, что хочет. Но душу мою, мои убеждения, идею мою он не может отнять, понимаете?
– Господин Каляев, я человек других убеждений, – проговорил Федоров.
На лицо Каляева вышла странная, как будто даже насмешливая улыбка.
Федоров путался. Ему хотелось сделать что-нибудь приятное этому маленькому, тщедушному человеку – перед его смертью.
– Может быть, вы хотите переговорить со мной наедине? Выйдите! – бросил он жандарму.
Жандарм споткнулся, зацепив шпорой о шпору, зазвенел и вышел. Но когда дверь заперлась, Каляеву показалось, что зря, что говорить не о чем. Федоров платком протирал пенсне.
– Странно, – глядя в пол, медленно произнес Каляев, – может – быть мы с вами были в одном университете.
– Я окончил в Москве, – проговорил Федоров, надевая пенснэ.
– Я там начал, – сказал Каляев, но вдруг нервно вскочил и заходил по камере. – Если б вы знали, если б знали, как я волнуюсь. Поймите, я хочу, чтоб товарищи знали, что я иду на смерть совершенно спокойно и ни о каком помиловании не прошу.
Помолчав, Федоров сказал:
– Может быть вы хотите написать об этом? Я приглашу ротмистра, он засвидетельствует и это будет документ. Я передам его в палату.
– Но разве это можно? Да, да, пусть все знают, что я умираю спокойно. Ведь это необходимо, поймите, в интересах дела. Спокойная смерть это сильный акт революционной пропаганды. Это больше чем убийство.
Федоров подумал: «Боже мой, неужели у них таких много?»
Федоров встал. – Подождите, я принесу бумагу – проговорил он, и распахнув дверь, сильно ударил приложившегося к скважине жандарма. «Что за гадость!» – бормотнул Федоров. – «Виноват, вашбродь», – проговорил жандарм.
18
Меж крепостной стеной и сараем строили виселицу. В темноте мелькали силуэты людей. Федоров отвернулся.
В доме коменданта его поразили собравшиеся люди. Стояли представители сословий, три обывателя из мелких торговцев. Прислонясь задом к подоконнику, поглаживая бороду, стоял священник. Шумно обступили офицеры гарнизона генерала барона Медема, командированного присутствовать при казни Каляева министерством внутренних дел.
Перед генералом, на столе лежали ножи, молотки, ножницы.
– Прекрасные изделия делают, ваше превосходительство, не подумаешь, что способны, – говорил, показывая их, комендант.
– Прелестно, – сказал генерал, держа молоток. От блеска пуговиц, мундиров, от разговоров у Федорова комком подступила тошнота. Он выбежал на крыльцо в темноту: – его вырвало. Проводя рукой по вспотевшему от напряжения лбу, Федоров пошел к манежу.
Каляев, улыбаясь, проговорил:
– Вот, хорошо что пришли, а мне уж объявили. Федоров прислонился к стене. Каляев писал. Но вдруг обернулся, вскочил. – «Где же шляпа? – проговорил он, – где моя шляпа? она была тут, – он шарил по постели, – ах, вот она», – и схватив шляпу сделал шаг к Федорову.
– Я написал. Чего ж мы ждем? Пойдемте, чем скорее, тем лучше. – Каляев в локте сжал руку Федорова, но смотрел мимо него, на огонь лампы.
– Может быть вам что-нибудь передать?
– Передать? – сказал Каляев, как в забытьи. – Не знаю, что передать? Я никому зла не сделал, любил людей, за них умираю, что же передать? Главное не забудьте, что я не унизился просьбой о помиловании. А нет, впрочем это неделикатно, лучше: – остался силен и не просил помилования, – улыбнулся блестящими глазами Каляев.
– Но у вас же есть мать? Я передам.
– Передадите? – забормотал Каляев, – сейчас. Он писал, рвал, бросал. Закрыл лицо руками, просидев так несколько секунд, потом оторвавшись, стал снова писать:
«Дорогая незабвенная моя мать! Итак я умираю! Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к своему концу. Пусть же ваше горе, дорогие мои, все: – мать, братья, сестры потонет в лучах того сияния, которым светит торжество моего духа. Прощайте, привет всем от меня кто знал и помнит. Завещаю вам: храните в чистоте имя моего отца. Не горюйте, не плачьте. Еще раз прощайте, я всегда с вами.
Иван Каляев»
Промокнув грязной промокашкой несколько раз, Каляев передал письмо.
– Теперь я спокоен, пойдемте, пойдемте скорее. Дверь навстречу ему отворилась. Вошел худой ротмистр с двумя солдатами.
– Приготовьтесь, – сказал худой ротмистр. Странно улыбаясь, Каляев посмотрел на ротмистра. И, повернувшись, сказал Федорову:
– Прощайте, спасибо.
19
В столовой коменданта, освещенной лампами и канделябрами, шумели.
В темноте двора Федоров сел на скамью под липами. Прямо, в отдалении темнела готовая виселица. Федоров смутно помнил, как из дома вышел генерал Медем, полукругом шли офицеры, священник и представители сословий. Открылась дверь манежа. Под сильным конвоем с саблями наголо, в квадрате жандармов, с непокрытой головой шел маленький человек в обтрепанном сюртуке. Шея была голая.
Рассветало. Пахло липами. Федоров с трудом шел к виселице, и ему казалось, что именно потому, что слишком сильно пахнет липами. Он слышал, как читали приговор. Подошел священник. Каляев отстранил крест.
– Уйдите, батюшка, счеты с жизнью покончены. Я умираю спокойно.
И тут же подошел палач Филипьев, надевший на Каляева саван.
– Взойдите на ступеньку, – сказал хрипло Филипьев. Из мешка чуть придушенный, но спокойный раздался голос:
– Да как же я взойду? У меня мешок на голове, я ничего не вижу.
Федоров отвернулся, закрыв лицо руками, сделал три шага.
Удивился, почти тут же услышав шаги. Шли генерал барон Медем, офицеры, представители сословий, священник.
От ворот Федоров обернулся. На виселице качалась, казавшаяся очень маленькой, фигурка в саване.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
В кресле, как всегда, бледным, закутанный во что-то шерстяное, сидел Гоц. Рядом сидел, куря папиросу Азеф. Видно было, что они долго разговаривали. Вошел Чернов.
Гоц сразу же протянул ему «Журналь де Женев».
– Прежде всего читай, – сказал он.
– Ну, что скажешь? – спросил, следя за лицом Чернова, Гоц.
– То есть, как что? – отходя, беря стул, садясь ближе, сказал Чернов. – Новый шаг, довольно крупная уступка. Маневрируют.
– Ловушка?
– Приходится бабе вертеться, коль некуда деться.
– Ну, от тебя-то, Виктор, я этого не ожидал, – процедил, попыхивая папироской, Азеф. – Сейчас Минор был, всё кричал, мы де наивные люди, манифест 17 октября это, мол, чтобы нас эмигрантов в Россию заманить. Видите ли, расконспирируемся, они нас сгребут и крышка. И ты думаешь для нашей милости Россию вверх ногами поставили? Переменили самодержавие на конституционный строй! Высоко ценишь, Виктор!
– Да двойственный характер манифеста в глаза бьет! Конечно, маневр! Divide et impera! Вот что! Успокой оппозицию, раздави революцию!
– Ты не прав, Виктор, – сказал Гоц, – первым словам манифеста я не придаю значения. Это фасад, стремление уберечь «престиж власти». Конечно, правительство долго будет барахтаться, предлагать обществу услуги для подавления крайностей. Но ясно: – со старым режимом кончено. Это конец абсолютизма, конституция, новая эра. И нечего говорить о ловушках. Как после крымской кампании был предрешен вопрос освобождения крестьян, так после японской – конституция. Нашу тактику борьбы это разумеется сильно меняет.
Вошел Савинков, здоровался, а Гоц говорил.
– Вот возьми, например, хотя бы Ивана Николаевича с Павлом Ивановичем, им остается сказать «ныне отпущаеши». С террором кончено. Может ты другого мнения?
– Да, да, – повышенно быстро, даже неразборчиво, заговорил Чернов, – в этом ты прав, с террором надо повоздержаться, это верно, то есть не то, чтобы кончено совсем, – заметил он пренебрежительную улыбку Савинкова, – а надо держать под ружьем, чтобы в любой момент снова двинуть.
– Засолить, так сказать, впрок, – сказал Савинков.
– Уж там понимайте, с укропцем иль без укропца, а, конечно, подсолить придется.
Вошли Шишко, Авксентьев, Сухомлин, Фундаминский, Ракитников, Тютчев, Натансон, группа боевиков. Возбужденные, видимо только что спорившие. Войдя, сразу заговорили. Савинков сел в дальний угол комнаты. Говорил первым из них Шишко, страстно, как юноша, слегка пришепетывая. Кричал, что надо сейчас бросить партию к массам, широким фронтом вести наступление.
– Постой, Леонид, а террор?
– Террор? – остановился Шишко. – Что же террор? Террор пока конечно невозможен.
– Правильно! Держать под ружьем, но не приступать к действиям.
– Разрешите! – крикнул Савинков.
К нему обернулись. Одну руку Савинков заложил за широкий борт пиджака. Другая была в кармане. Вид был вызывающий. В фигуре пренебрежение. Не меняя позы, говорил, что надо бить правительство на улицах, в зданиях, на площадях, во дворцах и тогда вспыхнет настоящая Македония, о которой мечтал повешенный Каляев. Он был страстен и красив в своей речи.
– Надо понимать что такое террорист, надо знать, что престиж партии поднят террором, надо уметь не бояться славы террора, славы смерти наших товарищей. Только нанося удары ножом, револьвером и бомбой мы завоюем подлинный контакт с массами и подымем всероссийскую революцию. Я слышу речи, чтоб держать боевую под ружьем, «засолить». Как боевик, я протестую против такой оскорбительной постановки вопроса. Нас нельзя засаливать впрок! Мы не огурцы, мы революционеры, для нас психологически невозможна такая постановка вопроса! Мы дали партии славу, мы дали партии средства, так нечего ж, ослепившись какими-то конституциями, откидывать нас, как ненужный партии хлам! Мы отдали жизнь террору и, если я не ошибаюсь, мы террористическая партия! Мы не смеем склонять свое знамя в момент, когда его надо широко развернуть над Россией красным полотнищем и поднять ветер революции! Мы террористы-боевики мыслим так! Мы не дадим выбросить нас в самый острый момент за борт и тем погубить приобретенную славу партии освященную именами Сазонова, Каляева и других товарищей. Нет, я не верю, что свертывается знамя террора. Напротив мы должны дать, в гимне начавшейся музыки революции, могучее кресчендо! Пусть дадут задание совершить самый смелый, самый отчаянный акт! Мы возьмем его. Пусть скажут ворваться в Зимний с поясами, наполненными динамитом! Мы это сделаем. Во имя революции, во имя славы террора! И это произведет больший взрыв в стране, чем газетное объединение с массами. С массами объединяет кровь, а не типографская краска! Я не знаю, как решит ЦК, но думаю, что выражаю мнение всех боевиков и говорю от их имени: – мы не опустим знамя террора, которое вымочили в крови товарищей, которое нам свято! Мы хотим жертв и пойдем на них во имя всероссийской революции!!
Савинков чувствовал возбуждение от охватившего его подъема. Речь была удачна. На лицах боевиков он читал восторг. Не видел только лица Азефа. Азеф сидел спиной.
– Нечего мудрить над революцией, молодые люди, уж позвольте обратиться так, – встал старый Минор, потряхивая бородкой, – революции, батюшка, со стороны ничего не навяжешь, не прикажешь, спасительных рецептов ей прописывать нечего, она идет, она налицо и патетические речи Павла Ивановича художественно хороши, но не к лицу в данный момент. К чему тут револьверные выстрелы?
Савинков стоял бледный. Он ждал выступления Азефа. Встал Фундаминский, снял пенсне, заговорил гладко.
– Насущной задачей партии в данный момент является аграрный вопрос, разрешение которого будет исторической миссией партии. Террористическая борьба отжила свое, отнимая людей и средства, она ослабляет партию, и будет мешать разрешить главную экономическую задачу.
Савинков ждал речи Азефа. Заговорил Гоц, соглашаясь с Фундаминским, Сухомлин, соглашаясь с Гоцем, Натансон, соглашаясь с Сухомлиным, Авксентьев, соглашаясь с Натансоном. Последним встал Азеф. Его внимательно слушали все.
Он стоял, искривись толстым телом, не отрывая руки от кресла.
– Я буду краток, – рокотал он уверенно и твердо, – вмешательство в ход стихии социальных масс считаю гибелью. Мы помогали революции выйти из глухих берегов, она разливается. Мы должны заботиться, чтоб не быть оттертыми ею. Я шел с партией, отдавая свою жизнь. Теперь пора многое пересмотреть из программного и тактического багажа. Говорю, как будет достигнута конституция, стану последовательным легалистом. Что ж касается, чтоб держать под ружьем Б. О. – это слова. Держать под ружьем Б. О. нельзя. Я выслушал членов ЦК, и беру на свою ответственность: – боевая организация распущена!
Азеф грузно сел и взял с пепельницы недокуренную папиросу.
2
Когда кончилось собрание, крайне взволнованный Савинков подошел к Азефу.
– Что это значит, ты распустил Б. О.?
– А ты не слыхал все эти разговоры? Как же можно вести дальше дело? – Азеф ласково улыбнулся, похлопывая Савинкова по плечу:
– Не кручинься, барин, найдем работу.
К ним подошел Чернов.
– Иван, пойдемте закусим в «Либерте».
– Пойдем, Павел Иванович, выпьем за упокой Б. О. – гнусаво проговорил Азеф.
Чернов, Савинков и Азеф сидели в красноватом ресторанчике «Либерте». Красноват он был от красных лампионов, от пола, затянутого красным сукном. Стол был дальний. Народу в ресторане не было. Если не считать женщину и мужчину, целовавшихся в полутемной кабине.
– Ну и манифестик! Весь день проболтались, не заметили даже, что не ели. Это вам скажу манифестик! Настоященский! – говорил Виктор Михайлович.
Азеф ел, не слушая.
– Да, интересное времячко. Сам в Россию поеду, своими глазами прикину, как это выходит. Вести то хороши, да свой глаз ватерпас.
– Если будет настоящая конституция, нам работать не придется, – прохрипел Азеф, выплевывая жилы на тарелку.
– Что ты, Ваня, в таком пессимизме, кто же работать-то будет, а?
– Кадеты. Нас ототрут.
– Чудишь, толстый, чудишь, – проговорил Чернов. – Хотя знаешь, тебя кой кто из товарищей уже назвал: «кадет с бомбой».
– Вот увидишь.
– Нет, какую чудовищную ошибку совершает ЦК! Вы поймете это через полгода, через год, уверяю вас. Но тогда будет уже поздно, – говорил бледный, взвинченный Савинков.
– А вы всё о своем? Кто про что, кузнец про угли. Преувеличиваете, Павел Иванович, преувеличиваете, голубок. Ошибки не сделано. Правильно поступлено. Разумно, хладнокровно, хотя конечно… без эстетики… – улыбнулся Чернов.
– Дело тут не в эстетике, Виктор Михайлович, а в здравой политике. Бросаете террор, когда он нужнее всего. А если хотите насчет «эстетики», то скажу вам, что боевое дело надо понимать. Сейчас создалась боевая, а через год может ее и не создадите. Люди сжились, сработались, верят друг другу. Да наконец, люди отдали себя террору, а теперь что же? Писарями сделаете? У нас к террористу такое отношение – болезненно засмеялся Савинков, – нужен, иди, бей, взрывай, подставляй лоб, нужда кончилась – ко всем чертям, с тобой не считаются, а то, что может с бомбами свою душу выкинул, не в счет, сдачи не дается.
– Ах душа-душа, душа-то может она и хороша, да когда живет не спеша, кормилец, Борис Викторович. Дело тут у вас вижу не столько революционное, партийное, сколько личное, голубчик. Ну что же, личные драмы конечно, всякие бывают, ну влюбились в бомбошку и расставаться жалко, – смеялся Чернов, – а расстаться, хоть может и временно, а нужно, ничего тут не поделаешь. Дело то уж слишком ясное: – самодержавие, борьба, поэзия, романтизм жертвы, будить героизмом массы, это всё, батюшка, понимаем, дело неплохое к тому же красивое, прямо говорю красивое дело, за то и ореол носите «герой, мол», даром он ореол-то тоже не дается. Но вот открылись новые горизонты, вы и пасуете, бомбошку-то бросить жаль, жаль расстаться то с ней и с ореолом. Вы меня уж по дружбе то простите, ореол то вещь тоже притягательная, чего уж там говорить – все мы люди, все человек, рисовали поди красивую смерть, смерть за Россию, как Егор, как Иван, да… нет уж ничего тут не поделаешь. А насчет того чтобы в Зимний то вторгаться, взрываться с динамитными поясами, так это же такая отчаянная романтика, что ужас! Понимаю, конечно, хочется вам эдакое динамитное кресчендо произнести, без него, чудится, клякса выйдет, но это всё ни к чему, пустенькое предложение, личная драма, личная…
После плотной еды Азеф ковырял в зубах зубочисткой. Трудно было понять, слушает он или нет. Азеф смотрел в одну точку на сиденье пустого стула.
– Ну, хотя бы и личная – говорил Савинков, – понимаю, что ЦК всех личных драм на учет взять не может. Но дело то в том, что личная драма, как вы говорите, – драма всех боевиков, а их человек 50 в наличии, людей довольно надо полагать решительных, людей террор бросать не желающих. Скажите вы вот мне, что же я и товарищи должны теперь делать? Убить Дурново? Запрещаете. Убить Витте? Запрещаете. Убить Николая? Тоже, оказывается не ко времени. Так что же? – развел руками Савинков. – Может одного вы мне всё-таки не запретите? Подойти на улице к какому-нибудь жандарму Тутушкину и всадить в него последнюю пулю! Это ведь карт вашей игры, надеюсь, не смешает? А на мельницу революции всё же вода! Тутушкин не Дурново, не Витте, не царь всероссийский, пройдет незаметно, для меня же по крайней мере не будет изменой всему прошлому.
– Тут уж, ответить не берусь, дело ваше, хозяйское, – заливисто захохотал Чернов и потребовал рюмочку бенедиктину.
– Пойдем, – зевая гиппопотамом, проговорил Азеф.
– Погоди, толстый, посошок выпью и пойдем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?