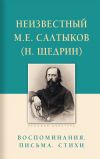Автор книги: Роман Якобсон
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Блюмкин был образованным человеком. Со мной он разговаривал тогда на тему «Авесты» – он занимался древнеиранским языком, у него были филологические интересы.
Второй раз это было в моей квартире в Праге [в двадцать седьмом году], когда я позвал Маяковского и Антонова-Овсеенко на блины116. Он читал стихи и, в частности, стихи о Горьком. Антонов-Овсеенко очень стал защищать Горького. Тогда Володя сказал: «Пожалуйста, но пусть приезжает. Чего он там сидит?» И он очень жёстко начал говорить о том, что Горький, в общем, – аморальное явление.
* * *
Когда избирали «Короля поэтов», я был в жюри. Предложил меня Маяковский. Мы ничего не делали, только подсчитывали голоса. Маяковский читал разные вещи, но явно было, что публика предпочитала Северянина. Было такое настроение – хотелось немножко бытовой радости в жизни. Когда подсчитали и на первом месте оказался Северянин, встал Бурлюк с лорнетом и сказал: «Объявляю настоящее собрание распущенным»117.
* * *
«Советскую азбуку» мы с Маяковским делали вместе. Когда у него был первый стих, а второй не приходил ему в голову, он говорил: «Заплачу столько-то, если ты хорошо придумаешь!» Там довольно много таких общих стихов.
Это его очень забавляло. Существовала такая гимназическая забава – похабные азбуки, и некоторые из этих стихов их слегка напоминают. Эти азбуки были рукописными или даже продавались из-под полы. Ассоциация была явной, и поэтому за эту азбуку на него страшно нападали.
Одна машинистка из хорошей семьи, которую он просил переписать это в каком-то учреждении, отказалась со слезами на глазах переписывать такие гадости, как:
Вильсон важнее прочей птицы.
Воткнуть перо бы в ягодицы.
Это очень типично для этих похабных азбук. Так что когда она огорчилась, явно стало, что она их знала118.
Маяковский при мне часто рисовал плакаты для РОСТА. Раз я даже помог ему найти какую-то рифму119. Но эта работа его не очень интересовала. Он старался это дело делать. Мы никогда с ним не говорили на тему, насколько он верил в то, что это серьёзно, а не халтура. Это же никуда не доходило, это же не печаталось, это же только в «Окнах» было выставлено! И большая часть этих острот была слишком трудной для понимания. Скорее, это было источником халтурного заработка120.
Агитационные стихи – это уже было другое, тут было что-то вроде заготовок на будущее время. Но Маяковский всё время думал, что вернётся к настоящему творчеству.
[В его стихах] есть много элементов пародийности. Сравните, например, «Пейте какао Ван-Гутена!» в «Облаке в штанах» с позднейшими стишками «В чём сила? – В этом какао». Это было почти дословное повторение, совершеннейшая пародия, так же, как «Клоп» был абсолютной пародией на «Про это»121. Он очень растерялся, очень много не знал – что писать, как писать? Если Вы возьмёте, например, стихи Есенину – это же стихи себе!
* * *
Летом восемнадцатого года я жил в деревне, близко от Воскресенского, и там писал какую-то работу. Когда приехал в Москву, я узнал, что меня ищут из Наркоминдела.
Велись переговоры между РСФСР и Украиной Скоропадского122. Возглавлял переговоры Раковский123. Шла речь о границах. Украинцы предложили исходить из языковых границ, установленных русскими учёными, и предъявили карту Московской Диалектологической Комиссии, где описывается ряд переходных говоров, и очень много отошло бы к Украине.
Искали авторов, а авторов было трое: Ушаков, Дурново и Соколов. Но это было летом, и никого из них не было в Москве. Тогда Богданов, секретарь Этнографического отдела Румянцевского музея, указал на меня, который тоже был членом Диалектологической Комиссии. Меня разыскали и спросили: «Слушайте, что это такое, эти границы?» Я ответил, что они далеко не бесспорные, что это рабочая гипотеза, что надо подходить к этому вопросу не исторически, а попытаться установить, куда эти переходные говоры относятся, и что оспорить всё это очень легко. «Вы могли бы это написать?» Я говорю, да. «Могли бы быстро?» – «Могу сегодня». – «Но могли бы Вы поместить подпись одного из авторов?» Я сказал, что Ушаков живёт в Подольском уезде и что это всё-таки довольно далеко. – «Вот Вам машина и шофёр, поезжайте к нему!»
Я поехал. Мы с Ушаковым всё обсудили. Оказалось, что на карте действительно были ошибки и неточности и что нельзя строить границы на этом. Мы составили вместе письмо. Я у него ночевал, и наутро машина отвезла меня обратно в Москву124.
В этот раз меня принял Владимир Фриче, который был, кажется, замнаркома125. Он очень горячо благодарил меня и предложил заплатить мне гонорар. Я сказал, что никаких денег мне не нужно, но что хворает отец и что мне надо родителей отправить за границу. Тогда сразу выписали им паспорта, и вскоре после этого они уехали.
* * *
Я посоветовал родителям поехать в Швецию, но вместо этого они задержались в Риге. А в Ригу пришла Красная Армия, и они мне прислали отчаянную телеграмму, чтобы я приехал их спасать.
Часть дороги пришлось ехать в теплушке, набитой красноармейцами, из которых некоторые прямо помирали. С одного из них перепрыгнула на меня вошь, и ровно через тринадцать дней я заболел сыпным тифом. Это меня задержало в Риге, а я хотел вернуться в Москву, где я был оставленным при Московском университете для подготовки к профессорскому званию.
Отец и брат переехали в другую квартиру, а в этой осталась моя мать, которая обычно не входила в комнату, где я лежал, потому что боялась заразы. У меня была местная сестра милосердия, которой платили. Я лежал три недели в тяжёлом, тяжёлом бреду, от которого потом год с трудом очухивался, с трудом стал вспоминать, что действительно, а что я видел в бреду.
Вдруг пришли с обыском три латышских чекиста с винтовками, двое мужчин и одна женщина, выяснять, каким образом в этой квартире находится буржуй. Им объяснили, что тут лежит больной. Не поверили. Вошли. А я вскочил в постели, когда увидал их, и заявил в бреду: «Именем Совнаркома приказываю всех троих предать высшей мере наказания!» Они испугались и потребовали документов. А документ был подписан Троцкой126, и они ушли. Это один из тех номеров, которые мне спасли жизнь.
Это было ранней весной девятнадцатого года. Когда выздоровел, я уехал в Москву во второй половине марта – такой бессильный ещё от болезни, что не мог даже подняться по ступенькам в поезд.
В Москве я поступил в Отдел изобразительных искусств Наркомпроса (ИЗО), где работал у Брика. Ося к моей работе относился очень благожелательно. Если я считал более важной ту работу, которую я делаю дома, если я пропускал два-три дня – он [не возражал]. Я назывался учёным секретарём, помогал в издательских вопросах.
Литературно-издательская секция ИЗО должна была выпустить энциклопедию127. Во главе секции стоял Кандинский, работал там Шевченко128 и итальянец Франкетти129, который потом эмигрировал в Италию. Брик и я участвовали в редакционном заседании, где обсуждались издания секции и, в частности, эта энциклопедия. Некоторые к ней горячо относились – Кандинский тогда написал автобиографию130, и многие писали разные статьи. Но Брик, со свойственной ему ядовитостью, сказал, когда ему показали роспись, кто о чём будет писать: «Это я понимаю – византийское искусство, специалист по византийскому искусству. Пятнадцатый век, специалист просто по пятнадцатому веку – труднее понять, но ничего. Но вот, что значит это – „Статьи на букву Б“? Что это за специалист? Ага, понимаю – специалист по списыванию с Брокгауза и Ефрона…»
Редакция попросила меня дать статью для этой энциклопедии, и я им предложил статью и даже написал записочку с содержанием: «Живописная семантика». Все были очень довольны, кроме Кандинского: «Что это такое? Непонятно!» Кандинский был в своём роде милый человек, культурный, немножко, несмотря на всё своё новаторство, эклектик – сочетание немецко-русское, что не очень рифмовалось. Но он был человек талантливый.
В Петрограде уже выходило «Искусство коммуны»131, и решили, что надо издавать газету в Москве. Не было редактора, и я им привёл редактора, совершенно ещё безусого мальца, Костю Уманского. Но он принялся за это дело и делал эту газету хорошо. Он был очень способный человек и напечатал потом книгу по-немецки об авангардном искусстве – неплохая книга для того времени132. Потом он стал дипломатом и был первым советским послом в Мексике.
Я из ИЗО ушёл очень рано, в августе.
* * *
По приезде из Риги я работал с Хлебниковым. Мы готовили вместе двухтомник его сочинений133. Когда я приехал, Хлебников был в Москве. Он меня очень сердечно принял, и мы часто виделись. Когда мы оставались вдвоём, он много говорил – а так он больше молчал. И он говорил интересные вещи – например, как фразы, построенные без всякого юмора и без всякого намерения иронизировать, становятся издёвками: «Сенат разъяснил» – это действительное выражение, а потом «разъяснил» получило значение, что «лучше бы не разъяснял». Он приводил несколько таких примеров.
Он говорил, прыгая с темы на тему. Он очень радовался, что я готовлю его книгу, потому что он знал, как я к нему отношусь, и он знал, что у меня была очень хорошая память.
Так называемое «Завещание Хлебникова» – это не завещание, а просто список, который мы вместе составляли, – то, что он хотел, чтобы туда вошло134. Мы решили, что ему надо сказать что-то от себя. Как назвать? Я ему предложил назвать предисловие «Свояси». Это ему очень понравилось. Одно время я колебался: может быть, вместо «Свояси» – «Моями», но это как-то не понравилось по звучанию.
Хлебников очень резко относился к изданиям Бурлюка. Он говорил, что «Творения» совершенно испорчены, и он очень возмущался тем, что печатали вещи, которые были совсем не для печати, в частности, «Бесконечность – мой горшок / вечность потиралка / Я люблю тоску кишок / Я зову судьбу мочалкой»135. И он многое исправлял, и в рукописях, и в печатных текстах. Он был против хронологии Бурлюка, которая была фантастическая, но это его не так трогало – его трогали главным образом тексты и разъединение кусков.
Было очень интересно работать с ним над этим. Мы часто встречались. Я сидел у Бриков постоянно, а изредка Хлебников ко мне заходил. Однажды мы были далеко от центра, на одной из маленьких выставок, устроенных ИЗО, – выставке произведений Гумилиной136. Мы говорили о живописи, был очень интересный разговор, и мы шли пешком ко мне в Лубянский проезд. Я ему предложил подняться ко мне. Мы продолжали разговаривать, а вдруг (это было вскоре после сыпного тифа) я себя почувствовал совершенно усталым, лёг и уснул. Когда я проснулся, его уже не было.
Это была наша последняя встреча. Потом он уехал137. Это никогда нельзя было предвидеть. Ему вдруг хотелось уехать куда-нибудь; у него был кочевой дух. Если бы он тогда не уехал, возможно, что мы бы довели до конца эти два тома. Объяснить это было невозможно. Это не потому, что он голодал, – у Бриков его всё-таки подкармливали. Может быть, Лиля ему сказала что-нибудь обидное, это бывало… Он был очень трудный жилец.
Моё предисловие к сочинениям называлось тогда «Подступы к Хлебникову» и было издано потом в Праге под названием «Новейшая русская поэзия»138. Это предисловие я читал в мае девятнадцатого года, у Бриков, на первом заседании Московского лингвистического кружка после Октябрьской революции139. Хлебникова не было в Москве, он уже уехал на юг. Был Маяковский, который выступил в прениях. Лиля почему-то опоздала и спросила: «Ну, как было?» – и Маяковский сказал соответствующее горячее слово.
Тогда были очень крепкие отношения с Хлебниковым, с обеих сторон. Было ясно, что я ему был ближе, чем Брики. Бриков он как-то немножко побаивался, сторонился.
Очень сложные были его отношения с Маяковским. Маяковский с ним говорил немножко наставительнолюбезно, очень почтительно, но в то же время держал его на расстоянии. Он относился к нему напряжённо, но одновременно восторгался им. Всё это было очень сложно. Ведь есть очень сильное влияние Хлебникова на Маяковского, но есть и сильное влияние Маяковского на Хлебникова. Они были очень разные. Я думаю, что Маяковского больше всего подкупали в Хлебникове какие-то мелкие отрывки, которые были необычайно целостны и сильны. А о Маяковском я от Хлебникова никогда ничего не слыхал, по крайней мере, ничего не помню.
Никогда не забуду, как во время работы над хлебниковскими поэмами на столе лежал открытый лист рукописи с отрывком «Из улицы улья / пули как пчёлы. / Шатаются стулья…»140 Володя это прочёл и сказал: «Вот если бы я умел писать, как Витя…»
Я ему раз это напомнил, и напомнил жестоко. Я на него очень сердился, что он не издавал Хлебникова, когда мог и когда получили деньги на это141, – и не только не издавал, но написал: «Живым бумагу!»142. Он ответил: «Я ничего такого никогда не мог сказать. Если бы я так сказал, я бы так думал, и если бы я так думал, я перестал бы писать стихи». Это было в Берлине, когда мне нужно было устроить так, чтобы нашлись рукописи Хлебникова – это была идиотская история, которая, конечно, взорвала Маяковского и очень обозлила его. Он не помнил, что случилось с рукописями, ничего об этом не знал. На самом деле он был совершенно ни при чём. История была такова.
Я боялся за рукописи Хлебникова. Квартира моих родителей была, после их отъезда, передана Лингвистическому кружку. Там стояли ящики с книгами Кружка, были полки, и остался без употребления несгораемый шкаф отца. В этот несгораемый шкаф я положил все рукописи. Там были и другие вещи, в частности, мои рукописи.
После смерти Хлебникова я получил от художника Митурича письмо [с просьбой] помочь [выяснить], что сделал Маяковский с рукописями Хлебникова. Я совершенно растерялся. Я знал, что к этому Маяковский никакого касательства не имел. Он их в руках не держал, кроме того случая, о котором я рассказывал, когда он их просто на месте прочёл. Я сейчас же [из Праги] написал своим друзьям из Кружка, в частности Буслаеву, которому я дал ключ от шкафа. А он ключа не мог найти. Тогда я сообщил, что прошу вскрыть шкаф – пусть его уничтожат, мне до этого дела нет. Мне написали, что это будет стоить большую сумму. Я ответил, что всё заплачу, и послал деньги каким-то путём. Вскрыли шкаф и нашли рукописи143. Они все сохранились. Что не сохранилось – потому что не находилось в шкафу – это были мои книжки с сочинениями Хлебникова, где он своей рукой вносил поправки, частью заполняя пропуски.
Никогда не бывало, чтобы Хлебников говорил резко о ком-нибудь. Он был очень сдержан и очень, так сказать, сам по себе. Он был рассеянным человеком, каким-то бездомным чудаком до последней степени.
Хлебниковым вообще восторгались, понимали, что он очень крупен. [Но] у Бриков нельзя было сказать тогда, что Хлебников больше Маяковского – но где такие вещи можно сказать? Для меня же было совершенно естественным заглавие лекции Бурлюка «Пушкин и Хлебников»144. Я его принял совершенно и всецело. Думаю, что его ещё по-настоящему не приняли – его ещё откроют. Для этого нужно хорошее издание – по изданию Степанова нельзя его читать. Его [глубоко] понимал Кручёных, который, однако, целый ряд вещей принимал только на веру – «Неужели Вам может нравиться „Вила и Леший“? Это – так».
Больше всего значил Хлебников для Асеева, который был в восторге от него. А совершенно чужд он был Пастернаку – об этом не раз с ним приходилось говорить. Пастернак говорил, что он Хлебникова совсем не понимает.
* * *
Маяковский очень любил Пастернака, а у меня в ранний период к Пастернаку было довольно двойственное отношение – интересный поэт, но совсем другой калибр. Помню, как Володя с восторгом читал «Вчера я родился. Себя я не чту…» из сборника «Поверх барьеров». Многими стихами из «Поверх барьеров» он, наизусть повторяя, восторгался, но наибольшее впечатление на него произвела «Сестра моя – жизнь».
Пастернак уже читал Маяковскому целый ряд стихотворений из этой книги, и Маяковский однажды позвал его к Брикам читать. Был ужин с питием – такой настоящий ужин, обрядовый – в то время это было редкостью. Были, кроме Бриков и Пастернака, Маяковский и я.
Он читал с невероятным увлечением, от первой страницы до последней, всю «Сестру мою – жизнь». Это произвело совершенно ошеломляющее впечатление, особенно «Про эти стихи», потом все эти колеблющиеся, ветреные стихи, как «В трюмо испаряется чашка какао» и, в частности, сама «Сестра моя – жизнь». Все это приняли восторженно145.
С этого момента я очень ценил Пастернака. Трубецкой меня осуждал за то, что я считаю его большим поэтом. Он был товарищем Пастернака по университету и считал, что он второстепенный поэт. Но всё-таки я написал, будучи совершенно в этом уверен, что настоящие два поэта – исторически – это Хлебников и Маяковский. Потом я перечисляю Пастернака, Мандельштама и Асеева146.
После этого чтения Ося мне говорит: «Самое смешное, что Пастернак думает, что он философ. А ведь философски это ерунда. Это большие стихи, но философски эти стихи, и его, и володины, ничего не стоят». Брик вообще считал, что поэты не умны: «Ведь ты посмотри на письма Пушкина жене – дворник интереснее пишет жене. Такие письма, как Пушкин жене пишет, Володя Лиличке пишет. Совершенная пошлость, потому что всё настоящее ушло в стихи».
Помню, как после собрания ИМО мы шли с Малкиным147 по одному из московских бульваров. Володя очень иронически по моему адресу спросил Пастернака: «Вот Рома не понимает, для него это стихи, а по-моему, это просто проза: „Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, солнца ладонь на голове моей…“148 – где же рифма?» И Пастернак, к моему удивлению, сказал: «Для меня стихов без рифмы не существует». Было поразительно как они оба передо мной отстаивали это, подробно. Раньше этого в России не было, даже у Блока этого нет.
Пастернак был очень разговорчив, до болтливости. В нём было немного самолюбования, но всё время было горение. Он жил этим, и это могло утомить. Постоянно натянутые струны, но абсолютно искренно, абсолютно откровенно – что из этого будет? Чья это вина? Что мы должны сделать? Он был очень живым человеком, а также человеком целиком из нервов, в чём угодно – в музыке, в отношении к женщинам, в отношении к поэзии, в отношении к событиям, в отношении к долгу поэта.
Мы не переписывались. А когда я ему послал свою статью о нём149, я получил от него письмо страниц в сорок. Оно погибло – когда я уехал из Чехословакии в 1939 году, я его оставил одному своему ученику, который из страха его уничтожил. В этом письме Пастернак говорил о себе, о своей жизни и о том, какое громадное впечатление произвела эта статья, что впервые он увидел, что его понимают. Это же он рассказывает в письме Йосефу Горе. И он писал о том, каким сильным переживанием было для него видеть свои стихи, которые перевёл Гора, и свою прозу, которую перевела моя жена, на другом славянском языке150. Это было не то же, но и не чужое. Для него был момент, когда он не мог оторваться от своих прежних стихов и не мог перейти к другим. А чешские переводы открыли ему эту возможность, потому что они ему показали, что возможен сдвиг.
Потом он писал так: «А знаете, Роман Осипович, я всё больше прихожу к убеждению, что у нас, да и не только у нас, сейчас, а может быть и не только сейчас, жизнь поэта, а может быть и не только поэта, пришлась не ко двору»151. Это замечательная фраза.
Пастернаку нравилось то, что я не поэт, а лингвист, близкий к поэзии, – то, собственно говоря, что всегда создавало мне близость к поэтам, а не к лингвистам. Это была близость с русскими поэтами – Маяковский, Хлебников, Пастернак, Асеев – и Кручёных, а к нему я никогда не относился как к поэту; мы переписывались как два теоретика, два заумных теоретика. Потом с чехами – с Незвалом, с Сейфертом и с Ванчурой, отчасти с Библем152. И в Польше с Юлианом Тувимом и с Вежиньским; во Франции с Арагоном153.
* * *
Мои родители жили на третьем этаже в доме Стахеева № 3 в Лубянском проезде. Я жил в том же доме, этажом выше, где снимал комнату у наших знакомых, доктора Гурьяна с семьёй154, но ходил к родителям столоваться, пока они ещё были в Москве. Когда они уехали, летом восемнадцатого года, я поселил туда разных своих знакомых лингвистов, например Афремова155 с семьёй. А гостиную оставили, с той же мебелью, только расставили книги для Московского лингвистического кружка, и это стало помещением Кружка.
Там я прятал Виктора Шкловского, когда за ним гнались по пятам. Он был левым эсером, взрывал мосты. Я его положил на диван и сказал: «Если сюда придут, делай вид, что ты бумага, и шурши!» Это у него напечатано в «Сентиментальном путешествии», где «архивариус» это говорит156. Он пытался уйти и спастись, и где-то увидел, что его ищут. Тогда ещё существовал храм Христа Спасителя и кругом был густой кустарник. Он спрятался и спал в этом кустарнике и пришёл весь в колючках157. Затем он пришёл ко мне и рассказал, что ему удалось получить от кого-то бумагу на имя Голоткова и что надо написать на машинке ответы по разным пунктам. Это он у меня писал, и меня поразила его находчивость: он посмотрел на дату, которая значилась на бумаге, и писал по старой орфографии сообразно, так как новая орфография в то время ещё не распространялась. Потом он собирался в путь от меня, уже как Голотков, и разделся догола, гримировал голову, сбривал волосы, совершенно менялся158. В это время ко мне зашёл мой учитель, профессор Николай Николаевич Дурново, который видел голого человека, который бреется, красится, ни о чём не спрашивал, – тогда спрашивать не полагалось, – ничему не удивился и начал мне говорить по поводу своих находок в каких-то древнерусских рукописях (по-моему, он упомянул Остромирово Евангелие). И вдруг удивление: человек этот сделал какие-то филологические замечания.
Шкловский понял, что он далеко [уйти] не может, но добрался до Ларисы Рейснер, которая его знала. Ларисе Рейснер он объяснил, что его ловят и что ему беда. Она, взяв с него слово, что он ничего дурного не станет делать, оставила его у себя, а сама поехала и привезла ему бумагу, подписанную, если не ошибаюсь, Троцким, – «каждый, который позволит себе наложить руки на носителя этой бумаги, будет покаран». Таким образом он тогда вылез из этого159.
Когда Шкловский попался и его должны были судить на процессе эсеров в 1922 году, он сбежал в Финляндию160. А в Финляндии были всякие неприятности, и ему нужно было доказать, что он не большевик. Тогда он обратился к Репину с письмом, где он попросил его заступиться. Репин ему ответил письмом, которое хранилось у меня (когда Шкловский уехал [в Москву], он оставил его у меня, и я его передал в Славянскую библиотеку – Slovanska knihovna – в Праге; весь этот архив потом забрали русские). Письмо было короткое, характерным крупным репинским шрифтом написанное: «Как же Вас не помнить? Вы мне всегда нравились, напоминали [я не помню теперь, кого – не то Сократа, не то кого-то другого. – Р.Я.] своим видом. Но Вы пишете, чтобы я удостоверил, что Вы не большевик, и пишете мне это письмо боль шевистской орфографией. Как же я Вас стану защищать?» И он не вступился за него.
* * *
Однажды Володя мне говорил, что у Бриков тесно: «Когда мне хочется писать, мне нужна своя комната». На четвёртом этаже в доме Стахеева, над квартирой моих родителей, на той же площадке, где жил я, жил один Бальшин161. Это был некрупный буржуй, очень добродушный, но недалёкий человек. И он в это время обратился ко мне: «Боюсь, меня будут уплотнять. Нет ли у Вас какого-нибудь хорошего, смирного жильца?» – «Есть». – «Кто это?» Я говорю: «Володя Маяковский». Бальшин никогда не слыхал о Маяковском. «Где он работает?» Я говорю, что в РОСТА работает (но не говорил, что он поэт). «А тихий человек?» – «Да, тихий». – «Ну, познакомьте!» Я их познакомил, и при мне произошла следующая сцена.
Маяковский сейчас же соглашается. Дверь прямо в переднюю, можно сразу выйти. Бальшин сообщает, сколько это будет стоить, а Маяковский говорит: «Что Вы, что Вы, это мало!» и предлагает ему большую сумму. Тогда Бальшин устроил ему всё, что было пошикарней и, в частности, навешал в комнате разные ужасные картины. И когда Маяковский пришёл, он сказал: «Уберите предков!» Бальшин убрал162.
Бальшин поставил ему ещё пианино с золотыми, так называемыми свадебными свечками. Это Маяковский принял. Потом он мне рассказывает: «Вот что произошло: ночью электричество погасло, а я стихи пишу (он тогда писал „150.000.000“). У меня как раз настроение стихи писать – и темно. Я вспомнил про эти свечи и до утра их сжёг». Бальшин страшно возмущался этим.
Бальшин спекулировал на чёрном рынке, и у него был телефон. Он заплатил довольно большие деньги, чтобы телефон можно было переносить. И он страшно сердился на Маяковского: «Вот он со своей Лиличкой по телефону говорит – говорит, говорит, потом уйдёт, дверь запрёт за собой, а телефон остался. Я слышу, мне звонят, а подойти не могу». Бальшин тогда опять нанял рабочего, который прикрепил телефон к стене, так что Маяковский не мог его забрать. Маяковский ночью вернулся, пошёл взять телефон, рванул его – телефон не поддаётся, он сильнее рванул – не поддаётся. Тогда он его вытащил с куском стены и понёс к себе.
Бальшин, хотя и ругал Маяковского, любил его необычайно. Он плакал как ребёнок, когда Маяковский покончил с собой. Он горячо к нему привязался, и Маяковский к нему по-своему тоже.
* * *
Лето девятнадцатого года я провёл в Пушкине вместе с Маяковским и Бриками163. Был досуг. Сидели, читали, писали. Я тогда занимался рифмами Маяковского, и Лёва Гринкруг164, который тут же сидел, сказал иронически: «Все мы увлекаемся Маяковским, но для чего его рифмы выписывать?» Меня тогда увлекал вопрос о сдвиге рифмы от окончания к корню, вопрос о структуре рифм в отношении к их значению, в отношении к синтаксису. Чуть-чуть я коснулся этого в своей статье о Хлебникове, но подробно к этому я никогда не вернулся, только в лекциях.
Из разговоров в Пушкине мне запомнилась большая дискуссия о необходимости развернуть печатную работу ОПОЯЗа и Московского лингвистического кружка. Между этими институциями было некоторое соперничество, и Брик, который вначале был больше связан с питерцами тут перешёл к нам. В Московском лингвистическом кружке тогда многое делалось по поэтике, и это отличалось от того, что делалось в ОПОЯЗе. Московский лингвистический кружок был всё-таки в первую очередь лингвистический кружок, и лингвистика играла там очень большую роль. Маяковский очень интересовался структурой стихов, говорил со мной много об этом, расспрашивал.
В Пушкине я написал первый набросок своего разбора «А и горе, горе – гореваньице!», который потом, в Америке, вышел как часть большой работы о параллелизме165. Я тогда много работал. Некоторые работы остались незаконченными – о рифме, о выкриках разносчиков: «Зеленщик приехал, зеленщик подкатил, горох, морковку, огурцы прихватил!» и так далее. Меня интересовало в них минимальное, элементарное проявление поэзии.
Тогда же я работал с Богатырёвым. Мы хотели писать книгу о структуре народного театра – эта наша работа потом легла, до известной степени, в основу его книги о народном театре166.
Как-то мы ужинали вчетвером – Брики, Володя и я – на балконе. Ели кашу. Брик только что вернулся из Москвы. И он, с деланной серьёзностью и в то же время чуточку иронически, сказал: «Да, вот, Володя, сегодня ко мне [в ИЗО] приходил Шиман и развернул передо мной целую серию зарисовок, сделанных Гумилиной с тебя и с неё», с намёком, что они были очень личного и эротического характера – не помню, в каких терминах он это сказал, но это было сказано167. Лиля наверно знала, кто такая Гумилина, но она встрепенулась: «Кто это, что это, в чём дело?» – «Это была жена его, – говорит Ося, – она покончила с собой». Было общее несколько нервное настроение, и Володя с деланным цинизмом сказал: «Ну, как от такого мужа не броситься в окно?» А Ося сказал: «А я ему говорю: „Что Вы ко мне приходите? Может быть, это Маяковского интересует? Меня это не интересует“».
Меня всё это поразило, особенно тон Маяковского. По-моему, совершенно ясно, что это [самоубийство] фигурирует в сценарии «Как поживаете?»168.
Гумилину с Маяковским я видел раньше. Эльза намекнула, что она увлекалась Володей, и дала мне прочесть её «Двое в одном сердце» – лирическую прозу, довольно яркую. Гумилина была талантливая женщина, очень хорошая художница. На всех её картинах была изображена она сама и Маяковский. Хорошо помню одну картину: комнату под утро, она в рубашке сидит в постели поправляет, кажется, волосы. А Маяковский стоит у окна, в брюках и рубашке, босиком, с дьявольскими копытцами, точно как в «Облаке» – «Плавлю лбом стекло окошечное…». Эльза мне говорила, что Гумилина была героиней последней части «Облака в штанах».
Впервые я видел Гумилину у Эльзы в начале осени шестнадцатого года – когда уже было написано «Двое в одном сердце». Володя сердился, что Эльза её пригласила. Была вечеринка, и мы сильно пили. Был Володя, была Гумилина, был, если мне не изменяет память, брат Гумилиной, и была одна очень хорошенькая, совсем молоденькая девушка, Рита Кон, которая тогда училась в балете.
* * *
О «150.000.000» я услышал впервые в начале лета девятнадцатого года, в Пушкине. Маяковский предложил мне выступить в качестве секретаря ИМО (издательства «Искусство молодых»), и в издательском плане он отстаивал: «„Иван“. Былина. Эпос революции» без указания автора169. А мне он сказал: «Вот увидишь, что это такое!»
Из Пушкина мы как-то уехали вместе в Москву по какому-то делу. Володя не хотел сидеть в вагоне – он очень боялся сыпного тифа, – и мы стояли между вагонами, на скрепах. Вдруг мне Володя говорит: «Слушай: та́, та, та – та́, та, та́ – та, та, та́ – та, та, та́ – та, та, та́ – та, та – как это называется? Это не гекзаметр?» Я говорю, что, кажется, гекзаметр. «Как ты думаешь, эпос начать этим – подходит или нет?» Это было, как я узнал потом: «Сто пятьдесят миллионов мастера этой поэмы имя».
Когда мы доехали до Москвы, я хотел сходить, а Володя говорит: «Подожди, пока все эти люди выйдут». Я говорю: «Почему?» – «Не люблю толпы». – «Ты? Поэт масс!» Он ответил: «Массы – одно, толпа – другое».
У Маяковского была страсть – собирать грибы. И мы с ним пошли собирать грибы – это было тогда существенно, потому что еды было не так много. Вдруг он меня отгоняет: «Иди в сторону, потом будем разговаривать». Сперва я подумал, что он боится, чтобы я не перенял какое-нибудь грибное место у него. А на самом деле, как он мне потом объяснил, он считает, что лес [и грибы] – самое лучшее место и занятие для того, чтобы обдумывать стихи. Это он писал «150.000.000».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!