Читать книгу "Расколотое «Я»"
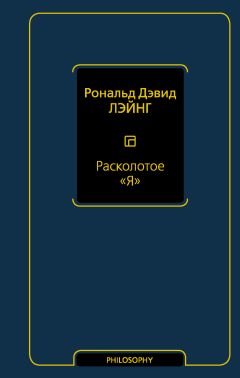
Автор книги: Рональд Дэвид Лэйнг
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
При таком поражении личностной автономии налицо как провал стремления ощущать себя личностью в сообществе других, так и безуспешность попыток сберечь это ощущение в одиночку. Налицо неудача при поддержании ощущения собственного бытия в отсутствие других людей. Это неумение быть самому по себе, неумение существовать в одиночестве. Как выразился химик Джеймс: «Другие люди наделяют меня моим существованием». По-видимому, это утверждение прямо противоречит вышеупомянутому страху по поводу того, что другие люди лишат его существования. Но, будь они сколько угодно противоречивыми или абсурдными, две эти позиции в ее сознании благополучно уживались, а в целом они чрезвычайно характерны для такого типа личности.
Способность воспринимать себя автономно означает, что человек и вправду пришел к осознанию собственной отделенности от всех остальных. Не имеет значения, насколько сильно я привязан в радости или в горести к кому-то еще, этот человек – не я, а я – не он. Пусть ему будет одиноко или грустно, однако человек вполне способен существовать один. Тот факт, что другая личность в собственной актуальности не является мной, противопоставляется не менее реальному факту, гласящему, что моя привязанность к нему есть часть меня. Если он умирает или уходит, то исчезает, но моя привязанность к нему сохраняется. Ведь я не могу умереть смертью другого человека вместо него, а он не может умереть вместо меня. Если так (вспомним комментарий Сартра к рассуждению Хайдеггера[43]43
М. Хайдеггер в «Бытии и времени» рассуждает о том, что «бытие-друг-с-другом в людях есть… напряженное, двусмысленное друг-за-другом-слежение, тайный взаимоперехват. Под маской друг-за-друга разыгрывается друг-против-друга» (перевод Д. Лебедева). Ж.-П. Сартр в «Бытие и ничто» дополняет, что «первоначальное отношение другого с моим сознанием не есть отношение ты и я; именно мы и хайдеггеровское бытие-с не являются ясной и отчетливой позицией одного индивида напротив другого, не есть познание; это смутное совместное существование одного игрока в команде со своими товарищами» (перевод В. Колядко).
[Закрыть]), он не может и любить вместо меня или принимать за меня решения, а я сходным образом не могу делать этого за него. Если коротко, он не может быть мной, а я не могу быть им.
Если индивидуум не ощущает себя автономным, это означает, что он не может обычным образом воспринимать ни свою отделенность от другого, ни взаимосвязанность с ним. Отсутствие ощущения автономии подразумевает, что человек считает, будто его бытие замкнуто в другом или что другой замкнут в нем – в том отношении, что наблюдается нарушение границ фактических возможностей в структуре человеческих связей. То есть ощущение своей онтологической зависимости от другого (зависимости своего бытия от другого) заменяется ощущением близости и привязанности к этому другому вследствие подлинной взаимности. Предельные отстраненность и изолированность видятся единственной альтернативой моллюско– или вампироподобной привязанности, при которой «жизненный кровоток» другого необходим для собственного выживания, но в то же время олицетворяет угрозу этому выживанию. Поэтому противоположными полюсами здесь выступают скорее полная изоляция и полное слияние индивидуальностей, а не отделенность и связанность. Индивидуум постоянно колеблется между двумя крайностями, причем обе они в равной степени недостижимы. Он словно превращается в ту механическую игрушку, которая обладает положительным тропизмом, что вынуждает откликаться на стимул; но в определенной точке встроенный отрицательный тропизм направляет игрушку в обратную сторону, а далее снова вступает в действие положительный тропизм; такие колебания повторяются ad infinitum[44]44
До бесконечности (лат.).
[Закрыть].
Наш химик Джеймс утверждает, что другие люди необходимы для его существования. Еще один пациент, мучимый теми же базовыми ощущениями, вел себя следующим образом: он месяцами хранил изолированную обособленность от мира, проживал один, существовал на скромные сбережения и грезил наяву. Но по этой причине он начал ощущать, что внутренне умирает: он все больше и больше опустошался и сознавал, что его жизнь «последовательно нищает». Во многом его гордость и чувство собственного достоинства при таком существовании замыкались на себе, но, когда состояние деперсонализации стало усугубляться, он на короткий срок позволял себе снова окунуться в общественную жизнь, чтобы «получить дозу» общения с другими людьми – без «передозировки». Он уподобился алкоголику, который продолжает пьяные оргии в промежутках между минутками трезвости, вот только в данном случае его пристрастие – которого он боялся и стыдился, как любой раскаивающийся алкоголик или наркоман, – было к другим людям. Очень скоро он начинал ощущать, что возникла угроза угодить в ловушку и быть пойманным этим кругом общения, и тогда снова удалялся в изоляцию в смятении чувств, среди которых преобладали испуг, тоска, подозрения и стыд.
Некоторые вопросы, обсужденные выше, можно проиллюстрировать следующими двумя случаями.
Случай 1. Тревога от ощущения одиночестваЗатруднение миссис Р. сводилось к тому, что она боялась выходить на улицу (это форма агорафобии). При ближайшем рассмотрении стало ясно, что тревога возникает, когда она начинает ощущать себя самостоятельной на улице или где угодно. Она могла быть самостоятельной, пока не начинала воображать, будто осталась совсем одна.
Вкратце ее история такова. Она росла единственным и одиноким ребенком. Нельзя сказать, что в семье ею открыто пренебрегали или относились к ней враждебно. При этом она постоянно чувствовала, что родители чересчур поглощены друг другом для того, чтобы обращать внимание на дочь. Ее снедало желание залатать эту дыру в своей жизни, но она нисколько не преуспела, не стала самодостаточной личностью и не погрузилась в собственный мир. Она всегда хотела стать важной и полезной для кого-нибудь еще, ей всегда требовался кто-то другой. Она мечтала о том, чтобы ее любили и обожали, но в отсутствие любви была готова к ненависти – лучше так, чем оставаться незаметной. Она хотела стать значимой хоть для кого-то в любом качестве, отталкиваясь от тяжких воспоминаний о детстве, когда родители ее фактически игнорировали, не любили и не ненавидели, не обожали и не стыдились.
В итоге, рассматривая себя в зеркале, она никак не могла убедить себя в том, что она – настоящая. Ее преследовал страх, будто за образом в зеркале на самом деле никого нет.
С возрастом она изрядно похорошела и вышла замуж в семнадцать лет за первого мужчину, который по-настоящему ее заметил. Что показательно, у нее сложилось впечатление, что родители не обращали внимания на жизнь дочери до тех пор, пока та не объявила о помолвке. В тепле мужской заботы она расцвела и обрела уверенность в себе. Но ее муж был офицером, и вскоре его отправили за границу. Она не смогла его сопровождать, а разлука вызвала у нее сильную панику.
Здесь нужно отметить, что реакцией на отъезд мужа была не депрессия и не печаль, в которой она бы тосковала или скучала по нему. Нет, это была паника (как я предполагаю) из-за пропажи в жизни чего-то, что было обязано своим существованием присутствию мужа и его вниманию. Пациентка была как цветок, что увядает в один день без дождя. Впрочем, ей помогла справиться внезапная болезнь матери. Отец попросил ее срочно приехать, чтобы ухаживать за матерью. Весь следующий год, пока мать болела, она, как никогда, была (по ее словам) самой собой. Она стала опорой дома. Паника сгинула бесследно, и так продолжалось до смерти матери, когда перспектива покинуть место, где она наконец стала важной, и присоединиться к мужу заняла все ее мысли. Опыт последнего года побудил ее впервые ощутить, что она – действительно ребенок своих родителей. А вот положение жены своего мужа казалось чем-то излишним.
Примечательно отсутствие горя при смерти матери. В ту пору она начала обдумывать, каково жить в этом мире одной. Ее мать умерла, потом умрет отец, вероятно, погибнет муж; а «после этого – ничего». Это не угнетало, а пугало.
Наконец она присоединилась к мужу за границей и на протяжении нескольких лет вела веселую жизнь. Она жаждала всего того внимания, какое муж способен был ей уделять, но внимания с его стороны становилось все меньше. Она не ведала покоя и страдала от неудовлетворенности. Их брак распался, и она вернулась в Лондон, к отцу. Пока жила с отцом, она стала любовницей и натурщицей одного скульптора. Так она прожила не один год до встречи со мной, уже в возрасте двадцати восьми лет.
Об улице она говорила так: «На улице люди идут по своим делам. Редко встретишь кого-то, кто тебя узнает; даже когда такое случается, тебе просто кивают и проходят дальше, в лучшем случае болтают с тобой пару минут. Никто не знает, кто ты такая. Каждый погружен в себя. Никому нет до тебя дела». Она вспоминала, как прохожие падали в обморок, а остальным это было безразлично. «Всем было наплевать». Именно в такой обстановке и с такими мыслями в голове она стала ощущать тревогу.
Эта тревога выражалась в страхе очутиться одной на улице – или, вернее, остаться одной вообще. Если она выходила из дома с кем-то, кого знала, или встречалась с кем-то, кто ее знал, ощущения тревоги не возникало.
В квартире отца она часто оставалась одна, но там все было совершенно иначе. Там она никогда не ощущала себя по-настоящему самостоятельной. Она готовила отцу завтрак, убирала постели и мыла посуду, сознательно затягивая это занятие. Середина дня была самой тяжелой, но пациентка мирилась с этим: «Все было знакомо». Вот отцовское кресло, вот полка с его трубками, вот на стене портрет матери, глядящей сверху вниз. Все эти знакомые предметы словно каким-то образом населяли дом, заставляли ощущать присутствие людей, которые владели и пользовались этими вещами при своей жизни. А потому, находясь в квартире в одиночестве, она неким магическим образом всегда была с кем-то. Но магия рассеивалась в шуме и анонимности многолюдной улицы.
Безличное и беспристрастное применение к случаю этой пациентки методов так называемой классической психоаналитической теории истерии позволит, пожалуй, утверждать, что эта женщина бессознательно, либидозно была привязана к своему отцу, вследствие чего ощущала подсознательную вину и испытывала подсознательную потребность в наказании и (или) страх наказания. Ее неспособность установить длительные либидозные отношения с кем-то, кроме отца, доказывают, как можно посчитать, эту точку зрения, наряду с ее решением жить вместе с отцом и занять тем самым место матери; не забудем также, что она, двадцативосьмилетняя женщина, большую часть дня думала именно об отце. Преданность матери в последний год ее жизни можно трактовать как частичное следствие бессознательной вины за двойственность отношения к матери, а тревога после смерти матери видится тревогой из-за воплощения бессознательного желания – смерти матери, и т. д[45]45
Крайне ценный психоаналитический вклад в изучение формирования «истерических» симптомов внесла книга Сигал. – Примеч. автора. Ханна Сигал (1918–2011) – британский психоаналитик, исследовательница психологии искусства и проявлений шизофрении. См. Библиографию в конце книги.
[Закрыть].
Впрочем, важнейшее, ключевое событие в жизни этой пациентки невозможно обнаружить в ее «бессознательном». Это событие очевидно – как для нее самой, так и у нас (хотя не стану утверждать, что пациентка осознавала в отношении себя очень многое).
Ключевое событие, вокруг которого сосредотачивалась вся ее жизнь, – это отсутствие онтологической автономии. Если рядом с пациенткой нет других людей, которые ее знают, или если она не в состоянии мысленно вызвать присутствие такого человека в его отсутствие, ощущение собственной индивидуальности от нее утекает. Она паникует из-за растворения своего бытия в ничто. Она уподобляется фее Динь-Динь[46]46
Динь-Динь – персонаж литературной сказки Дж. Барри «Питер Пэн», фея, которая чуть не погибла, потому что дети перестали верить в существование фей.
[Закрыть]. Чтобы существовать, ей необходимо, чтобы кто-то верил в ее существование. Насколько показательно, что ее любовником стал скульптор, а она сделалась его натурщицей! А потому неизбежно при такой исходной посылке ее существования, когда существование пациентки не признавали, ее одолевала тревога. Для нее esse значит percipi[47]47
Существовать, воспринимать (лат.).
[Закрыть]; ей важно быть увиденной, но не анонимной прохожей или случайной знакомой. Именно данная форма восприятия наделяла ее телесностью, как бы окаменяла. Если же ее воспринимали как анонимную сущность, как того, кто незначителен, или как предмет, она и вправду становилась фактически никем. Пациентка была такой, какой ее видели. Если никто ее не видел в какой-то момент времени, ей приходилось воображать кого-то (отца, мать, мужа, любовника – в разные периоды жизни), для кого она, по ее ощущениям, была значима, для кого являлась личностью, и представлять себя в его или ее присутствии. Если человек, от которого зависело ее бытие, уезжал или умирал, повода для горя не возникало – был только повод для паники.
Нельзя сводить этот ключевой вопрос к «бессознательному». Если женщина вдруг понимает, что ее донимает бессознательная фантазия пойти в проститутки, это не объясняет тревоги относительно пребывания на улице или заботы о женщинах, упавших на улицах и не получающих помощи от прохожих. Наоборот, подсознательную фантазию следует объяснять и истолковывать с точки зрения ключевого вопроса самобытия – бьггия-для-себя. Страх остаться одной не является способом «защиты» от инцестно-либидозных фантазий или мастурбации. У пациентки возникали инцестные фантазии. Эти фантазии оберегали ее от боязни быть одной, как и вся «фиксация» на положении дочери. Это средство преодоления тревоги по поводу бытия самой по себе. Бессознательные фантазии нашей пациентки обрели бы совершенно иное значение, будь ее базовая экзистенциальная позиция такой, что внутри нее нашлась бы некая исходная точка, которую она могла бы оставить позади, как в случае погони за удовольствиями. А в данной ситуации ее сексуальная жизнь и фантазии были попытками не получить удовольствие, а найти в первую очередь онтологическую устойчивость. Любовные похождения способствовали воплощению иллюзии такой устойчивости, а на основании этой иллюзии стало возможным получать удовольствие.
Откровенно ошибочно было бы называть эту женщину нарциссистской особой при любом надлежащем употреблении данного термина. Она не способна влюбиться в собственное отражение. Также ошибочно соотносить ее историю с фазами психосексуального развития – оральной, анальной и генитальной[48]48
Согласно З. Фрейду, на первой стадии развития личности ребенок получает удовольствие от сосания пальца или пустышки, потому что это действие ассоциируется у него с актом кормления (оральная фаза). В анальной фазе ребенок учится контролировать дефекацию, одновременно испытывая исследовательский интерес к этому процессу. Наконец в генитальной стадии, которая соответствует пубертатному периоду и в которую формируются зрелые сексуальные отношения, формирование личности завершается.
[Закрыть]. Она хваталась за сексуальность как за соломинку, едва достигнув «совершеннолетия». При этом она отнюдь не фригидна. Оргазм способен доставить ей физическое наслаждение, ощущай она временную безопасность – в исходном онтологическом смысле. При половом контакте с кем-то, кто ее любил (а она могла поверить, что кто-то может ее полюбить), она, возможно, переживала лучшие мгновения своей жизни. Но эти мгновения были мимолетными. Она не могла оставаться одна или позволить своему любовнику быть одиноким с ней.
Насущная потребность быть замеченной намекает на возможность использования здесь другого психоаналитического клише – мол, она была эксгибиционисткой. Опять-таки этот термин пригоден, лишь когда он толкуется экзистенциально. Следовательно (это мы подробно обсудим ниже), она «выставляла себя напоказ», но никогда себя не «выдавала». То есть она раскрывалась, но при этом всегда скрывалась. Потому она всегда была одинока и одна, хотя внешне ее затруднения не сводились к бытию совместно с другими людьми; ее затруднения менее всего бросались в глаза, когда она находилась с кем-то другим. Но очевидно, что осознание автономного существования других людей было для нее столь же незначительным, как и вера в собственную автономию. Если тех не было рядом, они переставали для нее существовать. Оргазм был средством овладения собой через объятия мужчины, который овладевал пациенткой. Но она не могла быть собой через себя и поэтому вообще не могла быть собой по-настоящему.
Случай 2Любопытнейший феномен личности – тот, который отмечался на протяжении столетий, но еще не получил внятного объяснения, – состоит в том, что индивидуум как средство выражения личности не является самим собой. Кажется, будто человеком «овладевает» чужая личность, которая выражает себя через его слова и поступки, тогда как собственная личность индивидуума временно «теряется» или «исчезает». Этот процесс проявляется во всех степенях пагубности. Создается впечатление, что налицо все степени одного и того же основополагающего процесса, от простейшего доброжелательного наблюдения, что такой-то «весь в отца» или что «в ней проявляется материнский нрав», и до крайнего расстройства человека, вынужденно принимающего на себя характерные черты личности, которую он может ненавидеть и (или) чувствовать ее совершенно чуждой своей собственной.
Этот феномен относится к числу важнейших при случающихся распадах ощущения собственной индивидуальности, когда это происходит невольно или принудительно. Страх перед подобным является одним из элементов страха перед поглощением и разрывом. Индивидуум может бояться кем-либо дорожить, поскольку он обнаруживает, что его принуждают стать похожим на того, кто ему нравится. Позднее я постараюсь показать, что это один из мотивов шизофренического ухода в себя.
Способ, которым «я» индивидуума и личность глубоко видоизменяются, вплоть до пугающей утраты собственной индивидуальности и ощущения реальности через поглощение чуждой субиндивидуальностью, иллюстрирует следующий случай.
Миссис Д., сорокалетняя женщина, поначалу жаловалась на смутный, но сильный страх. Она твердила, что боится всего, «даже неба». Она жаловалась на непреходящую неудовлетворенность, на необъяснимые приступы гнева по отношению к мужу, а также в особенности на «недостаток ощущения ответственности». Ее страшило, будто «кто-то пытается встать внутри нее и выйти наружу». Она очень боялась уподобиться своей матери, которую ненавидела. То, что она называла «ненадежностью», было сродни смущению и смятению, и эти эмоции она связывала с тем обстоятельством, что любые ее достижения, похоже, никогда не удовлетворяли родителей. Если она делала что-то одно и ей говорили, что это плохо, она делала другое и тоже слышала, что это плохо. Она была не в силах понять, как сама выразилась, «кем они хотят ее видеть». Она сетовала на родителей за то, помимо прочего, что те никак не давали ей понять, кем или чем она в действительности является и кем должна стать. Она не могла быть ни плохой, ни хорошей хоть с какой-то «уверенностью», поскольку родители, на самом деле или по ее ощущениям, оставались совершенно непредсказуемыми и произвольными в выражении любви или ненависти, одобрения или неодобрения. Оглядываясь назад, она сделала вывод, что родители ее ненавидели; но в детстве, по ее словам, она слишком уж путалась и стремилась понять, кем же ей надо стать, чтобы их хотя бы ненавидеть, не говоря уж о том, чтобы полюбить. Со временем она начала говорить, что искала «утешения». От меня ей требовался некий ориентир, указавший путь, по которому надлежит идти. Мое отношение, лишенное наставлений, ей было крайне трудно принять, потому что она видела в такой позиции явное повторение отцовского отношения к себе: «Не задавай вопросов, и тебе не солгут». Какое-то время она испытывала приверженность к принудительному мышлению, ощущала потребность задавать себе такие вопросы, как: «Для чего это?» или «Почему так?», и давать ответы. Она истолковывала этот образ мышления как попытку утешиться собственными мыслями, поскольку иного утешения найти не могла. У нее началась сильная депрессия, и она бесконечно жаловалась на свои эмоции, чересчур детские. Она много говорила о том, как ей себя жаль.
Мне показалось, что «она» в действительности жалела не свое истинное «я». Из ее слов мне рисовался образ ворчливой матери, которая жалуется на трудного ребенка. Казалось, что в ней и вправду постоянно проступает «материнский нрав» – при всех жалобах на детские эмоции. Это касалось не только ее жалоб на себя, но и других особенностей. Например, как и мать, она постоянно кричала на своего мужа и ребенка; как и мать[49]49
То есть такой она воображал себе мать. Я никогда не встречался с ее матерью и не имею ни малейшего понятия о том, есть ли в этих фантазиях о матери хотя бы толика соответствия реальной личности. – Примеч. автора.
[Закрыть], она всех ненавидела; как и мать, вечно плакала. На самом деле жизнь была для нее сплошным несчастьем из-за того, что она никогда не могла стать самой собой, но всегда была своей матерью. Впрочем, она понимала, что, когда испытывала одиночество, ощущала утрату, испуг или растерянность, это приближало ее к истинному «я». Также она понимала, что добровольно соглашается злиться, ненавидеть, кричать, плакать и брюзжать, ибо, превратив себя вот в «это» (то есть в свою мать), она больше не боялась (ценой того, разумеется, что переставала быть собой). Но в результате такого маневра она страдала, когда буря заканчивалась, от ощущения тщетности усилий (ведь она не была собой) и от ненависти к человеку, которым она была (к своей матери) и к себе за свою двойственность. В некотором отношении этой пациентке, когда она осознала свой ложный способ избавления от тревоги, которая у нее проявлялась, когда она была самой собой, – так вот, ей приходилось решать, не окажется ли попытка избежать подобной тревоги, сбежать от самой себя, тем лечением, которое хуже болезни. Фрустрация, которую она испытывала в моем обществе, провоцировала интенсивную ненависть ко мне, и это нельзя целиком и полностью объяснить переносом либидозных или агрессивных фрустраций; скорее это была, скажем так, экзистенциальная фрустрация, проистекавшая из того факта, что я, отказав ей в «утешении», на которое она рассчитывала, и не дав ориентир относительно того, кем она должна быть, фактически обязал ее принять собственное решение применительно к личности, которой она должна стать. Ощущение, будто ей отказали в праве первородства, поскольку родители не выполнили своей обязанности и не дали ей определиться, лишив отправной точки в жизни, усугубилось моим отказом предложить ей «утешение». Но лишь так было возможно обеспечить условия, при которых она смогла бы взвалить ответственность за себя на свои плечи.
Поэтому, с учетом сказанного, задача психотерапии заключается в обращении к свободе пациента, если цитировать Ясперса. Значительная доля психотерапевтических навыков определяется умением делать это эффективно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































