Читать книгу "Мозаика моей жизни"
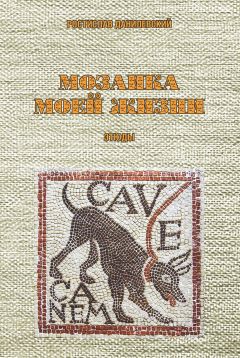
Автор книги: Ростислав Данилевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Махорочка
В военных лагерях нам раздавали пакетики махорки – серенькие пачки величиной с хлебную горбушку. Я не курил, поэтому отдавал свою порцию товарищам. Однажды я вгляделся в буковки на пачке и вдруг увидел слова: «Махорочная фабрика, г. Кременчуг». Не знаю, есть ли эта фабрика сейчас, но в Кременчуге работала она давно, едва ли не с дореволюционных времен. Я даже отчетливо помню ее длинное здание и крепкий запах махорки, разносящийся по всей улице. На фабрике, в бухгалтерии, служила несколько лет даже моя родная тетя Вера, мамина младшая сестра.
Кременчуг – это родной город моей мамы и ее мамы, моей бабушки. В Кременчуге родился мой двоюродный любимый брат Владик и похоронен мой дед. Кременчуг – это одно из моих родных мест, и еще хутор Кияшки у железной дороги на Полтаву (станция Потоки).
Вот вам и махорочка!
Длиннозубый стрелочник
До войны мы жили летом на украинском хуторе, над Пслом, у железной дороги на Полтаву. Напротив нашей хаты, на железнодорожной насыпи высился семафор. Кто не знает – это такая ажурная мачта с устройством на макушке в виде вытянутой руки, вместо ладони у которой металлический кружок. Если путь закрыт, эта «рука» стоит параллельно земле, если ожидается поезд, она подымается вверх на 45 градусов. По вечерам на семафор всползали два фонаря – красный и зеленый, они заменяли «руку» в темноте.
Подымал их высокий сутуловатый человек с удивительно крупными зубами на улыбчивом лице. Мы прозвали его «Длиннозубый стрелочник». Перед сумерками он выходил из будки, стоявшей у переезда, шагах в ста от семафора, и медленно шел к нему с двумя фонарями в руках. Этот человек с фонарями олицетворял собою вечер. Это был наш вечерний бог. Глядя на него, хотелось зевнуть и идти спать в хату или в сад под вишни – в зависимости от погоды. В сумерки, в семь часов вечера, проходил из Полтавы на Кременчуг пригородный поезд – можно было проверять по нему часы.
После войны, когда хутор, сожженный немцами, кое-как восстановился, мы, приехав туда, вдруг увидели у задней стены одной из хат нашего знакомого Длиннозубого стрелочника, сидевшего на низкой скамеечке и чинившего что-то молотком. Он был уже совсем седым, но зубы были всё такими же, и добрая улыбка по-прежнему светилась на его лице. Семафора уже не было, вместо него стоял электрический светофор. Не было и огромных тополей у железнодорожного моста через Псел, в которых когда-то многократно отдавалось эхо от вагонов, проходивших мимо.
Степные волны
Бывало, в украинской степи, на Полтавщине, заберешься на курган и глядишь вокруг: степь до горизонта, лишь купы деревьев да темные курганы кое-где. А по степи, по сухим травам и по желтым пшеничным полям от ветра ходят волны, как в океане. Когда-то здесь рос ковыль, его шелковистые метелки покрывали всю степь и делали ее еще больше похожей на водное пространство. И волны эти видели и древние русичи, и печенеги, и половцы, и татары, и монголы, и бродячие угры, искавшие новую родину. И я их вижу. Ходят степные волны…
Ожина
Ходили в уютный украинский лесок (гай) на Полтавщине «по ожину». Это я потом уже узнал, что украинская ожина – это просто-напросто русская ежевика. Ожина росла на кустах, над самой рекой, странная ягода, напоминающая малину или морошку, но только синяя и покрытая сизым налетом. Сок у нее был темно-красный и водянисто-сладкий.
Это был целый поход. Надо было сначала идти по жаре по открытому полю, затем по тропе вдоль реки, дальше входили под прохладную сень леса и спускались к реке, на песчаную отмель, над которой свешивались ветви ожины. И можно было наедаться синей ягодой до отвала. В хату ее не приносили. Зачем? Лес просто угощал нас.
Кизяк
Кизяк – это известно что. Из навоза, смешанного с соломой, делаются кирпичи, высушиваются и служат топливом в безлесной местности. На Полтавщине, где совсем мало лесов и начинается уже древняя степь, «дикое поле» уставленное курганами, а лески-гаи теснятся лишь кое-где вдоль рек, топить можно было разве что кизяком.
Собиралась вся семья – чем больше народу, тем лучше. В яме, наполненной навозом, смешивался он с соломой, и в деревянной форме «отливались» мягкие, рыхлые кирпичи. Потом, на лугу, из них складывали невысокие пирамидки, похожие на домики, какие можно построить из костяшек домино. Пирамидки клались так, чтобы между кирпичами были просветы, чтоб их обдувало ветерком и освещало горячим солнцем, пока они более или менее не высохнут и не затвердеют. Это было топливо на зиму. Запах от пирамидок был не сильный, да и вообще запах навоза сельскому человеку не противен. Ведь это запах какого-никакого достатка: коровушка, значит, есть.
И вот стояли эти «городки» по лугам, выделяясь своей ажурной архитектурой на фоне желто-зеленых подсолнухов и кудрявых яблонь-вишен. Мирная тишина, легкий запах сухого навоза, аист в гнезде, положенном на старое колесо, постукивает клювом, ветерок тихонько посвистывает в вязанках очерета на крыше хаты. Идиллия – не идиллия, а у кого могут быть претензии к сей картине?
Папа
Речь идет не об отце, а о ломте хлеба, который на украинском детском языке зовется папой.
Однажды в Киеве 1920-х годов маленький мальчик лет четырех вышел со двора и пошел по улице, остановился и не знал, куда идти. Его окружили прохожие, стали расспрашивать по-русски, а он почти не понимал, потому что в семье говорили по-украински.
– Где же твоя мама, где папа? – допытывалась какая-то сердобольная тетка.
Мальчик сурово поглядел на нее, подумал и честно признался:
– А я папу з медом з’їв.
Когда мать наконец отыскала сына, ее встретил общий хохот.
Владик и Фима
Светлой памяти моего двоюродного брата – инженера-строителя Владимира Тимофеевича Фейгина (1937–2015)
В славном городе Кременчуге, на Днепре, жили-были два еврейских мальчика Владик и Фима. Бывало, как только сойдутся они вместе, начинаются бесконечные шуточки и анекдоты. Солнышко ярко сияет, жарища, река искрится, по главной улице – Ленинской (бывшей Екатерининской) девчонки красивые ходят – пышные украинки, еврейки с загадочными глазами. Так весело бродить по летнему городу с Фимкой и Владиком, так легко, так хорошо!
Начало войны
Для кого как, а для нашей семьи вторая мировая война началась с шутки. В сквере на Соборной площади расположилась на отдых группа красноармейцев. Мы, гуляя, проходили мимо них по скверу. Вдруг один из них, маленький, очень белокурый, приподнялся с травы и обратился к нам со странным словом:
– Спучки!
Взрослые сначала не поняли.
– Спучки! – повторил он и засмеялся.
Оказалось, что он спрашивал, нет ли у нас спичек, чтобы ему закурить. Мы потом долго смеялись над забавным словом. Это были, кажется, люди из Латвии. Еще все были живы…
Политрук
Его звали Соломон (Семен Владимирович) Вишневский. Статный брюнет, громкоголосый, веселый, компанейский. Перед войной, во второй половине 1930-х годов, он заведовал центральной сберкассой в Гатчине. Родом был из Севастополя. Прошел «финскую» кампанию без единой царапины, хотя и бывал в переделках. Летом 1941 г. был послан в Литву, курортный городок Палангу, недалеко от которого проходила граница с гитлеровской Германией. В первое военное утро, 22 июня 1941 г., когда вся его воинская часть спешно эвакуировалась (бежала) на вокзал, в эшелон, он с водителем по обязанности и чувству долга поехал на легковушке на границу для эвакуации грузовиков, которые там работали на строительстве военных укреплений. Погиб при переезде мостика над речушкой, при выезде из городка. Под мостом была засада – скорее всего, это были еще не немцы, а их пособники из местных. Впрочем, кто знает! Пропал без вести, могилы не осталось. Вот и всё. Вечная ему память и слава!
Голубая бомба
Мальчишки принесли осколки от немецкой бомбы, упавшей на кременчугскую улицу в июле 1941 года. Среди них был кусок металла, окрашенный с одной стороны удивительно нежного оттенка голубой краской. Мне, маленькому мальчику, показался этот кусок милой игрушкой. Оказывается, смерть может быть небесно-голубого цвета.
Порося
У маленького мальчика была игрушка: маленький деревянный поросенок с нарисованным на нем фартучком. Звали игрушку по-украински «порося» (с ударением на последнем слоге).
Когда объявляли воздушную тревогу и выла сирена, вся семья бежала в бомбоубежище, которое было вообще-то просто окопом, щелью, вырытой во дворе и накрытой щитом из досок. Там пахло свежими досками и землей. Спускались в окоп по лесенке и рассаживались на нарах. Если тревога случалась по ночам, то через незакрытый люк вниз проникал резкий белый, мертвенный свет от осветительных приборов, спускаемых на парашютах немецкими самолетами. Они целились в железнодорожный мост, перекинутый через Днепр. В косом квадрате этого света плыли остро очерченные тени листвы деревьев, росших поблизости. Это называлось «кино».
– Да уж, «кино», – печально говорили взрослые.
Одетый наспех, кое-как, мальчик крепко сжимал в ладонях свою игрушку – единственное, что он схватывал на бегу из квартиры в «щель». Порося – это был его амулет, защищавший от страха, и маленький кусочек прежней мирной жизни. Потом, когда семья спешно уезжала
(эвакуировалась) из этого южного города, порося делось куда-то, его миссия была, как видно, окончена.
Ко-лё-ку
Когда мой маленький двоюродный брат Владик во время Великой Отечественной войны ехал в 1941 г. с родителями в эвакуацию с Украины на Урал, в их вагоне – товарной «теплушке» переоборудованной для перевозки людей (с двухэтажными нарами), – был один смешной малыш. Он говорил только первыми слогами слов. И однажды, глядя из поезда на большой луг, на котором паслось коровье стадо, он вдруг стал кричать в восторге:
– Ко-лё-ку!
Долго не могли понять, что его так взволновало. Это было поистине открытие, равное Архимедовой ванне! «Корова, лежа, кушает!». Он увидел лежащую на лугу корову, которая жевала жвачку. Малыш познавал мир, невзирая ни на какую войну и всеобщее бедствие. Весь вагон несчастных людей, бросивших все свое имущество, а может быть, потерявших родных, людей ехавших неизвестно куда и едва спасшихся из-под бомб, долго смеялся. Ко-лё-ку!
Кипито́
Мы ехали в эвакуацию. В теплушке – товарном вагоне, переделанном для людей (двухъярусные нары и будочка-туалет в углу) было полно людей, преимущественно это были женщины с маленькими детьми.
На остановках взрослые бежали с чайниками и кастрюльками к домику, из которого торчал кран. Там был кипяток. Иногда остановки были короткими, паровоз гудел и все спешили обратно в вагоны, многие – так и не успев набрать горячей воды. Зато когда удавалось вернуться с кипятком, детей поили теплым, делали «тюрю» из того, что было под рукой, сами пили «чай»– теплую воду, закрашенную молоком (если было) или ягодным соком (если был). Один малыш приходил в восторг от маминой удачи (как же, принесла горячего!) и вопил:
– Кипито2! Кипито2!
Словно это было какое-то необыкновенное питье с необыкновенным сказочным названием Кипито2!
Винтовочка
Если есть вода в баклажке, ты товарищу отдай,
Но винтовку-трехлинейку никому не отдавай.
Мы ехали в эвакуацию. Случалось сидеть и в тамбуре, но какую-то часть пути мы проделали в обычном общем вагоне, где меня, семилетнего мальчишку, уложили поспать на верхней боковой полке. На какой-то станции в вагон подсели несколько красноармейцев с оружием – их срочно переводили в другое место, скорее всего, они добирались до узловой станции, откуда уходили на фронт войсковые эшелоны (так я думаю).
Один боец (тогда они еще не назывались солдатами), который мне показался старым, осторожно положил, посмеиваясь, рядом со мной свою трехлинейку без штыка – «пускай отдохнет!». Около часа, наверное, лежала винтовочка сбоку от меня, на краю полки. Запомнил я ее металлический запах, смешанный с запахом смазки. Запах войны.
Плачущий немец
Подрстком я читал много книг о войне. Были среди них и легковесные «агитки», и серьезные произведения вроде «Звезды» Э. Казакевича. Уже не вспомнить сейчас, в какой именно из военных книг (может быть, у того же Казакевича) описан эпизод: советские разведчики пробираются зимой во вражеский тыл и по пути проходят поле недавнего боя. Лежит молодой немец, смертельно раненный, и молча плачет (может быть, шепчет: «Мама, мамочка! Мутти, мутти!». Идут чрез несколько часов обратно:
солдат уже умер, на глазах замерзшие слезы… Ничего из повести я не запомнил, только это. Этого нельзя придумать, это – правда. В этом – вся война. Вот и всё.
Тараски
Одно время мы жили в деревне Тараски, лежавшей в тайге, в семи километрах от железнодорожной станции. Там я пошел в первый класс. Это была настоящая деревенская школа 19 века: в одной комнате избы учились дети из первого и второго класса. Учительница давала задание второклассникам и занималась с нами, потом – наоборот. Если мы с мамой ездили к родным в поселок, то потом нам приходилось идти пешком семь километров по лесной дороге. Однажды мы встретили в лесу какого-то старика с холщовой сумою, он шел с нами некоторое время, потом скрылся на боковой тропе. Леший? А я очень хотел есть. Мама дала мне корочку ржаного хлеба, и я жевал ее почти до самой деревенской околицы. Вкусней не было ничего!
Кукурузный хлеб
В эвакуации на Урале пришлось нам отведать кукурузного хлеба. Наверное, в пекарне заводского поселка Верх-Нейвинск подошли к концу запасы муки, и было решено добавлять в хлеб кукурузу. Хлеб получился желтого цвета, с торчащими в нем неразмолотыми кукурузными зернами, твердыми, как камень. Но это все-таки был хлеб, лучше, чем ничего.
Щи из крапивы и чай с солью
Зимой 1942 г. было особенно голодно. Хлеб пекли с добавлением кукурузы, не муки, а просто зерен, желтых, круглых и твердых. К чаю дядя Тима, отец Владика, достал где-то сахарин. Это были мелкие кристаллы красивого лиловатого цвета, и один кристалл давал сильную сладость. Взрослые говорили, что сахарин плохо влияет на почки. Пока не было этих кристалликов, мы пили чай с солью. Собственно, чая как такового не было. Но чем-то подкрашивали кипяток, – кажется, сушеной морковью. По утрам нас с Владиком посылали рвать крапиву, но не обычную, жгучую с желтыми цветками, а особую крапиву, которая цвела белым и не жглась. Мы бродили вдоль заборов и прясел, ища такую крапиву. Потом ее отваривали и делали суп, похожий по виду на щавелевый, но почти безвкусный, наполненный «тряпицами» крапивных листьев. Говорят, что крапивный суп полезен и вкусен, если его правильно готовить, со специями. Но специй не было, кроме, пожалуй, «сой-кабуля», похожего на горчицу. И готовить крапивный суп бабушка и тетки-южанки не умели. Зато умело пекли оладьи из картофельных очисток.
Мордва
Во втором классе, на Урале, с нами учился тихий мальчик. Отличался он от всех нас тем, что учебники носил в пастушьей сумке – холщовом мешке, перекинутом через плечо. Мы все не были тогда щеголями, но все-таки у нас были портфельчики. Но главное его отличие было в том, что он ходил деревянных башмаках. Мальчишки шептались: «Ты знаешь? Ведь он – мордва». Мальчик из таинственного народа! Наверное, он дома говорит с мамой по-мордовски? И деревянные башмаки – тоже что-то мордовское! Мир вокруг меня расширялся – вот уже в нем и таинственная, тихая мордва!
Дитя войны
В Кировской области, в деревне под городком Яранском, летом 1942 года было тихо. Иногда проходили по дороге голодные, плохо одетые люди – беженцы. Их зазывали в избы, кормили, давали хлеб, и они брели дальше. Однажды пришел мальчик лет одиннадцати. Он шел куда-то один. Оказалось – ленинградец. Поел, поблагодарил вежливо и пошел дальше, тяжело неся на плече котомку…
«Дорогой Ростик!»
Когда мы жили на Урале, в эвакуации, во время Великой Отечественной войны, дети в нашем классе посылали маленькие посылки на фронт, красноармейцам. Однажды и мы с мамой приготовили такую посылочку. Туда вложили, как я помню, пару шерстяных носков и особые рукавицы, на одной из которых (для правой руки) были отделены два пальца (большой и указательный), чтобы удобно было стрелять. Что-то еще положили мы туда, – кажется, кисет (мешочек для табака или махорки) и мое маленькое письмо, в котором я желал неведомому получателю скорой победы над врагом и обещал хорошо учиться.
Через пару месяцев я получил ответ. Письмо это со временем затерялось, но я помню обращение «Дорогой Ростик!». которое меня поразило своей простою теплотой. Неизвестный боец писал, что благодарит меня за посылку, что он – учитель истории и что мы обязательно победим фашистов. Я написал ответное письмо, но ответа на него не получил…
Два дяди Йони
У нас с моим двоюродным братом Владиком было два дяди Йони. Один дядя Йоня звался «дядя Йоня коротковолосый», это был младший брат наших обеих мам – Израиль Исаакович Ольшанский, по-русски Леонид. Он был инженером на знаменитом московском мясокомбинате им. Микояна и даже попал после войны в коллектив, награжденный Сталинской премией за аппарат по изготовлению сосисок. Этот дядя Йоня был во время войны в армии.
Второй дядя Йоня звался «дядя Йоня длинноволосый», это был двоюродный брат наших мам. Во время войны он был еще юношей, а затем прославился как киносценарист Леонид Ольшанский. Он – автор сценария к знаменитому фильму с Ульяновым в главной роли «Дом, в котором я живу». В эвакуации, на Урале, он правил мои первые детские вирши, играл на гитаре, сидя у нас в избе, в углу, с соседскою девицей, вырезал мне из дощечки меч и расписал его карандашами, так что по ложбинке в середине лезвия красная кровь текла, и веселил нас представлением во дворе: расставлял строем чурбаки, именовал их фашистами и лихо разрубал топором. Он носил длинные поэтические космы – отсюда и его прозвище. Оба дяди были добрыми.
Самолет и трамвай
Мы с Владиком все время что-нибудь выдумывали.
Нам привезли дрова, чтобы топить русскую печь в избе.
Это были чурбаки и доски, разной длины, разных форм.
И мы придумали построить из них трамвай. Он опирался задней частью на груду дров, а в передней было место для водителя и две боковые скамейки для пассажиров. Крыша была из фанерного листа и двух досок. Пассажиров у нас не было. Мы двое были водителем и кондуктором по очереди. Когда наш трамвай разобрали на дрова, мы придумали самолет. К большому ящику надо было приделать четыре колесика и два крыла из дощечек. Если этими дощечками сильно махать, как веслами, – думали мы, – то можно будет и полететь, если еще – с горки. Около нашей улицы было три горы – Киндарейка, Вшивая горка и Лысая горка. Колесики нам вырезали из круглого бревна на стройке у дяди Тимы, отца Владика. Но как их приделать к ящику, я не знал, и с крыльями ничего не вышло. Так наш самолет и не полетел!
Киндарейка
Когда мы жили на Урале, во время войны, в эвакуации, недалеко от дома, где наши родные снимали жилье, улица старинного заводского поселка упиралась в довольно высокую гору, на вершине которой стояла деревянная триангуляционная вышка. Гора эта имела еще предгорье, как бы ступень, поляну на середине своей высоты. Что было за горой – не знаю, за ней оканчивался наш детский мир. Гора звалась Киндарейкой.
Мы с Владиком, братом моим двоюродным, мечтали убежать из дома и жить на этой Киндарейке. Мы построили бы там шалашик и жили бы вдали от надоевшего нам покровительства мам-пап-теток-дедушки-бабушки. Что мы бы там ели-пили – об этом не думалось. А думалось о свободе под свободным небом, высоко над серыми старыми избами поселка.
Однажды я все-таки побывал на Киндарейке, когда был в пионерском лагере (в октябрятском отряде), и мы там устроили пионерский костер. На той самой поляне, на середине подъема в гору, горел огромный костер из еловых лап, брызгаясь искрами и гудя высокими языками огня. Далеко внизу светились тусклые огоньки поселка. Мы пели песни и отстраняли лица от жара, шедшего от костра.
Среди веселой детворы один человек сохранял серьезность – молчаливая тетка-пожарница в брезентовой негнущейся робе. Она смотрела на нас, дурачков, с такой печалью!
Жмых
В пионерлагере смотрели за нами не очень внимательно. Через дыру в заборе мы убегали иногда на берег Колымы. Там росли высокие тополя, не сравнить с остальной тайгою, лиственничной, невысокой и болотистой! Там рос шиповник. Мы рвали его длинные ягоды, уже высохшие и полные противных волосатых семян. Можно было пожевать жесткую сладковатую корочку, но потом приходилось долго отплевываться от семечек, цеплявшихся своими шерстинками за язык.
Но главное, что нас привлекало на берегу холодной реки, были жмыхи. К причалу привозили на баржах жмых – серо-зеленоватые брикеты подсолнечных семечек, из которых было выдавлено масло. Наверное, их привозили «с материка», т. е. из тех мест Союза, где росли подсолнухи и где из них делали подсолнечное масло. А на Колыме ими кормили коров, которым не хватало местной скудной травы. Когда жмых перегружали с барж на машины, брикеты ломались и рассыпались, и по берегу было раскидано немало кусков этого добра.
Мы искали их и жевали, сухие кусочки, немного напоминающие несладкую халву. Приносили с собою в лагерь и угощали друзей, хотя тем доставалось немногое: бóльшую часть мы съедали по дороге.
Теперь я понимаю, что нас кормили не очень хорошо, и мы все время были голодными.









































