Текст книги "Штопальщик времени"
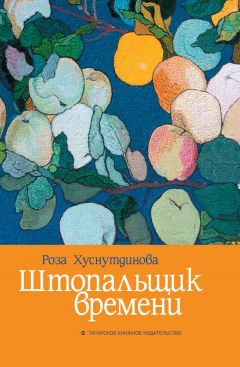
Автор книги: Роза Хуснутдинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– И горячая вода?
– Да.
Наступила тишина. Стало слышно, как во дворе кто-то свистит. Проректор Гаянэ Хачатуровна решительно поднялась с места:
– А теперь, товарищи, поблагодарим наших московских гостей за огромное удовольствие, которое…
Аудитория, хоть и не сразу, но зааплодировала.
К артисту из МХАТа подбежали студентки: «Можно ваш автограф?»
Артист добросовестно стал подписывать автографы.
Анаит ласково смотрела на своих московских друзей.
К ней подошла Гаянэ Хачатуровна: «Правильно сделали, Анаит Сергеевна, что пригласили этих людей. Общение для нас – жизненная необходимость!»
– В следующую группу думаю включить Олега Янковского, Рому Балаяна, Данелия, Нани Брегвадзе, – сказала Анаит.
– Очень хорошо, – закивала Гаянэ Хачатуровна.
Затем гостей провели в маленькую комнату, в кабинет проректора, усадили за журнальный столик, на котором торжественно возвышалась бутылка армянского коньяка.
– Может, сначала кофе? – светски улыбаясь, спросила хозяйка кабинета. – Аревик, вскипяти кофе!
Девушка с нежным румянцем на щеках, с вьющейся копной волос до талии и с серебряным обручем на голове виновато улыбнулась: «Керосина нет, Гаянэ Хачатуровна».
– Так вскипятите без керосина, – сказала Гаянэ Хачатуровна. – Софи, Шушан, помогите Аревик.
Аревик и ещё две девушки подошли к чайнику, стоящему на керогазе, прижали ладони к стенкам чайника, через десять минут он закипел. Насыпали кофе в маленькие синие чашечки, залили кипятком, подали гостям.
– Какой аромат! – похвалил критик из «Дружбы народов» – Давно не пил такого замечательного кофе!
Обозреватель из «Нового мира» выпил чашечку одним глотком, осторожно поставил её на столик, сказал, благодушно улыбаясь: «А какие потрясающие картины видели мы в музее Сарьяна! Копии с картин у вас не делают?»
– Копии? – переспросила Гаянэ Хачатуровна.
Подумала немного и сказала: «Где Вардгес?»
Кто-то из преподавателей привёл из коридора веснушчатого студента, жующего что-то.
– Вардгес, на завтра освобождаю тебя от занятий, сделаешь копию с картины Сарьяна, – сказала ему Гаянэ Хачатуровна.
– Какая картина вам больше понравилась? – обернулась она к новомировцу.
– «Константинопольские собаки», – ответил тот растерянно.
– Вардгес, сделаешь копию «Константинопольских собак», – сказала Гаянэ Хачатуровна.
Вардгес повернулся, чтобы уйти, потом вернулся.
– Два дня не буду ходить на занятия.
Повернулся и ушёл.
– Ну, чего бы вы ещё хотели? – спросил проректор по хозяйственной части.
– Арарат – это такое чудо! Нельзя ли посмотреть на него ближе? – мечтательно улыбаясь, спросила рассказчица из Москвы.
– Ближе? Но это же в Турции! – удивился проректор по хозяйственной части.
– Если только на дельтоплане, – задумчиво произнесла Гаянэ Хачатуровна.
– Мовсес здесь? – оглянулась она.
Из-за шкафа показался студент с настольной лампой в руке.
– Мовсес, что делаешь? – строго спросила его Гаянэ Хачатуровна.
– Усовершенствую лампу, чтобы она от взгляда загоралась, а не от сети, – пояснил Мовсес.
– Дельтоплан твой работает? Пятерых поднимет?
– Может, и поднимет.
Поднялись на университетскую крышу. Отсюда был виден весь Ереван. Мовсес достал из люка дельтоплан, собрал его, запустил мотор, разбежался, подпрыгнул и крикнул: «Цепляйтесь, чего стоите?»
Первым отреагировал новомировец. Он гикнул, подпрыгнул и ухватился за длинные ноги Мовсеса. К нему примкнул критик из «Дружбы народов» с попыхивающей сигаретой в зубах. Затем рассказчица из Москвы в своём ярком развевающемся платке и артист МХАТа с гитарой в руке.
– Какая красота! – крикнули они все вместе, удаляясь в небо.
Снизу, из университетского двора за подъёмом следили студенты, студентки и преподаватели. Они наблюдали, как пёстрая лента, похожая на китайского бумажного змея с вертящимся хвостом, взвилась с крыши университета и полетела над городом.
– Москва – Ереван! – закричали все вслед.
Змей летел над городом, над домами из розового туфа, потемневшего от копоти, с самодельными печными трубами, торчащими из окон и лоджий, над дворами с цветущей алычой, персиком, над громадой Оперного театра, откуда доносилась музыка – там шёл концерт, проплыл над зданием из светлого мрамора – Музея Арама Хачатуряна, над Музеем Мартироса Сарьяна, над сквером без единой скамейки, их сожгли зимой как дрова, над пустырём, где ереванские художники выставили свои весенние работы, в картинах преобладали розовые, сиреневые, голубые тона, ремесленники выставили тут свой традиционный товар – изделия из драгоценных и полудрагоценных камней. Змей пролетел над чёрной похоронной процессией, направлявшейся к кладбищу, – хоронили известного армянского писателя, над шоссейной дорогой, ведущей в Эчмиадзин, по обеим сторонам дороги кое-где были вырублены деревья, целые рощи… А потом змей резко взмыл вверх, и город остался далеко внизу, сияющая, неправдоподобная в своей красоте гора Арарат приближалась…
Через час гости вернулись в университетский двор.
– Ну, чего бы вы ещё хотели? – лукаво улыбаясь, спросила Анаит.
– Хотели бы остаться здесь навсегда! – хором ответили гости.
Поздним вечером, когда возвращались в гостиницу из гостеприимного дома Лизы Фельдман, где гостей угощали жареными пирожками с картошкой, искусно заваренным чаем, ароматным кофе и опять же армянским коньяком. Муж хозяйки с воодушевлением рассказывал о том, что в Армении есть множество горных речек, на которых можно поставить гидроэлектростанции, добыть необходимую республике энергию, слушали стихи, пели песни, и, наконец, отправились домой. Когда уже подходили к зданию гостиницы «Армения» – единственному освещённому зданию на площади, гостиница напоминала гигантский освещённый огнями корабль, плывущий в ночном безбрежном океане, может, «Титаник», может, другой корабль, не с такой драматической судьбой, к москвичам из тёмного переулка вышел человек, прикрывающий лицо кепкой, сказал: «Рамис я. Из Бакинского университета. Сейчас в Баку поедем. На литературную встречу».
Маро
Что можно сделать в восемьдесят лет, если ты армянская поэтесса? Можно стать лохматой тучей, нависшей над главным Кавказским хребтом. Можно стать пичужкой, насвистывающей зимние трели в расщелине между скал. Можно стать маленькой феей с ранней картины Сарьяна. Или Севаном, убывающим, стекленеющим в свете холодного зимнего дня. А можно быть просто женщиной, хозяйкой дома, с раскрытыми объятиями спешащей навстречу гостю, ещё не видя его, восклицая: «Какое счастье, что вы пришли! Сердцем, сердцем чувствую родную кровь!» А эта «родная» кровь может оказаться и армянином, и азербайджанцем, и татаркой, и шведом, и французом – кем угодно! В этот день, 22 декабря, в день своего рождения можно и постоять посреди ереванского двора с непокрытой головой, вглядываясь в быстро темнеющее зимнее небо, в его бездонность, пустоту, в загорающиеся дальние звёзды и взывать к ним шёпотом: «Анна! Чаренц! Паруйр! Где вы?» Но так как ответа не услышать, его не слышит никто, придётся вернуться на Землю, к живущим рядом. Подняться по тёмной лестнице на четвёртый этаж дома, войти в квартиру, поставить на горячую плиту печки чайник с водой и ждать, когда он закипит. И пока закипает, задуматься и вспомнить что-то очень дорогое. Тихие, с глазу на глаз беседы с католикосом всех армян Вазгеном Вторым… Вспомнить прекрасного писателя и удивительного человека Уильяма Сарояна, его дружбу, веселье, шутки, и как чудесно было с ним разговаривать обо всём на свете… Можно вспомнить свои «триумфальные», как писали в газетах, поездки по Америке, выступления в разных городах. Перед любой аудиторией, в любом зале ты неизменно горячо, взволнованно, страстно читала армянские стихи… И тебе дружно аплодировали не только армяне… Можно вспомнить перелёты через Атлантический океан, своих внучек, умницу Маро и «праздник жизни» Арч, живущих в тепле и уюте в далёкой Канаде и всё-таки скучающих по вашему общему ереванскому дому, по всему взбалмошному неуправляемому семейству Баяндур. Можно вспомнить Москву, ЦДЛ, отдельных, близких твоему сердцу представителей бывшего Союза писателей СССР, например, главного редактора некогда знаменитого толстого журнала, поэтов Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, блестящего публициста Андрея Нуйкина, писателя Фазиля Искандера… Вспомнить чудесную талантливую переводчицу и подругу Марию Петровых, Маргариту Алигер… Увы! Обеих уж нет в живых… Можно вспомнить переделкинские, дубултовские, комаровские писательские «посиделки»… Но, кажется, это было давным-давно…
Но можно и в Ереване устроить выход в свет! Надеть доперестроечное, очень элегантное, хорошо сохранившееся чёрное платье с изящной брошкой, отыскать туфли на каблучке, а волосы, серебристым нимбом окружающие лицо, с помощью Шушан превратить в чёрное воздушное облачко, зависшее над лицом, ещё капнуть две капли французских духов, – кто их подарил и когда? И, накинув вполне элегантное демисезонное пальто, выйти на ереванскую улицу. Если встретить знакомых, расспросить о детях, внуках, рассказать о своих и, по возможности, лёгкой, изящной походкой дошагать до уцелевшего Дома писателей Армении, где ещё можно встретить редких представителей некогда многочисленного писательского мира… Выслушать поздравления друзей и подруг, выпить по бокалу шампанского в честь юбилея, уж что-что, а шампанское в Ереване есть, электричества нет, а шампанское – пожалуйста!
Но можно никуда и не выходить из дома. А, завернувшись в тёплое шерстяное одеяло, усесться в старое большое кресло и, слушая радостное воркование засыпающей правнучки Ануш, посмотрев на бледное от недоедания, но всё же чудесное лицо внука Арега (надо же, всего несколько лет назад приходилось всей семьёй гоняться за ним по всей квартире, чтобы остановить его неуёмные, буйные проказы, а сегодня – какой молодец! – подмёл полы, привёл в порядок комнаты, затопил печь, сварил обед и, наконец, умаявшись, заснул подле своей незасыпающей дочки), наконец, услышав по междугороднему телефону бодрый радостный голос Анаит, заверившей, что в московской квартире всё в порядке, огромные телефонные счета уплачены, и скоро ей предстоит поездка в Брюссель, выступить там в Европарламенте и добившись от сына Ашота клятвенных заверений в том, что он больше не вынесет из дома, не продаст ни одной своей картины (конечно, не продаст, если все уже проданы, но хотя бы обещал начать серию новых работ), Маро, наконец, совсем успокоилась.
Милостиво взглянула на дремлющего возле печки Серго Баяндура, которому выпала большая честь быть мужем знаменитой поэтессы, и, надо признать, он с необыкновенным мужеством и стойкостью нёс это бремя всю жизнь, как-никак он из породы тбилисских армян, достоинство и благородство им особо присущи!..
Наконец, взглянув ещё на одно существо в доме, на двухмесячного правнука Айка, похожего одновременно на Мону Лизу, только в мужском варианте, и на некоего бельгийца из-за европейски скептического, спокойного выражения лица…
Послушав беседу Ануш и Айка, Ануш издавала радостные воркующие звуки, как бы говоря: «Жизнь прекрасна, прекрасна, не правда ли, Айк?» А он издавал более резкие, отрывистые звуки, как бы говоря: «Сомневаюсь, сомневаюсь, Ануш!»
Удостоверившись, что они беседуют вполне мирно, Маро наконец отвлеклась от суетных дел, зажмурила глаза, шепнула: «Анна! Чаренц! Паруйр!» И вывела на чистом листе бумаги несколько слов, которые образовали то, что называется «поэтической строкой».
Ведь Маро Маркарян и в восемьдесят лет была прежде всего Поэтессой чистой пробы…
Прощальный полёт Ашота
В один из июньских вечеров, когда в Европе где-то расцветают, а где-то отцветают яблоневые, вишнёвые и сливовые сады, когда люди в северной части нашего полушария радуются, разглядывая нежно зеленеющие поля, луга и леса, удивлённо смотрят на реющих в небе ласточек, стрижей, скворцов, плавно скользящих по водной глади озёр и прудов белых лебедей, прилетевших с юга, из окна маленькой больницы где-то в Словении взмыла вверх фигура, похожая на небольшое сизое облако, однако, приглядевшись внимательнее, можно было различить в этом облаке фигуру мужчины с ясными карими глазами, породистым носом и благородным высоким лбом, человек был одет в холщовые брюки, свитер и куртку. Это был художник Ашот Баяндур, прибывший в Словению недавно, чтобы поработать в галерее местного художника, однако после восхождения в горы внезапно почувствовавший себя неважно, очутившийся в больнице и, наконец, к горестному изумлению коллег-художников и родни расставшийся с жизнью в этом яростном и прекрасном мире.
Узнав о предстоящей кремации и о том, что его прах скоро отправят в погребальной урне на Североамериканский континент, Ашот отделился от неподвижно лежащего тела в пустынной палате словенской больницы и, проскользнув мимо дочери Маро, прибывшей из Канады, скорбно сидящей в этот момент с белым от горя лицом на стуле перед дверью палаты, вылетел в окно. Ашот решил попрощаться с теми, кто был ему дорог, он двинулся на северо-восток Европы.
Считается, что душа легко, беспрепятственно проникает через любые расстояния, ничто не мешает ей преодолевать тысячи километров. Какое заблуждение! Где-то идёт гроза, сверкают молнии, электрические облака движутся навстречу друг другу, разряжаются, где-то возникает перепад давлений, дует ураганный ветер, всё это нелегко преодолевать, если земное обличье ещё неокончательно покинуло тебя.
Но через какое-то время Ашот всё же добрался до Москвы, до нашей блестящей столицы с её величественными проспектами, дворцами, роскошными отелями, новыми ресторанами, банками, казино.
Он свернул на юго-запад, приблизился к знакомому окну ничем не примечательного панельного дома.
Лена Мовчан, как обычно по вечерам, сидела на своей уютной кухне и кормила любимую кошку Дусю, но была очень печальна.
– Нет нашего Ашотика, Дусенька, нет! – вздыхала она. – Жаль Марошу, Агу и Анаит!
Дорогая Леночка, мысленно обратился к ней Ашот, глядя через окно кухни на склонённую головку Лены с распущенными по плечам рыжими волосами, я здесь, я с тобой и отлично тебя вижу! Я прекрасно помню твой уютный дом, твои приезды к нам в Ереван, в дом на улице Теряна, и твою дружбу с нашими лучшими армянскими писателями, твои великолепные переводы, я благодарен тебе за то, что ты любишь моего племянника Агу, его жену Шушаночку, их детей, Ануша и Айка, водишь их в театры и на концерты, помогаешь им привыкнуть к Москве. Я горжусь твоим повзрослевшим, таким самостоятельным сыном Богданом, люблю твою прелестную внучку Лину. И жалею только о том, что не успел написать твой портрет времён нашей молодости, я бы написал тебя с распущенными рыжими волосами, подчеркнул ослепительную белизну твоей шеи, нежность и лукавство твоих глаз. Будь здорова, родная, мы расстаёмся, но не навсегда, не навсегда…
Кошка Дуся уставилась в окно и тихонько мяукнула, а Лена Мовчан подошла к зеркалу и удивлённо посмотрела на себя.
– Ты хотел написать мой портрет, Ашотик? – спросила она. – Жаль, что не успел. Но какую такую белизну ты увидел в моей шее?
Она недоумённо пожала плечами, но потом улыбнулась, сказала Дусе: «Художнику виднее!»
Ашот полетел дальше, к центру.
Вблизи Пушкинской площади бурлил народ. Тут стояло несколько людей с плакатами, на которых было написано: «Нет войне в Чечне!» Но большая часть прохожих устремилась по Тверскому бульвару вниз к зданию МХАТа имени Горького, на фасаде которого был протянут транспорант с надписью: «Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова».
Ашот спустился пониже и пролетел мимо дипломатической машины с японским флажком, водитель которой, дико вытаращив глаза, смотрел ему вслед, будто только что увидел японское привидение с картины Хокусая. Ашот влетел в вестибюль, в зрительный зал театра.
Здесь шло представление Японского театра Кабуки. На сцене стоял семидесятилетний японский актёр Накамура Гандзиро – «живое национальное достояние» Японии, исполнял роль девятнадцатилетней гейши, красавицы О-Хацу, прощающейся с земной жизнью на острове в Сонэдзаки. Грациозно колыша складками разноцветного роскошного кимоно, изящно покачивая высокой причёской с торчащими во все стороны гребнями, Накамура необыкновенно жалостливым пронзающим душу голосом говорил по-японски, а над сценой возникал светящийся перевод на русский: «Прощайте, зелёные листья и деревья! Прощайте, яркие звёзды Большой Медведицы, отражающиеся в речной воде!» И слышались рыдания Накамуры, сопровождаемые ударами барабана и плачем струнных инструментов.
Ашот разглядел в задних рядах свою подругу Розушку, та сидела рядом с известным кинорежиссёром Андреем Хржановским и его женой Майей. На Розушке был знакомый платок, в глазах её при словах «прощайте, зелёные листья и деревья» появились слёзы, она переглянулась с Майей и шепнула: «Вот и Ашот так же попрощался с жизнью».
«Дорогая Розушка, мысленно обратился к ней Ашот, не надо печалиться, я не навсегда исчез из твоей памяти, а, значит, и из твоей жизни, я помню тебя ещё со времён наших встреч в общежитии на улице Руставели, когда я приезжал к своей сестре Анаит, заходил к тебе в комнату и распивал чай в компании с тобой и очаровательной киргизкой Кларой Юсупжановой, тогда я мечтал, хотел сделать тройной портрет, хотел написать Анаит, тебя и Клару – армянку, татарку и киргизку, ведь вы были такие разные, но очень красивые и живописные! Помню и то, как ты была в нашем доме на улице Теряна в Ереване, когда проезжала из дома творчества в Дилижане в Москву, ты так восхищалась моей картиной на стене, всей нашей безалаберной квартирой, хвалила жареного в сметане карпа, скромное блюдо из листьев салата, простокваши и чеснока, с удовольствием пила чай, а потом читала мне только что написанный в Дилижане сценарий «Рассказчики Ашик-Кериба», по-моему, это был абсолютно параджановский сценарий, жаль, что он так и не был поставлен. И помнишь, Розушка, я тебе говорил, что пошёл по твоему пути, тоже написал волшебные сказки и сделал к ним иллюстрации? Надеюсь, они скоро выйдут в Словении, и ты их сама прочтёшь».
Затем Ашот мысленно обратился к сидящему рядом с Розушкой Андрею Хржановскому: «Дорогой Андрей, я всегда восхищался твоими фильмами и благодарен тебе за то, что ты прилагаешь столько сил, чтобы сохранить культурное пространство, созданное до нас нашими великими предшественниками в музыке, живописи, кино, вообще в искусстве, ведь мы понимаем, как сужается это пространство, как легко его уничтожить, дай бог тебе сил и здоровья продолжать своё благородное дело. И позволь выразить моё восхищение Майей, её красотой и душевной тонкостью, я рад, что ваш сын пробует свои силы в режиссуре, а невестка выступает на сцене в самом БДТ в Санкт-Петербурге».
Дальше Ашот, покинув здание театра на Тверском бульваре, отправился на Красноармейскую улицу, в район Аэропорта. Там он заглянул в окно и увидел своего племянника Агу, лежащего на постели с перекошенным от горя лицом. «Дорогой Ага, обратился Ашот к нему, тебе кажется, что наступила катастрофа, что мы больше никогда не увидимся, я исчез из твоей жизни навсегда. Но разве не с тобой я был все двадцать восемь лет твоей жизни, разве ты забыл, как мы их с тобой проводили, как ездили на рыбалку на озеро Севан, как ходили в Детский центр к Генриху Игитяну, к нашим армянским художникам в Ереване? Разве ты позабыл обо всём, чему я тебя учил? Ведь ты был мне не только племянником – почти сыном, я столько вложил в тебя любви, знаний, идей, ты не можешь всё это позабыть! Я всегда так гордился твоими успехами, огорчался твоим неудачам, разве ты не помнишь всего этого? И потом: ты же не семнадцатилетняя «барышня Рокуномия» из рассказа Акутагавы Рюноскэ, которая могла только ждать своего высокородного возлюбленного, а больше ничего в жизни не умела и, в конце концов, умерла, ты – не сломанный цветок, не гнутое дерево, ты взрослый мужчина, человек из нашего рода, на тебе ответственность за свою семью, за «птицу-тигрицу-цветок» Шушан, я так благодарю Бога за то, что тебе досталась эта изумительная девушка, такая настоящая, верная, преданная, терпеливая, работящая, которая родила тебе двух детей, красивых и здоровых, теперь надо их растить, учить, оберегать, защищать, а это забота не только Шушан, но и твоя, отца этих детей! А если она поймёт, что не может на тебя рассчитывать, не будет ли она искать того, на кого может опереться? Подумай об этом, дружочек! И потом, я надеюсь, что ты будешь заботиться и о моих дочерях, о Маро и Арч, ты им брат, я на тебя надеюсь, больше в нашем роду мне положиться не на кого. Ещё вспомнил, как ты выстроил мансарду над нашей квартирой в Ереване и кому-то сказал, что Ашот посматривает на мансарду, думает, что там будет его мастерская. Да, всё изменилось, теперь я не буду стоять за мольбертом в этой мансарде, но, надеюсь, там будет рисовать твой сын Айк, твоя дочь Ануш, будет лепить своих фантастических птиц и зверей Шушан, а ты в уголочке будешь дописывать свою докторскую диссертацию по иранистике… Я же по-прежнему буду «посматривать», только уже незримо…»
Оставив задумавшегося Агу на Красноармейской улице, Ашот облетел любимые места Москвы, Третьяковку, Пушкинский музей, где бывал раньше, заглянул в мастерскую художника Шавката Абдусаламова, чьими картинами восхищался, ещё к некоторым художникам, которых почитал, пролетел над новыми дворцами и отреставрированными особняками в центре Москвы и, прощально помахав живописно освещённому Кремлю, вылетел за пределы столицы, полетел на север.
Ему надо было в Стокгольм, к своей сестре Анаит, которая участвовала в международной конференции, где её и застала весть о том, что она потеряла брата.
Анаит медленно шла по стокгольмской улице, печально глядя на хорошо одетых, холёных, таких уверенных в себе и в своём будущем жителей этого благополучной северной страны. Скоро надо было собираться на самолёт, лететь обратно в Москву к обезумевшему от горя сыну Аге и его семье. Где найти силы, чтобы успокоить его? Как самой примириться с тем, что Ашота, любимого брата, больше нет?
«Я здесь, Нунуш, – ласково обратился Ашот к своей старшей сестре, – я с тобой, и всегда буду с тобой. Разве мы не были всю жизнь вместе, и тогда, когда были живы наши родители, наши замечательные Маро и Серго, и когда мы, осиротев, разлетелись с тобой в разные страны и города. Помнишь, как счастливы мы были, когда собирались по вечерам в нашем хлебосольном гостеприимном доме на улице Теряна, когда, казалось, вся ереванская элита была в нашем доме, за одним столом! Мы пели, рассказывали что-то интересное, музицировали, читали стихи! Какое счастливое было время! Потом разруха, война, Карабах, потеря родителей, неурядицы, бедность, уход из жизни наших дорогих друзей. Как горевали мы с тобой, когда не стало великого Минаса Аветисяна, Мартироса Сарьяна, недавно – Гранта Матевосяна. Ты часто ругала меня за мою непрактичность, за то, что я раздаривал свои картины направо-налево, но поверь, наоборот, я был очень практичен, ведь я делал то, что хотел, я дарил тому, кому хотел, и разве это не замечательно, что мои картины разлетелись по всему миру и их разглядывают во всех уголках земли самые разные люди! Я очень люблю тебя, горжусь тем, какая благородная у тебя душа, что ты постоянно стремишься помочь всем обездоленным, униженным, оскорблённым, потерявшим родных и близких, дом, детей… Но подумай немножко и о себе, о том, что «нельзя объять необъятное», не увлекайся так беззаветно желанием помочь всему человечеству, соразмеряй свои силы, постарайся пожить подольше, обещай мне это, моя дорогая Нунуш… Ещё хочу сказать, что помню твой портрет, написанный Галенцем, тогда тебе было, кажется, лет двадцать, там ты сидишь, подперев щёку рукой, у тебя ярко-зелёные огромные глаза, зелёная косынка, чёрная кофточка и пышная юбка… Но я бы написал тебя по-другому, жаль, что не успел… Не грусти, Нунуш!»
И Ашот, слегка коснувшись волос сестры ладонью, будто северный ветер на секунду вздыбил волосы Анаит, полетел снова на юг. Ему предстояло ещё добраться до Армении, до Бюракана, коснуться земли на могилах Серго и Маро, полюбоваться в последний раз на красоту лучшей в мире горы Арарат, отчётливо видимой из Бюракана, и вернуться в Словению, к горестно сидящей перед дверью больничной палаты дочери Маро, такой испуганной, растерянной, совершенно несчастной.
«Мароша, – обратился к дочери Ашот, возникнув перед ней в дверном проёме палаты, – моя бесценная, моя дорогая девочка, моё самое большое в мире сокровище, моя гордость и утешение! Почему ты так безутешна, почему не веришь, что я всегда буду с тобой? Вот я рядом, я не покину тебя! Я помню каждую минутку, каждую секунду, проведённую с тобой и Арч, моими любимыми дочерьми, в вас для меня вся красота и нетленность мира, за вашей жизнью я буду следить, не выпуская вас из вида ни на один миг. И я обязательно дождусь, что ты, Маро, моя старшая дочь, как и положено, выйдешь замуж за хорошего человека, родишь детей, и если будет мальчик, назовёшь его моим именем, если, конечно, захочешь! Маро, ответь же мне!»
И тогда Маро медленно поднялась со стула, провела ладонями по лицу, пристально посмотрела перед собой в пространство и успокоено шепнула: «Хорошо, папа. Я сделаю, как ты говоришь!»
И потом настал следующий день, и ещё следующий, и жизнь пошла дальше, по известным ей законам, как и полагается. «Пока земля ещё вертится…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































