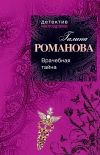Текст книги "Одна сверкающая нить"

Автор книги: Салли Колин-Джеймс
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Восторг от изобретения постепенно гаснет. За ним часто следует всепоглощающая печаль. Ибо что бы я ни создала руками, дыханием, ребенка мне родить не удалось.
В Хевроне женщины мне не улыбаются и не здороваются даже из вежливости, когда мы проходим мимо друг друга на рынке. Крепко держат за руки детей. Дети двоюродных братьев стали молодыми мужчинами и женщинами, обручены, некоторые женаты, и у них уже дети.
Встретив двоюродную сестру Ривку с пятым сыном Арье, я с болью увидела, как она прижала его к груди, словно пряча от сглаза. В лучшем случае меня не замечают. В Эйн-Кереме дышится легче, поэтому я чаще остаюсь там.
– Ты бы пошла на это, если бы я попросила? – в отчаянии спросила я Бейлу.
Может, мать права, и именно она должна понести от моего мужа.
– У меня не было бы выбора, – ответила она.
А на следующее утро она не пришла молоть зерно. Двор не подметен. Кувшины с водой все еще пусты.
Бейла ушла из страха, что я попрошу ее на самом деле. И как только она нас покинула, я погрузилась в работу по хозяйству и со стеклом. Я так быстро привыкла к одиночеству, что, когда оглядывалась на прошлую жизнь, мне казалось, что это не я, а кто-то другой. Когда-то я вылезала из окна и бежала на вершину холма под пронизывающим ветром, теперь в непогоду я закрываю ставни и шепчу молитвы.
В Хевроне меня прозвали Melḥa. Соль. Вещество, которое сохраняет, но в котором ничего не растет. Оно скорее отравит, чем даст семя. Но пока я работаю, меня поражает то, что для изготовления изделий из стекла соль необходима. Авнер научил меня, как ее использовать и в каком количестве для снижения температуры расплава. Без нее печь будет слишком горячей. Melḥa. Соль. Здесь она участвует в творчестве, дающем плоды.
– Ḥavivta?
Муж объявляет о себе ласковым обращением «дорогая». Он знает, что без спроса входить нельзя. Внезапный сквозняк или порыв ветра могут изменить температуру в помещении и испортить результат.
– Очень хорошо подгадал, – говорю я, приглашая войти. – Я как раз собираюсь начать новое.
Он присоединяется ко мне у окна и рассматривает вещицу.
– Paraḥta! «Птица!» – говорит он, видя в испорченном стекле столько же форм, сколько облаков в небе. Может быть, я вижу смутные очертания птицы.
Он шаркает взад и вперед по мастерской. И я догадываюсь. Есть новости. Судья принял решение.
– Он ее осудил, – сообщает Захария и медленно теребит кончики бороды.
Несмотря на жару в мастерской, меня знобит.
Новость из Сартабы, где Мариамну и ее мать держали в заложницах, принес Гамлиэль.
Когда Мариамна пришла на суд, она не испугалась криков толпы. Ее мать выкрикивала оскорбления, предала дочь, чтобы спастись самой.
Итак, по приказу Ирода Мариамну – его жену и мать четверых его детей – предадут смерти.
– Ее повесят, – говорит Захария.
При этой мысли на меня накатывает слабость. Фигурка птицы выпадает из рук и разбивается в пыль у моих ног.
– Инжир созрел рано, – замечает Захария, встречая меня в сумерках во дворе.
Я видела то же самое в долине, потрясенная тем, что многие плоды упали с изъеденной мотыльками и медососами кожицей, а гнилые бока остались нетронутыми.
– Земле польза, удобрится от падалицы, – говорит он.
С его словами усталость удваивается. Я извиняюсь и ухожу пораньше.
– Я скоро приду, – говорит он.
Он приходит раньше, чем я ожидаю. Я расчесываю волосы, не успев заплести. Он тянется к моей талии, целует. И мое тело его ждет. Я крепко его целую, и сначала он отстраняется, но я притягиваю его к себе. Его губы и руки исследуют каждый болезненный изгиб тела.
– О чем ты думаешь? – шепчет он, когда мы потом лежим вместе.
Я не говорю ему, что о нежной коже шеи Мариамны.
Он гладит меня по голове, его дыхание мускусное и сладкое, как сандаловое дерево, проводит пальцами по моей щеке, потом по горлу, и я вздрагиваю. Я отталкиваю его руку и подтягиваю простыню к подбородку. Закрываю глаза и молюсь о царице.
Через несколько дней после казни Мариамны Захария навещает меня в мастерской. Он знает, что я не спала. Он приносит виноград и стопку лепешек с маслом.
– Милая, поешь.
Я склоняюсь над вещью, требующей особого внимания, – заказом от египетского купца. Захария знает, что мне нельзя мешать. Но не уходит. Поворачивается и шумно выдыхает.
– Что еще? – нетерпеливо спрашиваю я.
– Цова хочет приехать в гости.
Я перестаю катать трубку. При упоминании о матери у меня дрожат руки.
– Я их пригласил, – сообщает он.
– Их? – Расплавленная масса теряет форму, сливаясь в однобокий комок, но мне уже все равно. Разве это не признак упорства мастера? Все бросить и начать заново. Желание из одного сделать другое.
Я подношу трубку к огню и поворачиваюсь к мужу.
– То есть она привезет брата?
Я дрожу от радости, что увижу Цада, которого когда-то приревновала, когда мать стала нас сравнивать. Первые слова он произнес на четыре месяца раньше меня, первые шаги сделал так быстро, не царапая коленями землю, – а я до двух лет падала, и священные тексты он знал наизусть к четырем годам.
– Я сам попросил, – говорит муж, и я, в грязном фартуке, отрываюсь от работы, чтобы расцеловать его в заросшие бородой щеки. – Что ты делаешь сегодня? – спрашивает он, похлопывая меня по спине, как ребенка.
– Подарок для Цада, – отвечаю я.
– Помни о долге, милая, – осторожно напоминает он. – Не балуй брата, чтобы наказать мать.
И хотя он не упрекает, у меня в горле застревает ком стыда. Зависть. Брат не узнает о жестокой обязанности дочери перед матерью. Даже когда матери не станет, обязательства перед ней, бабушкой, прабабушкой будут жить в каждой моей мысли о себе.
– А не пригласи ее – только хуже сделаешь, себе дороже, – уходя, изрекает муж. – И, пожалуйста, милая, поешь хоть чего-нибудь.
С трубкой в руке я собираю стекло до конца. Нагреваю, верчу. Катаю туда-сюда по шестку около устья. Нужно закончить заказ, чтобы проводить время с братом. Гулять, рассказывать всякие истории, вдали от любопытных глаз матери подарить ему оберег, который я сделала, чтобы его защитить. Вещицу, которая напомнит ему о любящей старшей сестре. Он будет носить ее с собой, хвалиться подарком перед друзьями, а они восхитятся ее красотой.
– А для чего это?
Я будто слышу сомнения матери.
По ее мнению, женщина должна молоть зерно, ткать, печь, убирать, следить за светильниками и готовить лекарства. Когда она не выполняет эти обязанности, то должна ухаживать за детьми, родителями, соседями, мужем.
Но мать не знает, что в стекле моя любовь и молитвы о брате.
Я переключаю внимание на работу. Творчество. Труд, не предназначенный для женских рук, из-за которого меня считают сумасшедшей.
Глава 11. Флоренция, 1513 год
Я беру в руки тяжелый пестик, вытираю его начисто и кладу к другим инструментам. Мастерская Мариотто освещается неярким лунным светом. Луна терпелива и неподвижна, словно позирует портретисту.
Гашу фонарь, подхожу к окну и поднимаю кисть к луне, словно собирая на щетину жидкий свет. Даже если бы это было возможно, как бы он выглядел на дереве или холсте? При смешивании на палитре краска может мерцать, но что будет, когда она высохнет? Не появятся ли трещины на неровной поверхности, скажем на холсте? Посветлеет или потемнеет? Не произойдет ли химической реакции с пигментом или темперой? Сотни лет художники ставят опыты, но от ошибок не застрахован никто. Для меня эта работа – загадка, таинственная медитация. Ведь одни и те же вещества в малейших вариациях дают разный результат. Как же так?
Когда-то я думала, что проведу эти часы с ребенком у груди. Я заматываю шарфом лицо, ножом разрезаю свинцовую лепешку на куски, половину кладу в ступку. Измельчаю пигмент и готовлю пасту в поисках светящейся белой краски, о которой мечтают художники.
Неудивительно, что у Мариотто слезятся глаза, краснеет нос и появляется кашель. И кожа, и одежда покрыты свинцовой пылью, которую он яростно перетирает. После первых дней работы с пестиком и ступкой нос у меня горел огнем. Через несколько недель кожа на руках покрылась волдырями, они чесались, как блошиные укусы, и не давали спать. Теперь, помимо защиты лица, я надеваю рубашку с длинными рукавами и перчатки.
Как только на свинцовых полосках, подвешенных над банками с уксусом, появляется корка, я снимаю ее и измельчаю, трижды промываю и ополаскиваю, потом собираю в бледные лепешки и сушу их на подоконнике. Монотонная работа, но не такая тяжелая, как измельчать корку в порошок, который, надеюсь, превратит белое в искрящееся и блестящее.
Мрамор и яичная скорлупа. Кость каракатицы и мелкозернистый алебастр. Все измельчается, а затем растирается до массы, которая после добавления масла дает большую глубину и блеск. Краска должна хорошо ложиться на дерево и сохнуть не слишком быстро.
Темпера из яичной скорлупы придает яркость и глубину, но не сияет, как масло, и быстро сохнет. Ее труднее смешать, что однажды довело Мариотто до белого каления, и он швырнул в мольберт сырые яйца.
Когда я пробую разные соотношения порошков и масел, некоторые смеси становятся тягучими. Другие надо наносить на холст быстро, иначе смесь засохнет. Постоянно представляю себе реакцию Мариотто и Микеля. Моя цель – добиться краски, которая удовлетворит как самых терпеливых художников, так и несдержанных.
– Маэстро Ченнино говорит, что чем мельче порошок, тем лучше.
Мариотто сжимает пестик в кулаке, как дубинку в драке. Я пытаюсь прогнать его, чтобы отдохнул.
– Закрой хотя бы лицо, – предлагаю я, протягивая ему лоскут, оторванный от старого фартука.
– А как я увижу, что делаю?
– Закрой нос и рот, не глаза, – поясняю я, но он отказывается. Чаша порошка, который он высыпал на палитру, вздымается небольшими облаками, от которых он задыхается и плюется.
– Vai via! Уходи! – говорит он, выхватывая у меня из рук лоскут и сморкаясь.
– Ты из-за этого цвета совсем рехнулся, – сержусь я.
– Я сойду с ума от твоего нытья. Займись чем-нибудь полезным, например anellini in brodo. Бульоном с лапшой.
Мариотто никогда мне не грубил. Не говорил, что мое дело только готовить, на другое я не способна.
– Разреши помочь тебе в поисках белого, о котором мечтает каждый художник, – прошу я. – Я кое-что придумала. Кажется, я знаю, как добиться un bianco senza eguali.
– Белого, которого еще не было?
Он выпрямился по стойке смирно, глаза остекленели от раздражения. Почесал нос концом шпателя.
– Будешь молоть – задержи дыхание, – подсказал он и протянул пестик. – От проклятого порошка кожа чешется, как от оспы.
Надев плащ, он целует меня в обе щеки.
– Я принесу Buccellato di Lucca, – обещал муж, зная, как я люблю сладость с изюмом и анисом.
Вероятнее всего, он вернется через неделю, дышащий, как труп, и ничего сладкого не будет и в помине.
Я добавляю две капли льняного масла в горку молотого свинца, потом кладу порцию порошкообразного cristallo, прозрачного венецианского стекла, все это перемешиваю мастихином, затем берусь за бегун для растирания. Сильно давлю, чтобы масло пропитало массу. Тужась, чувствую влажное тепло между ног. Месячные надежнее, чем звон городских колоколов, которые обычно звонят, чтобы сообщить о каком-то событии, а иногда безо всякой причины.
Три года назад я ходила к врачу.
– Сколько лет? – спросил он меня, ощупывая живот ледяными пальцами.
– Двадцать один.
– Давно замужем?
– Восемь лет.
– Понимаешь, в какую дырку он должен входить?
Видимо шок от вопроса он ошибочно принял за невежество.
– Откуда у тебя течет кровь. Не дерьмо.
Он сильно нажал на пупок, и я вздрогнула. Задрав юбки, стянул с меня штаны и ввел внутрь пальцы. Тело напряглось против его силы. Он копался все глубже, и я задрожала, потом отстранился и подошел к столу.
Я лежала, не зная, что делать, а он шуршал бумагами и рылся в ящиках стола.
– Где скромность? Оденься, – велел он, повернувшись и обнаружив меня в том же виде, в каком оставил.
– Муж упал с лошади, – пробормотала я и возненавидела внезапную слабость. – Вскоре после того, как мы поженились. . testicoli…
Я запнулась. Как объяснить, что яички мужа сморщенные, свисающие, как абрикосы, объеденные муравьями?
– Fica… – сказал он себе под нос, но так, чтобы я слышала. Самое грубое замечание для женщины. – Я полагаю, ты молишься и каешься?
За кого он меня принял? За ведьму? Конечно, я молилась Господу и каялась. А еще Элишеве. Доброй женщине, утешавшей Деву Марию. Я черпаю силу в молитвах, обращенных к Святой, она поддерживает память о Лючии вместе с мечтой о встрече.
– Я так и думал, – сказал врач, когда у меня не нашлось слов для ответа. – Это проклятие, ниспосланное свыше.
– Проклятие?
– Бесплодие, – ответил он. – Проклятое лоно. Божья кара. И нечего разглядывать мужа, лучше спроси свою совесть. Не каждой женщине дано вынашивать Божьих детей.
Я кладу на стол новую смесь красок, иду к себе в комнату, достаю из ящика мягкую ткань и марлю и завязываю их платком между ног. Кровь яркая, как остекленевшее озеро над terra rossa[32]32
Красная глина, краснозем (ит.).
[Закрыть]. Как жена художника, теперь я обращаю внимание на цвет. Если Мариотто вечером вернется, у меня есть причина его удержать. Прошло шесть дней с тех пор, как он пообещал вернуться с лакомством.
До меня частенько доходили слухи, что его видели на Виа-делле-Белле-Донне, где он тратил наши деньги на куртизанок.
Но булочник утверждал, что племянник синьоры Баролли видел Мариотто во Фьезоле. Муж часто посещал город на вершине холма, черпая вдохновение в sacre conversazioni, священных беседах с Фра Анджелико, картинах, на которых святые изображены в обычной жизни. Образы, которые, по словам Мариотто, вызывали в равной степени уважение и улыбку. Даже если его видели, бесполезно надеяться, что он до сих пор там.
Я распахиваю ставни в спальне и выглядываю на улицу, переполненная беспокойством и гневом.
Вернувшись в мастерскую Мариотто, беру кистью последнюю смесь белого цвета, нанося ее на доску. Отвлекаюсь от мыслей о муже: чьей плоти он касается и сколько вина выпьет, прежде чем отключится в каком-нибудь темном, зловонном переулке.
– Ан-то-ния!
Просыпаюсь от его голоса. Голова на столе, щека в краске.
– Ан-то-ния-а!
Светает. Мариотто пьян.
– Антония! Дорогая моя жена, слишком умная для мужа!
Подхожу к окну, вытираю краску с лица. Муж внизу, на улице, одна рука на груди, другой машет шляпой, как белым флагом. Весь мокрый, растрепанные волосы прилипли к лицу, у ног растекается лужа.
– Sono un cane. Я грязный пес, – заявляет он идущей на рынок старушке.
– Замолчи и заходи в дом, – кричу я.
И бегу вниз по лестнице, чтобы его привести.
– Ты промок, – говорю я.
– Парикмахер предложил мне принять ванну, я залез в ботинках и в остальном. Когда он перестал орать, обещал заплатить ему портретом.
Изо рта несет вином, но кожа пахнет аралией и гвоздикой. Я молюсь, чтобы он выполнил обещанное парикмахеру.
Рана на лбу, только что зажившая после пьяной ссоры, когда его треснули кочергой, открыта и сочится.
– Я собака, – твердит он, пока я помогаю ему подняться на кухню.
– Тогда садись, как она, – говорю я.
Он подчиняется и тяжело приземляется на резное кресло, подарок его покровительницы, леди Альфонсины. Еще раны: на ухе и на шее. Засохшая и кровоточащая.
– Ты нашла? Краску, от которой мы разбогатеем? – спрашивает он, его слова сливаются воедино.
– Тише, – говорю я, смачивая шерсть в уксусе, чтобы протереть раны.
– Когти ведьмы! Ты меня спалишь.
Он машет и выбивает банку из руки. Та разбивается о пол. Он наклоняется, чтобы собрать осколки, и падает со стула, перекатывается на спину, ноги и руки тянет вверх, воет, как собака. Потом хохочет. Воет, и смеется, и чешется – как собака подносит лапы к животу.
Я тоже начинаю смеяться над комедией на нашей кухне. Великий Мариотто Альбертинелли – пьяный комок на полу.
Он встает на четвереньки и шатается.
– Где ботинок? – спрашиваю я.
Чулок на левой ноге порван, волосатый палец торчит. Мариотто хватается за край стола и заползает обратно на стул, яростно почесывая затылок.
– У тебя чесоточный клещ, – говорю я, принося бутылку миртовых ягод и шалфея.
– Потерял или нашел? – спрашивает Мариотто, поднимая то одну ногу, то другую. – Кажется, ботинок не мой.
Конечно, нет. Полусапог с пряжками для него велик. Я вспоминаю тот день, когда мы впервые встретились: венецианские туфли, подаренные отцом, были мне слишком велики. Как же я благодарна за то, что теперь у меня обувь по размеру.
Мариотто поднимается, стаскивает промокшую одежду и бросает ее на пол. Его трясущийся живот нависает над чулками. И тут я вижу лишнюю шишку в паху. Как и выглядывающее из чулка печенье.
– Ты прячешь ужин? – указываю я.
– Вот оно! – говорит он, запуская руки в чулки.
Он бросает мне на ладонь бархатный мешочек, перетянутый бечевкой. Тот тяжелее, чем я ожидала.
– Это не извинение, – говорит он.
Я ослабляю веревочку и достаю содержимое.
Предмет аккуратно лежит в руке. Длиной с ладонь и шириной с пол-ладони. Угольно-черный, но не тусклый, блестит, как драгоценный камень. Я стучу ногтем по поверхности.
– Стекло, – говорю я, проводя пальцами по блестящей прохладной поверхности. Он изогнут на концах, как миндалевидные глаза этрусков, которые я видела на фресках гробниц.
– Для духов? – спрашиваю я, хотя оба конца кажутся запечатанными. Ни пробкой, ни воском.
– Для восхищения, – отвечает он. – Мама, бывало, держала его в руке и крутила на свету.
Когда я слышу, с каким благоговением и искренностью он говорит о матери, которую потерял в детстве, у меня и болит, и взмывает ввысь сердце.
– Dio mio, Мариотто, – отвечаю я. – Это очень дорогой подарок. Я не могу его принять.
– Я уже теряю башмаки, – постепенно трезвея, мрачно говорит он. – У тебя ему надежнее.
Он вглядывается в мое лицо как художник, изучающий модель. Словно ищет, с чего начать картину. Угол, точку, из которой будет нарисовано все остальное.
– Когда она отдала его мне, стекло еще хранило ее тепло, – тихо рассказывает он. – Когда она умерла, я оставлял его на солнце, чтобы черный цвет впитал тепло. Потом спал с ним в руке, представляя, что это тепло – ее.
Я сжимаю пальцами стекло. Представляя теплые руки матери Мариотто, умершей, когда ему не было и пяти.
– Вещиц было две, – говорит он.
Мариотто всегда теряет больше, чем приобретает.
– Этот ей нравился больше, поэтому отдаю его тебе. Поднеси к окну, к свету.
Я подхожу к окну, и у меня на ладони открывается новый мир. На черном фоне танцуют мириады крошечных белых точек.
Я кручу стекло, чтобы оно мерцало в бледном утреннем свете.
– Мать была необыкновенной, – вспоминает Мариотто. – Не то что все мы, отупевшие, увядшие, потускневшие от собственных недостатков. Тихая, умная, глубокая. Когда она говорила, будто излучала свет. Как это стекло.
– Это она вдохновила тебя на образ Святой Елизаветы? – спрашиваю я. – Поэтому в центре картины стоит она, а не Дева Мария?
– Вот почему ты слишком хороша для меня, моя женушка.
Он обнимает меня, расцеловывает в обе щеки.
– Каждый новый день, пока ты со мной, я счастливее, чем накануне.
Он проводит пальцами по моим волосам спереди назад, еще и еще. Кожа головы расслабляется, волна идет по позвоночнику. Я жажду прикосновения, ласки. Он проводит губами по шее, массируя поясницу.
Теплые ладони скользят по животу к груди. Судя по тому, что рассказывали мне женщины, таких, как он, называют бескорыстными любовниками.
Интересно, так ли он ласкает всех своих женщин. При этой мысли накатывает волна гневного отторжения, нежелания прикасаться к нему, боязнь подхватить болезни, поражающие тела тех, кто не уважает брак. Я вырываюсь из его объятий.
– Тебе не обязательно доставлять удовольствие мне, – шепчет он, уговаривая вернуться.
Он целует плечи, кончики пальцев скользят между бедрами, кожа трепещет от удовольствия. Хочется задрать юбку и толкнуть туда его пальцы. Вместо этого я хватаю его за руку, чтобы остановить.
– У меня дни пришли, – сообщаю я.
– Тогда ты еще соблазнительнее, чем когда-либо.
Он высвобождает руку и начинает меня раздевать, снимая каждый слой так, словно разворачивает подарок. Язык скользит у сосков, а руки – по мягким болезненным складкам между ног, потом губы касаются кожи между грудями – я даже не догадалась бы, какое нежное это место, если бы муж его не целовал. Проводя пальцами по моему влажному паху, он целует мягкую впадину у основания шеи, затем его язык, словно теплая, влажная кисть, касается пупка. Мои бедра покачиваются под толчками пальцев, у меня перехватывает дыхание. Влажное тепло его кожи будто вода, журчащая, накатывающая, его пальцы входят внутрь меня все сильнее, и я словно плыву в бесконечную дрожь удовольствия.
Он пеленает меня в мягкие простыни и свою ночную рубашку, несет в нашу кровать и расчесывает мне волосы. Прижимает новую шерсть между ног, от кровотечения. Мне хочется заснуть на целый год.
Он недолго сидит на краю кровати; его присутствие успокаивает. Потом наклоняется ближе, и я думаю: сейчас поцелует. Но он отвечает на вопрос.
– Хотя Святой Иоанн – покровитель Флоренции, Елизавета – мать. La Madre. Поэтому она в центре картины.
Его губы шевелятся у моего уха.
– Без нее ничего бы не было. Ни покровителя. Ни города. Ни нас. Мы бы не существовали.
Утром его уже нет. Я одеваюсь, завариваю кипятком листья бузины, вытираю лицо розовой водой из почти пустой бутылки и иду в мастерскую, чтобы продолжить работу. Mio lavoro. Моя работа.
Какой подъем я чувствую, возвращаясь к задаче. Я надеваю старые перчатки и завязываю тряпку, закрывая нос и рот, – граница между мирами определена. И отстраняюсь от повседневности.
Женщина создает то, что хочет.
Я снимаю крышку с ящика, набитого банками и навозом. В нос бьет резкий запах тухлых яиц, но вместе с ним и запах трав, полей, сырой земли, ароматы, которые несут смутное воспоминание детства о дне в деревне, когда мама собирала полевые цветы, чтобы сплести мне ожерелье. Внутри каждой банки подвешена над уксусом на деревянных палочках свернутая спиралью свинцовая пластина. Я с нарастающим волнением рассматриваю пластины и выбираю те, на поверхности которых образовалось много белого порошка. Осторожными движениями я соскребаю налет так, чтобы ни одна частица свинца не попала в смесь, возвращаю пластину на место, над уксусом, и беру другую. Пока блюдо наполняется тем, что предстоит промывать и сушить, потом измельчать в порошок, размышляю над тем, что моя жизнь могла бы быть и хуже.
– Хочешь все делать по-своему – не родись женщиной.
Микель рассказал нам, как разозлился его бывший покровитель Лоренцо Медичи на слова сестры Наннины, зачитав их осуждающим тоном, пока Микель рисовал его портрет.
Когда Микель передал содержание письма мужчинам, собравшимся в лоджии, оно вызвало большие споры.
– Откуда благородной даме знать жизнь других, которые в поте лица стоят на кухне, потом пашут на купца, отбеливая шерсть? – возразил Микель.
– Благородные дамы дальше своего носа ничего не видят, – согласился Франчабиджо.
– Красивые побрякушки и драгоценности от судьбы не спасут, – заключил более вдумчивый Понтормо.
Но жалобы Наннины Медичи обескураживают. Неужели это слова женщины, на свадьбе которой пятьсот гостей растянулись по Виа-делла-Винья-Нуова, выпили семнадцать бочонков вина и сожрали шестьдесят три жареных борова, перемолов зубами лучшую еду во Флоренции. Если уж Наннина несчастна, что говорить о других?
Я насыпаю на плиту небольшую порцию молотого свинцового порошка и на этот раз добавляю масло грецкого ореха, обращаясь мыслями к Лючии. Как и Наннина, Лючия смело высказывала недовольство. И хотя отцу не нравилось ее присутствие, платье, слишком громкий смех, при ней он не говорил ни слова. Только за спиной. Будто боялся, что она быстро заткнет ему рот.
Опершись со всей силой на бегун для растирания, я вплетаю мысли о Лючии и Наннине в скрежещущий ритм трения камня о камень. В устойчивое, твердое давление, сметающее порошок в восьмерку. Я с головой погружена в работу и не слышу щелчка двери и легких, трезвых шагов Мариотто по лестнице.
– В чем дело? – спрашиваю я, когда он останавливается рядом. – Ты похож на свинью после встречи с мясником.
– Плохие новости, – отвечает он, переходя прямо к делу.
Я в церкви. Муж выходит из мортуария, где лежит тело моего отца.
– Тебе лучше не смотреть, – предупреждает он, но я протискиваюсь мимо него. Иногда воображаемое пугает больше увиденного.
Кожа у отца серая и вздутая, череп раздавлен, будто ударили утюгом. Руки, ноги морщинистые и бесцветные. Плоти почти нет. Куда делся воинственный отец моего детства, чьи быстрые кулаки не знали промаха? Я сама видела, как он дрался сразу с двумя мужчинами, и на его теле не осталось ни единой царапины. Но пьянство притупило реакцию и в то же время преувеличило иллюзию собственной силы. Он выбрал неравный бой, который у него не было шансов выиграть. Возможно, сразу убили или связали и бросили. Найден рыбаком, ловившим линя в Арно.
Если бы только такой поворот событий дал ощущение божественного порядка. Я давно утратила когда-то любимого Babbo из-за мрачных воспоминаний, где он вел себя, как зверь. Но сейчас, глядя не него, я все еще его pulcina, и его страшная смерть разрывает мне сердце.
По дороге домой Мариотто молча прижимает меня к себе.
«Не родись женщиной, если хочешь, чтобы все было по-твоему», – вспоминаются мне слова Наннины Медичи.
– Кем же лучше родиться? – спрашиваю я.
Мариотто молчит.
В детстве я мечтала убежать от домашних дел. Освободиться от оков матери и отца и стать такой, как Лючия. Теперь мои семейные узы разорваны, но я не свободна. Я просто плыву по течению.
Придя домой, берусь за работу: соскабливать, измельчать, смешивать, проверять, снова начинать. В пигмент добавляю масло по капле, снова растираю, пока не начинают болеть руки. Полоса за полосой белого цвета по всей деревянной поверхности. Наклоняю ее и так, и эдак. Пока краска сохнет, чтобы отвлечься, беру стеклянный пузырек: этот черный цвет, улавливающий свет, покоится у меня в ладони. Как это похоже на Мариотто – подарить мне маленький мир контрастов. Как белый цвет искрится на черном стекле – именно то, что я полна решимости уловить.
Я откладываю флакон и возвращаюсь к дроблению и смешиванию в погоне за цветом, столь же неуловимым, как рай, пока лунный блеск не исчезает с реки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?