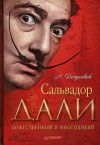Текст книги "Дневник одного гения"

Автор книги: Сальвадор Дали
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Ноябрь
Порт-Льигат, 1-е
Как только умирает какой-нибудь выдающийся или даже хоть немножко выдающийся человек, меня в тот же миг постигает острое, странное и в то же время утешающее чувство, будто покойный стал стопроцентно далианской личностью, потому что отныне он будет покровительствовать расцвету моего творчества.
Сальвадор Дали
Сегодня день для мыслей об усопших[104]104
…день для мыслей об усопших… – 1 ноября католики отмечают День Всех Святых, он же День поминовения усопших.
[Закрыть] и о себе. День, чтобы подумать о смерти Федерико Гарсии Лорки, расстрелянного в Гранаде, о самоубийстве Рене Кревеля[105]105
Кревель Рене (1900–1935) – французский поэт-сюрреалист. В 1929 году опубликовал эссе «Дали, или Антиобскурантизм».
[Закрыть] в Париже и Жана Мишеля Франка в Нью-Йорке. О смерти сюрреализма. О князе Мдивани, гильотинированном собственным «роллс-ройсом». О смерти княгини Мдивани и Зигмунда Фрейда, бежавшего в Лондон. О совместном самоубийстве Стефана Цвейга[106]106
Цвейг Стефан (1885–1942) – австрийский писатель, автор тонких психологических новелл и биографий. Вынужденный после присоединения Австрии к фашистской Германии эмигрировать в Англию, затем в США и Бразилию, совершил вместе с женой самоубийство.
[Закрыть] и его жены. О смерти принцессы де Фосиньи-Люсенж.
О смерти в театре Кристиана Берара[107]107
Берар Кристиан (1902–1949) – французский театральный художник и иллюстратор.
[Закрыть] и Луи Жуве[108]108
Жуве Луи (1887–1951) – французский актер театра и кино, режиссер; некоторые его спектакли оформлял К. Берар.
[Закрыть]. О смерти Гертруды Стайн[109]109
Стайн Гертруда (1874–1946) – американская писательница, жившая с 1902 года в Париже. В ее доме собирались все ведущие представители молодого и авангардного искусства, она стала музой литературного и художественного авангарда.
[Закрыть] и Хосе Марии Серта[110]110
Серт Хосе Мария (1874–1945) – испанский живописец, художник-монументалист, ему, в частности, принадлежат росписи Дворца наций в Женеве.
[Закрыть]. Миси и леди Мендель. Робера Десноса[111]111
Деснос Робер (1900–1945) – французский поэт, принадлежал к группе сюрреалистов. Погиб в фашистском концлагере.
[Закрыть] и Антонена Арто[112]112
Арто Антонен (1896–1948) – французский актер театра и кино, драматург, режиссер. В 1924 году присоединился к группе сюрреалистов, в 1927-м был из нее исключен, так как Бретон заподозрил Арто в том, что тот поставил пьесу А. Стринберга на деньги, полученные от шведского посольства. Создатель теории так называемого метафизического театра жестокости, которая так никогда и не нашла воплощения. В сущности, Арто был человек с нарушениями психики и неоднократно находился на излечении в психиатрической клинике с диагнозом «паранойя».
[Закрыть]. О смерти экзистенциализма. О кончине моего отца. А также Поля Элюара.
Убежден, что как аналитик и психолог я превосхожу Марселя Пруста. Не только потому, что я использую множество методов, каковых он не знал, и среди них психоанализ, но главным образом потому, что структура моей системы мышления относится к типу исключительно параноидальному, который наиболее подходит к исследованиям такого рода, тогда как его – к депрессивно-невротическому, то есть наименее приспособленному для подобных занятий. Это нетрудно понять, взглянув на его усы, поникшие, какие-то унылые, хотя и в меньшей степени, чем совершенно депрессивные усы Ницше, являющие полную противоположность жизнерадостным и веселым усищам Веласкеса, а уж тем паче ультраносорожьим усам вашего гениального и покорного слуги.
Да, я всегда охотно пользовался системами, основанными на анализе волосяного покрова, и с эстетической точки зрения для определения количества денег, которое взаимосвязано с тем, как у человека растут волосы, и в психопатологической сфере усов, этой трагической константы характера и, вне всяких сомнений, самой яркой детали мужского лица. И столь же несомненно, что, хоть я люблю использовать гастрономические термины, чтобы заставить проглотить мои сложные философские идеи, крайне трудные для переваривания, я неизменно требую от этих идей самой жесткой прозрачности, чтобы можно было различить самый крохотный их волосок. Я не потерпел бы никакой неясности, в сколь бы малой мере она ни проявлялась.
И поэтому я с удовольствием утверждаю, что Марсель Пруст со своим мазохистским самокопанием и садо-гомосексуальным сдиранием покровов с высшего света сумел состряпать некое подобие диковинного, импрессионистского, сверхчувственного и квазимузыкального ракового супа. В нем не хватает только раков, или, верней сказать, они там присутствуют, но в виде раковой эссенции. Меж тем как Сальвадору Дали, напротив, благодаря всем неуловимейшим эссенциям и квинтэссенциям, которые он добывает, сдирая кожу с себя и с иных людей, никогда и ни в чем не похожих друг на друга, удается преподнести вам на блистающей тарелочке, к которой не прилипло ни одного теоретического волоска, настоящего вареного рака, абсолютно конкретного, сверкающего членистым панцирем, что укрывает съедобную и вкусную, каковой она в действительности и является, реальность.
Пруст из рака ухитряется сделать музыку, Дали же, в противоположность ему, музыкой способен сотворить рака.
А теперь перейдем к смерти наших современников, которых я знал и которые были моими друзьями. Мое первое и утешающее ощущение, что они становятся настолько далианскими, что станут трудиться у истоков моего творчества. И одновременно возникает другое тревожащее и парадоксальное чувство: мне кажется, будто виновником их смерти был я!
Я вовсе не испытываю потребности искать подтверждения своей вины, моя лихорадочно-параноидальная интерпретация событий и без того подсовывает мне самые подробнейшие доказательства моей преступной ответственности в их гибели. Но поскольку с объективной точки зрения это абсолютно не соответствует истине, а с другой стороны, благодаря своему сверхчеловеческому разуму я парю надо всеми и вся, то проблема потихоньку сама собой улаживается. Так что я могу перед вами исповедаться с грустью, но без капли стыда, что смерти моих друзей, укладываясь тончайшими последовательными слоями «ложного чувства вины», в конце концов образовали своего рода исключительно мягкую подушку, на каковой я ночью и засыпаю, как никогда свежий и начисто избавившийся от страхов.
Гибель расстрелянного в Гранаде Федерико Гарсии Лорки, поэта, воспевавшего насильственную смерть!
Оле!
Этим типично испанским возгласом я встретил в Париже известие о смерти Лорки, лучшего друга моей бурной юности.
Именно этот возглас, который физиологически непроизвольно издает любитель корриды, когда матадору удается красивый выпад, и который вырывается из глоток тех, кто подбадривает исполнителей фламенко[113]113
Фламенко – обобщенное название андалузских песен, музыки и танцев, а также стиля их исполнения.
[Закрыть], выкрикнул я, отметив смерть Лорки и обозначив тем самым, до какой степени по-испански трагично завершилась его судьба.
Не меньше пяти раз в день Лорка заговаривал о своей смерти. Ночью он не мог уснуть, если мы все не приходили «уложить» его в постель. Но уже и в постели он находил возможности длить до бесконечности самые возвышенные, какие только знал мир в нашем столетии, поэтические беседы. И почти все они кончались темой смерти, прежде всего его собственной смерти.
Лорка изображал и выпевал все, о чем заводил речь, в частности и свою смерть. Он разыгрывал целый пантомимический спектакль. «Вот таким, – говорил он, – я буду в миг смерти». После чего исполнял своего рода горизонтальный балет, изображая судорожные движения собственного тела в момент похорон, если гроб будут нести по дороге, проходящей по одному из крутых склонов в Гранаде. Потом демонстрировал нам, как будет выглядеть его лицо через несколько дней после погребения. И его черты, которые в общем были не слишком красивы, вдруг обретали ореол невероятной красоты и даже некоторую изящность. А увидев, какое впечатление он произвел на нас, Лорка улыбался, торжествовал, сознавая свою абсолютную лирическую власть над зрителями.
Он написал:
Также в конце оды, посвященной Сальвадору Дали (а потому вдвойне бессмертной), Лорка недвусмысленно намекает на собственную смерть и просит меня тоже не слишком задерживаться, после того как моя жизнь и мое творчество достигнут расцвета.
В последний раз я видел Лорку в Барселоне за два месяца до того, как разразилась Гражданская война. Гала, прежде не знавшая его, была просто потрясена этим клейким феноменом неодолимого всеобъемлющего лиризма. Впрочем, то было взаимное чувство: в продолжение трех дней очарованный Лорка не был способен говорить ни о чем другом, кроме как о Гале. Точно так же Эдвард Джеймс, безмерно богатый поэт, одаренный сверхчувствительностью колибри, прилип, попал в ловушку личности Федерико. Джеймс носил тирольский костюм, изобильно украшенный вышивкой, – короткие штаны и кружевную рубашку. Лорка говорил про него, что это птичка колибри, наряженная солдатом времен Свифта.
Как-то раз мы с Лоркой сидели в ресторане «Гарригский кенарь» и вдруг увидели: невдалеке шествует строевым шагом крохотное, но исключительно нарядное насекомое. Лорка тотчас узнал его, вскрикнул и вел пальцем все время, пока насекомое это пребывало в поле его зрения, однако же не подозвал его к нам. А когда опустил палец, насекомого и след простыл. Так вот, это крохотное насекомое в тирольских кружевах, и, между прочим, тоже поэт, было единственным существом, которое могло бы изменить судьбу Лорки.
Дело в том, что Джеймс недавно снял около Амальфи виллу Чимброне, которая вдохновила Вагнера[115]115
Вагнер Рихард (1813–1883) – немецкий композитор, в частности автор цикла опер «Кольцо Нибелунга» на основе германского эпоса «Сказание о нибелунгах». «Парсифаль» (1882) – его последняя опера, названная самим Вагнером «торжественной сценической мистерией».
[Закрыть] сочинить «Парсифаля». Он пригласил нас с Лоркой приехать к нему и жить там сколько захотим. Три дня мой друг Федерико терзался, решая мучительную альтернативу: ехать – не ехать. Решение менялось каждые четверть часа. В Гранаде его отец, у которого была неизлечимая болезнь сердца, боялся, что вот-вот умрет. В конце концов Лорка пообещал, что присоединится к нам, но сперва повидается с отцом и постарается его успокоить. Но тут началась Гражданская война. Федерико расстреляли, а его отец жив до сих пор.
Вильгельм Телль? Я продолжаю пребывать в убеждении, что, раз уж нам не удалось увезти с собой Федерико, его психопатологически боязливый и нерешительный характер все равно помешал бы ему приехать к нам на виллу Чимброне. И тем не менее сейчас во мне рождается тягостное чувство вины за его гибель. Может, мне и удалось бы вытащить его из Испании, но я недостаточно упорно настаивал. Если бы я действительно этого хотел, я сумел бы увезти его в Италию. Но я тогда писал большущую лирическую поэму «Пожираю Галу», а кроме того, в глубине души, то ли осознанно, то ли неосознанно, ревновал Лорку к ней. Мне хотелось быть в Италии одному, любоваться террасами с растущими кипарисами и апельсиновыми деревьями, любоваться торжественными храмами Пестума[116]116
Пестум – город в Италии, первоначально греческая колония, в 273 году до н. э. завоеван римлянами. В нем сохранились греческие храмы VI и V веков до н. э.
[Закрыть], да притом необходимо было, чтобы мне тогда повезло, да нет, посчастливилось никого не любить, а иначе я не смог бы насладиться блаженством мании величия и жажды одиночества. Да, тогда, в пору далианского открытия Италии, мои отношения с Лоркой и наша бурная переписка по странному совпадению очень смахивали на знаменитый разрыв между Ницше и Вагнером. К тому же как раз в это время я работал над апологией «Ангелуса» Милле[117]117
Милле Жан Франсуа (1814–1875) – французский живописец и график. На его картине «Ангелус» (1859) изображены крестьянин и крестьянка, молящиеся на поле, а на заднем плане – церковь. «Ангелус» – вечерний звон, названный так по первому слову католической молитвы, обращенной к Богоматери.
[Закрыть] и писал свою лучшую книгу, до сих пор не изданную[118]118
Наконец-то опубликованную в 1963 г. в издательстве Ж. Ж. Повера.
[Закрыть], «Трагический миф „Ангелуса“ Милле», а также свой лучший балет, названный «„Ангелус“ Милле» и тоже до сих пор нигде не поставленный, для которого я хотел использовать музыку «Арлезианки» Бизе[119]119
Бизе Жорж (1838–1875) – французский композитор, автор оперы «Кармен» и музыки к драме французского писателя А. Доде «Арлезианка» (1872), более известной как оркестровая сюита.
[Закрыть] и неизданное музыкальное сочинение Ницше. Ницше написал его уже на пороге безумия, во время одного из приступов антивагнеровских настроений. Граф Этьен де Бомон раскопал его, как мне помнится, в одной из библиотек Базеля, и я, хоть ни разу не слышал его, воображал, что это единственная музыка, которая подойдет для моего творения.
Красные, красноватые, розовые и даже бледно-сиреневые тут же ухватились за смерть Лорки в целях отвратительной демагогической пропаганды, используя ее для гнусного шантажа. Они пытались и пытаются до сих пор сделать из него политического героя. Но я, который был его лучшим другом, могу свидетельствовать перед Богом и историей, что Лорка, поэт на все сто процентов, был единосущно самым апостольским созданием из всех, кого я знал. Он попросту оказался искупительной жертвой в сплетении личных, суперличных и местных отношений, а самое главное, безвинной добычей всемогущей конвульсивной и космической смуты, каковой была испанская Гражданская война[120]120
Через год после расстрела Лорки Франко, оправдывая убийство поэта, заявил в интервью: «Следует признать, что во время установления власти в Гранаде этот писатель, причисленный к мятежным элементам, умер. Такие случайности естественны во время военных действий».
[Закрыть].
Но в любом случае несомненно одно. Всякий раз, когда в глубинах своего одиночества мне удается породить какую-нибудь гениальную идею или положить серафически чудесный мазок, я слышу хрипловатый, мягкий, приглушенный голос Лорки, который кричит мне: «Оле!»
Смерть Рене Кревеля – это уже совсем другая история. Но чтобы начать с самого начала, придется мне вкратце рассказать историю АРПХ, то есть Ассоциации революционных писателей и художников[121]121
Ассоциация революционных писателей и художников была организована в 1932 году как французский филиал Международной ассоциации революционных писателей, фактически находившейся в прямом подчинении у Коминтерна. Заправляли в ней коммунисты и левые. Бретон был исключен из нее в 1933 году. В 1939-м, после подписания пакта Молотова – Риббентропа, АРПХ была распущена.
[Закрыть], соединения словес, у которого есть только одно-единственное достоинство, а именно то, что оно ничего не означает. Воодушевленные безмерным идеалистическим благородством и соблазненные двусмысленным звучанием названия, сюрреалисты коллективно вступили в эту ассоциацию заурядных бюрократов, составив ее большинство. Первейшей заботой АРПХ, как и всех ассоциаций подобного рода, которым на роду написано погрузиться в небытие и которые с момента возникновения несут на себе мету полной ничтожности, была организация заседаний какого-нибудь «Беспредельно Международного Конгресса»[122]122
Дали, очевидно, имеет в виду проходивший в 1935 году в Париже Конгресс писателей в защиту культуры, на котором Бретону не дали слова.
[Закрыть]. Цель подобного конгресса предвидеть нетрудно, однако я был единственный, кто сразу же объявил о ней: первым делом ликвидировать всех писателей и художников, кто хоть что-то собой представляет, а в особенности тех, кто способен высказать или поддержать мало-мальски новую, ниспровергающую, а следовательно, революционную идею. Эти конгрессы – странные чудовищные явления, окруженные уже по самой своей природе кулисами, в которых ползают существа совершенно особого психологического склада, то есть личности скользкие и пресмыкающиеся. О Бретоне можно говорить все, что угодно, но прежде всего он человек цельный и несгибаемый, как Андреевский крест. В любых кулисах, а особенно в кулисах подобных конгрессов, он очень скоро становится самой неудобной и неприспосабливающейся фигурой из всех оказавшихся там «случайных элементов». Он не способен ни пресмыкаться, ни вжиматься в стену. И это стало одной из главных причин, по которой сюрреалистский крестовый поход не допустили даже на порог Ассоциации революционных писателей и художников, что я, кстати сказать, и предвидел, не слишком для этого напрягая мозг.
Единственным членом нашей группы, верившим в эффективность участия сюрреалистов в работе Международного конгресса АРПХ, был Рене Кревель. Поразительная и весьма красноречивая деталь: он не выбрал себе в качестве имени какое-нибудь затрепанное Поль либо Андре или же надменное Сальвадор, как у меня. На каталанском «Гауди»[123]123
Гауди-и-Корнет Антонио (1852–1956) – испанский архитектор, по национальности каталонец, работавший в Барселоне. Главное его произведение – оставшаяся незавершенной церковь Саграда Фамилиа (Святого Семейства), замечательное, фантасмагорическое по архитектуре и причудливое по декору сооружение.
[Закрыть] и «Дали» означают «радоваться» и «желать», а Кревеля звали Рене, что, вполне вероятно, происходит от причастия прошедшего времени глагола «renaître» – «возрождаться», «воскресать». Но в то же время он сохранил свою настоящую фамилию Кревель, которая как бы подразумевает действие, определяемое глаголом «crever» – «подыхать», «умирать» или, как сказали бы философы, мало-мальски подкованные в филологии, «витально неодолимое стремление к смерти». Рене был единственный, кто верил в возможности АРПХ, которую он сделал своим поприщем и яростно защищал. Внешне он был похож на эмбрион, вернее сказать, на побег папоротника в тот самый момент, когда он начинает распускаться, раскручивать свои зарождающиеся спиралевидные завитки. Вы, несомненно, уже обращали внимание, какое у него насупленное, как у падшего ангела, лицо, по-бетховенски глухое, ну прямо завиток папоротника! Если же вы еще не обратили на это внимание, то задумайтесь, и будете иметь точное представление о том, что напоминает вытянутое, как у недоразвитого, болезненного ребенка, лицо нашего дорогого Рене Кревеля. В ту пору он являл для меня живейшее олицетворение эмбриологии, но теперь в моих глазах превратился в идеальный пример того, чем занимается новейшая наука, именуемая фениксологией, о которой я расскажу абсолютно все тем, кому посчастливится прочесть меня. Вполне возможно, что, к несчастью своему, вы еще ничегошеньки не знаете о фениксологии. А фениксология дарует нам, живущим, великую возможность обрести бессмертие в течение нашей земной жизни, и все благодаря скрытым способностям возвращаться в эмбриональное состояние и получить возможность вечно возрождаться из собственного пепла, в точности как феникс, мифическая птица, по имени которой названа эта новейшая из новейших наук, претендующая на звание самой необыкновенной из всего, что в наше время есть необыкновенного.
Никто за свою жизнь так часто не «подыхал», никто так часто не «воскресал», как наш Рене Кревель. Существование его состояло из постоянных попаданий в психиатрическую лечебницу и выходов из нее. Отправлялся он туда на грани издыхания, чтобы появиться воскресшим, цветущим, обновленным, сияющим и восторженным, как младенец. Но продолжалось это недолго. Очень скоро возвращалась неистовая жажда самоуничтожения, его вновь охватывал страх, он опять принимался курить опиум, биться над неразрешимыми идеологическими, моральными, эстетическими и личными проблемами, снова впадал в бессонницу, постоянно плакал и вновь оказывался на грани издыхания. Как одержимый, он смотрелся во все зеркала тогдашнего гнетущего прустианского Парижа, всякий раз бормоча: «Я выгляжу так, будто подыхаю, у меня вид, словно я при смерти», и, дойдя окончательно до ручки, на пределе сил объявлял ближайшим друзьям: «Да лучше подохнуть, чем хотя бы еще день выносить такое». Его отправляли в санаторий, чтобы провести дезинтоксикацию, и после нескольких месяцев усиленного лечения Рене вновь воскресал. Он появлялся в Париже, разряженный, как перворазрядный жиголо, кудрявый, блистательный, жизнь переполняла его, как счастливого ребенка, он весь исходил, но теперь уже оптимизмом, который увлекал его на дорожку возвышенной революционности, однако затем постепенно, но неотвратимо опять начинал курить, истязать себя, съеживался, скрючивался в точности как нежизнеспособный завиток папоротника!
Самые тягостные периоды эйфории и «прихода в себя» после попыток покончить счеты с жизнью Рене проводил здесь, в Порт-Льигате, достойном быть описанным Гомером и принадлежавшем тогда только мне да Гале. То были самые счастливые месяцы в его жизни, как сам он признавался в письмах. Пребывание здесь все-таки продлило его жизнь. Мой аскетизм производил на него такое впечатление, что во время пребывания у нас в Порт-Льигате он, подражая мне, жил как отшельник. Вставал еще раньше меня, до восхода солнца, и целые дни проводил голышом в оливковой роще под самым жестким и самым лазурным небом во всем Средиземноморье, самым полуденно экстремистским во всей смертоносно экстремистской Испании. Он любил меня больше всех своих друзей, но мне все-таки предпочитал Галу, которую, как и я, называл оливой, и неоднократно повторял, что, если не найдет свою Галу, свою оливу, жизнь его обязательно кончится трагически. Здесь, в Порт-Льигате, Рене написал «Некстати», «Клавесин Дидро» и «Дали и антиобскурантизм». Совсем недавно Гала, вспоминая его и сравнивая с некоторыми из наших молодых современников, задумчиво произнесла: «Таких мальчиков теперь уже не делают».
Итак, жила-была одна штука, которая называлась АРПХ. Кревель выглядел все хуже, и это начинало внушать тревогу. Он не нашел ничего лучше, чем этот самый конгресс революционных писателей и художников, чтобы предаваться афродизиакальным и изнурительным излишествам идеологических страданий и противоречий. Сюрреалист, он искренне верил, что мы могли бы, не делая никаких уступок, идти плечом к плечу с коммунистами. Однако еще до открытия конгресса они, используя самые гнусные интриги и отвратительные доносы, делали все, чтобы окончательно и подчистую ликвидировать идеологическую платформу, на которой стояла наша группа. Кревель носился туда-сюда между коммунистами и сюрреалистами, весь отдаваясь изнурительным и безнадежным попыткам примирения, то подыхая, то воскресая. Каждый вечер приносил новую трагедию и новые надежды. Самой ужасной трагедией стал для него бесповоротный разрыв с Бретоном. Кревель прибежал ко мне и, плача, как ребенок, рассказал мне об этом. Я вовсе не подталкивал его на коммунистическую дорожку. Совсем наоборот, я, следуя своей обычной далианской тактике, как раз старался спровоцировать в каждой ситуации как можно больше неразрешимых противоречий, чтобы при удобном случае выжать из них максимум иррационального сока. Как раз тогда у меня на смену мании «Вильгельм Телль – пианино – Ленин» пришла новая, а именно «великого съедобного параноика», то есть Адольфа Гитлера. В ответ на слезы Кревеля я заявил, что, по моему мнению, единственным возможным практическим результатом конгресса АРПХ было бы единогласное голосование за резолюцию, объявляющую взор и пухлую спину Гитлера исполненными неотразимого поэтического лиризма, каковая резолюция нисколько не помешает им бороться против него в политическом плане, совсем даже наоборот. Одновременно я поделился с Кревелем своими сомнениями насчет канона Поликлета[124]124
Древнегреческий скульптор, живший в V в. до н. э.
[Закрыть] и объявил о своей почти стопроцентной уверенности в том, что Поликлет был фашистом. Рене ушел совершенно подавленный. Среди моих друзей Кревель был как раз тем, кто благодаря неоднократному пребыванию в Порт-Льигате, где он мог получать ежедневные тому подтверждения, свято верил, что в глубине моих самых эксцентричных и трагических чудачеств всегда присутствует, как говаривал Ремю[125]125
Ремю (наст. фам. Мюрер) Жюль (1883–1946) – французский актер театра и кино; создал колоритный образ марсельца, балагура и острослова в фильмах М. Паньоля, играл во многих комедиях. Забавные и остроумные реплики его персонажей вошли в речевой обиход.
[Закрыть], доля истины. Прошла неделя, и я почувствовал, что во мне рождается острое чувство вины. Надо было позвонить Кревелю, а то ведь он, наверное, решил, что я солидарен с позицией Бретона, хотя тот был настроен против моего гитлеровского лиризма в не меньшей мере, чем против этого самого конгресса. За эту неделю, что я не звонил Рене, интриги за кулисами конгресса завершились объявлением Бретону, что ему отказано даже в возможности прочесть с трибуны доклад от группы сюрреалистов. Пришлось Элюару огласить некий вариант доклада, к слову сказать изрядно сглаженный и сокращенный. Все эти дни Кревель, надо думать, ежеминутно разрывался, дабы и партийную дисциплину соблюсти, и удовлетворить требования группы сюрреалистов. Когда я наконец решился ему позвонить, незнакомый голос на том конце провода ответил с олимпийским презрением: «Если вы и впрямь хоть немножко друг Кревеля, хватайте такси и немедленно приезжайте. Он при смерти. Пытался покончить с собой».
Я схватил такси, но, когда мы приехали на улицу, где он жил, меня удивила собравшаяся там толпа. Перед домом стояла пожарная машина. Я никак не мог взять в толк, какая может существовать связь между самоубийцей и пожарными, и в соответствии с чисто далианской системой ассоциаций решил, что в этом доме одновременно произошли самоубийство и пожар. Я прошел в комнату Кревеля, заполненную пожарными. С жадностью новорожденного Рене сосал кислород. Никогда в жизни я не видел, чтобы кто-нибудь так цеплялся за жизнь. Отравившись газом Парижа, он пытался воскреснуть с помощью кислорода Порт-Льигата. Прежде чем покончить с собой, он привязал себе на левое запястье кусочек картона, на котором твердой рукой вывел большими буквами: РЕНЕ КРЕВЕЛЬ. Поскольку в ту пору я еще не очень хорошо умел звонить по телефону, то побежал к виконту и виконтессе де Ноай, большим друзьям Кревеля, и максимально тактично и наиболее адекватно ситуации сообщил новость, которая потрясет весь Париж и которую я узнал первым. В гостиной, где на черно-оливковом фоне полотен Гойи[126]126
Гойя Франсиско Хосе де (1746–1828) – великий испанский живописец и гравер.
[Закрыть] сверкала золоченая бронза, Мари Лор сказала о Рене несколько исключительно прочувствованных слов, каковые тут же были забыты. Жан Мишель Франк, вскоре тоже покончивший с собой, пожалуй, больше всех был взволнован этой смертью, и в последующие дни у него случилось несколько нервных припадков. В день смерти Кревеля мы побрели наудачу по бульварам, чтобы посмотреть кино о Франкенштейне[127]127
…кино о Франкенштейне. – Видимо, имеется в виду один из фильмов американского режиссера Дж. Уэйна «Франкенштейн» или, скорей всего, «Невеста Франкенштейна», литературной основой для которых послужил роман английской писательницы М. Шелли (1797–1851) «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818).
[Закрыть]. Как и все фильмы, которые я, следуя своей параноидально-критической системе, смотрю, этот отобразил вплоть до мельчайших некрофильских деталей тягу к смерти Кревеля. Франкенштейн даже внешне был похож на него. Впрочем, весь сценарий фильма основывался на идее смерти и воскресения, словно псевдонаучное предвкушение нашей сверхновейшей фениксологии.
Механические реальности войны смели идеологические порывы любого направления. Кревель принадлежал к тем спиральным росткам папоротника, что могут развернуться лишь на берегах идеологических садков, где возникают чистые, бурные, леонардовские водовороты. После Кревеля никто уже всерьез не спорил ни о диалектическом материализме, ни о механистическом материализме, да и вообще ни о чем не спорил. Но Дали ныне возвещает вам, что недалеки те дни, когда разум вновь обретет свои драгоценные чеканные украшения и слова «монархия, мистицизм, морфология, ядерная фениксология» вновь всколыхнут мир.
Рене Кревель, Рене Умирающий, это я взываю к тебе: «Умерший, воскресай!» И ты, как истый кастилец, отзываешься на испанском:
– Здесь!
Жила-была такая нелепица, которая называлась АРПХ!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?