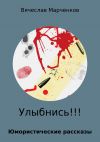Текст книги "В следующем году в Иерусалиме"

Автор книги: Савелий Баргер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Счастливые люди
Шауль умирал счастливым человеком. Синагога, в которой служил он шамесом, выстояла без потерь во всех передрягах российской жизни: революция и погромы, война с немцами и австрийцами, снова погромы и революция, и снова война, красные вперед – поляки бегут, красные бегут – Пилсудский наступает. Главное, что свиток Торы цел и невредим, ему ведь уже несколько столетий. И будут его доставать каждую субботу, чтобы прочитать очередную главу, и будут носить его по кругу в праздник Симхас Тора, и будут любовно поглаживать резной деревянный футляр, в котором хранится святой свиток.
И ведь не только свиток Торы пережил бурное время, в синагоге и в шкафу дома у Шауля стоят тома Раши, Рамбама, га-Наси. Нет, Шауль никогда не путал общинный карман со своим – удавалось приобрести книжную мудрость на общинные деньги или на пожертвования – книга стояла в синагоге, а если удавалось выкроить деньги из скудной семейной копейки – ей почетное место в доме Шауля.
Два старших сына, Хаймеле и Гиршеле, не только в талмудторе и хедере хорошо учились, оба успешно окончили ешибот и служат раввинами. Как учиться без книг? Куда заглянет раввин, когда еврей задаст ему вопрос, на который и сам царь Шломо затруднится ответить? Вот и покупал книжную мудрость отец, чтоб сыновья могли учиться, и потом сами учить. Счастливый человек Шауль, счастливый. Умирает рано – две дочки-подростки замуж не выданы, мизинкл Йоселе только-только стал участвовать в миньяне, но нельзя огорчаться на Б-га, значит так записано в Книге.
Счастливым человеком прожил Шауль, всегда у него в доме был кусочек кугла, к субботе жена готовила чолнт, иногда на обеденном столе появлялась гусиная шейка. Всегда ему было что надеть: чистую выглаженную рубаху, на стареньком лапсердаке ни одной дырочки, все заштопаны, а сапоги начищены. И это все Хава, чудесная Хава, как же повезло счастливчику Шаулю, что родители нашли ему такую жену! Весь дом и дети на ней, Шауль спокойно может идти в синагогу или читать комментарии Раши дома – бульон с кнейделах стоит на плите, лоскутные дорожки и половики дома выбиты, дети, слава Б-гу умыты и накормлены и никто из них не ходит обедать к чужим людям. Наоборот, всегда какой-нибудь мальчишка их хедера столуется у Шауля, а если в местечке появляется заезжий еврей – он может найти в доме Шауля топчан переночевать и талес, чтобы совершить утреннюю молитву.
Жизнь стала другая, совсем другая. Раньше были евреи и гои, среди которых были поляки, русские, австрияки и много других – люди как люди. Признаться, и среди евреев встречались как мудрецы, так и подлецы, что уж говорить про этих сектантов-христиан? Да и евреи – среди них веселые хасиды, цадики которых носят красивые меховые шапки, и есть среди евреев митнагдим, которые вечно спорят с хасидами. В конце концов, Шабтай Цви тоже был еврей, пока не стал турком-муслимом. Но все евреи носили ермолки и лапсердаки, чулки с тяжелыми башмаками, творя молитвы, они надевают талес и заплетают филактерии, под верхней одеждой у них надет арбакантес, с которого свисают нити цицот и на цицот ровно 613 узелков, по числу заповедей. Борода обязательно, пейсы завиты… А теперь?! Бритые бороды, вместо пейсов бакенбарды, сказать стыдно, но не только слова молитвы на святом языке многие не повторят, мамелошн-идиш не все понимают!
А о чем спорят, о чем ведут разговоры? Ехать в Страну или строить коммуну здесь? И это вместо того, чтобы прочитать «Шульхан арух» и разобрать вместе трудное место в Талмуде… Мир точно сошел с ума и даже хорошо, что Шауль больше не будет на это смотреть.
Счастливый человек Шауль, вот если бы болезнь не причиняла ему такие боли… Но ведь все от Б-га, а боли можно и потерпеть. А Б-г не оставит Хаву своими заботами, а уж Хава позаботится и о Голде, и о Малке, и о мизинкле Йоселе.
Кадиш прочитан, счастливая женщина Хава, стать вдовой такого уважаемого человека! Конечно, похоронное братство могло бы не брать с вдовы такие деньги за похороны, но ничего. Придет Машиах, Шауль точно будет сидеть в кресле в саду среди праведников, а Хава будет скамеечкой под его ногами – счастливая женщина. Старшие, Хаим и Гирш уже устроены, далеко-далеко, уже за границей в Литве они служат раввинами.
– Девочки, Голда, Малка, надо устраивать жизнь…
– Мамеле, я уеду в Ростов, там начинается строительство большого завода и наша комсомольская ячейка выписала мне путевку на строительство, – с Голдой сейчас спорить бесполезно, все свободное время она проводит со своими комсомольцами. Выдать бы ее замуж, сосватать за хорошего еврея, да где там – и слышать не хочет.
– Мамочка, а я поеду в Минск и буду поступать в университет. Мне ячейка выписала направление на рабфак, выучу русского языка, математику и что там еще надо и обязательно стану адвокатом!
– Да, девочки, жизнь стала другая, совсем другая. Йоси, мальчик мой, а ты?
– Мама, для начала я пойду в школу, надо учиться. Учиться сначала в школе, чтобы потом учиться на врача.
Счастливая вдова Хава – все трое хотят вылететь из родного гнезда, чтобы учиться, жизнь стала совсем другой – никто не хочет носить лапсердак и пейсы, покрывать голову и плечи талесом, плести на левой руке филактерии и проводить ночи со свечой за чтением «Шульхан арух».
Много лет прошло, много. Малка построила свой завод в Ростове и стала большой партийной шишкой в городе. Голда сумела стать адвокатом и работала юрисконсультом на том заводе. А Йоси таки стал врачом, сумел ведь выучиться! И счастливая Хава уже нянчит внуков. Ну, конечно же, вместо зятьев-гоев и невестки-гойки могли бы взять приличные партии среди евреев… Но уж это точно не делает Хаву несчастной, совершенно точно! А внуки – Аркадий и Левчик, Элла и Миша… Что поделать, если имена Арье, Борух и Моше стали немодными? Совсем другая жизнь, совсем другое время и Шауль должен был бы понять, как все изменилось. Как хорошо, что все живут в Ростове, полчаса—час и все могут собраться за одним большим столом. Зятья и невестка гои, но ведь среди них тоже много хороших людей, грех жаловаться!
– Голда, ты знаешь, я ведь сходила на спектакль, который привез в Ростов театр из Биробиджана! Давали «Тевье-молочника» на идиш и я все-все буквально понимала! – Малка была радостно возбуждена и торопилась поделиться своей радостью с сестрой и братом.
– Ой, сестрички, недавно я взял в руки книгу на идиш, попал мне на глаза томик Маркиша – я не смог прочитать ни одного слова. Нет, что-то я, конечно же, прочитал, но …но я понял, что мой мамелошн потерян! Столько лет без языка – война, потом военные гарнизоны – почти 40 лет и языка нет, как нет!
Счастливица Хава, счастливые Малка, Голда, Йоселе – но нет ни одной весточки от Гиршеле и Хаймеле – пропали во время войны вместе со своими семьями и только сердце болит, когда представишь, что могли пережить они в последние минуты.
Счастливый человек Аркаша – сын таких родителей, а какие у мальчика тетки – и все его любят, все балуют! Ну как же – он один носит фамилию своего деда, ведь у детей Малки и Голды фамилии их отцов.
– Папа, мне получать паспорт, я напишу в анкете «национальность – еврей»?
– Сынок, ты можешь писать, что ты считаешь правильным… Но если разобраться – с твоей русской мамой, не зная ни одного слова на идиш или на иврите, какой из тебя еврей?!
– Папа, я сегодня ночью слышал от «тети Сары из Тель-Авива» – наши вступили с нашими в воздушный бой и таки сбили три наших самолета! А придурок Васька из соседнего подъезда говорил, что всех жидов в Израиловке утопят в Средиземном море. Ты знаешь, папа, я все-таки врезал ему хорошенько, не знаю, кто кого будет топить, но две недели он точно будет ходить с бланшем под глазом! А ты, наверное, выслушаешь от его матери, какой я скверный у тебя сын…
Счастливый отец Иосиф!
Длинный летний день
В городе висело тяжелое ожидание, за свою длинную историю он много раз переходил из рук в руки, от захватчиков к «прежним» правителям и затем к новым захватчикам. После нескольких переходов разобраться, кто захватчик, а кто законный правитель было уже невозможно, жители города философски относились к сменам властей. В окружающих город горах гремела летняя гроза, что трудно было отличить от далекой артиллерийской канонады.
У доктора Гробштейна требовательно заскрежетал механический звонок. Этим вечером доктор был в квартире один и сам открыл дверь – к нему на огонек заглянул приятель, Ежи Лещинский, филолог и декан местного универсирета. Друзья закурили – Моисей Гробштейн трубку, Ежи Лещинский сигару и расположились за столиком у открытого окна с бокалами коньяка.
– Красные ушли, последний батальон вышел из города пару часов назад. Видимо, немцы войдут в город утром. Моисей, может быть тебе пока схорониться?
– Ежи, схорониться от жизни? Так она все одно тебя найдет, как ни прячься.
– Мойше, ты знаешь, как немцы стали относиться к евреям, когда наци пришли к власти. У нас в Польше своих антисемитов хватало, но фашисты превзошли даже хохлов. Быть может, только Хмель может сравниться с ними.
– Ежи, я учился в Австро-Венгрии, работал врачом еще при императоре Франце-Иосифе, потом при Украинской республике. Я лечил людей при Пилсудском и при Советах. Еще в двадцатом я лечил червоноармейцев и польских официеров. Для меня нет национальности, религии и цвета кожи – есть только больной человек, чьи страдания я должен уменьшить в меру отпущенных мне сил и знаний.
Лещинский тяжело вздохнул, подливая коньяк из бутылки в свой бокал.
– Мойше, в 38-м году я встречался в Париже с коллегой из трирского университета на конференции по германо-романской филологии. Порядочный человек доктор Бекман, нет оснований не верить ему. То, что он рассказал о 34-м и 38-м годах в рейхе, что он рассказал о чудовищных законах, это ведь в голове не укладывается!
– Ежи, пусть мне запретят лечить истинных арийцев, пусть не разрешат лечить поляков, украинцев и русинов. Но кто-то должен будет помогать евреям – так уж пусть это буду я. Без ложной скромности – врач я неплохой. Так пусть те же немцы и поляки решат, лечиться им у хорошего врача-еврея или у арийца-недоучки.
– Мойше, Мойше… мы дружим с тобой много лет. Ну почему ты не уехал в Палестину?! Почему ты заставляешь своего друга бояться не только за свою жизнь, но и за твою?
– Палестина? А что такое Палестина? Для меня Цион, Синай, Иордан – просто география, не больше. Мой отец ходил в синагогу каждую субботу, не ел свинину и повязывал филактерии перед молитвой. Я получил университетское образование, сны мне снятся на польском, а не на иврите или идиш. Польша – вот моя родина, не чужая мне Палестина. Теодор Герцль – великий человек. Но что приобрели евреи, которые уехали, следуя его идее? Они чувствовали себя чужими здесь – они стали чужими там. Поверь мне, что Польша не менее дорога мне, чем Михалу Огиньскому или Тадеку Костюшко. Если ты, Ежи, польский поляк, то я еврейский поляк – и вся разница. И знаешь, когда Сталин и Гитлер разорвали Польшу надвое – сердце у меня заболело не меньше твоего.
Друзья разошлись долеко за полночь, а утром доктора Гробштейна разбудил металлический дребезг дверного звонка и резкий стук в дверь. Моисей Гробштейн спал одетым и сразу открыл дверь. Удар кулаком в лицо разбил ему губу и свалил с ног. Трое в пиджаках, под которыми красовались вышиванки, выволокли врача на улицу. Группу евреев окружала небольшая возбужденная толпа. Лица у Соломона, Янкеля и Лейбы (многих Мойше знал) были разбиты в кровь. Хаим Зускинд тихонько скулил, а тщедушный юнец шлепал его по щекам, часто пиная коленом под зад.
Некоторые из толпы были знакомы Моисею. Кучеренко, плеврит. Коцюба, хронический гастрит. Петренко, у него жена умерла от почечной недостаточности. Кто-то приносил доктору Гробштейну кусок мяса или мешок картошки в качестве гонорара. А вот Остапчук, сын у него болел дифтеритом и пришлось отсасывать у него дифтеритные пленки через трубочку, мальчишка мог задохнуться. Гробштейн знал, что работу слесарь Остапчук потерял и лечил его сына без гонорара. Сегодня Остапчук принес пару ведер воды и несколько одежных щеток. «Живо на колени, жидовня, и мыть тротуар!» Евреи недоуменно переглянулись, только удары кулаками в животы, по спинам ремнями, хлесткие оплеухи по щекам заставили их встать на колени и, разобрав щетки, приступить к мытью тротуара.
Из дома напротив вывели пожилую женщину с девушкой. «Это Циля Ауэрбах с дочкой Лией.»
– Раздеваться, живо! – приказ подкрепили ударами плеткой по лицу Цили и палкой по спине девочки.
– Люди, остановитесь, люди, что вы… – крик Соломона захлебнулся от удара под дых, Соломон корчился от боли, не в силах вдохнуть воздух.
Платье с Лии сорвал одним рывком ражий вуйко, Циля ставшими вдруг деревянными пальцами расстегивала свой жакет и опускала бретели комбинации.
Когда евреев, среди которых был Моисей Гробштейн, подняли с колен, построили в колонну на мостовой и повели по улице, Циля плакала сухими глазами, крики Лии доносились из подворотни, ее насиловали юнцы, постелив на землю какой-то половик или коврик.
«Б-г мой, я знаю, что такое говно. По сравнению с ним моя жизнь – повидло.»
Евреев вели на окраину города, колонна становилась все больше, в неё вливались новые и новые растерзанные, избитые, окровавленные люди. Навстречу колонне шли несколько молодых женщин. Шли на коленях, подняв вверх обе руки. Шли, сопровождаемые конвоем из вуйков в самой парадной одежде – в белых рубашках, при галстуках, в пиджаках. Дядьки зло смеялись, отборная ругань поносила всех евреев, коммунистов, Советы. Ругань подкреплялась нередкими ударами по головам и спинам заплаканных людей. Гробштейн отмечал в толпе на тротуарах знакомых: «Москаленко, порок сердца, Стецько – суставной ревматизм…» Губы Моисея дрожали: «Журба – хронический бронхит,» – профессиональная память врача подсказывла имена и диагнозы.
Евреев города привели в тюрьму на окраине. Расстрел нескольких тысяч человек занял несколько часов.
Петро Опанасович не любил москалей. Больше, чем москалей, Петро не любил поляков и жидов. А вот среди этих он затруднялся выбрать, кто хуже – те или эти. Папка Опанас был мужчина строгий и спуску сыну не давал, порол за любую провинность. Вот и ходил Петрусь с поротой задницей, наблюдая, как Шмулик из его класса купается в родительской любви. Хорошо, если за завтраком на большой перемене Петрусь разворачивал сверток с куском черного хлеба и ломтиком сала, с завистью наблюдая, как Шмулик поглощает сдобные пирожки, жареную рыбу и сушеные сливы.
Опанас Тарасович был разнорабочим в мастерской у пана Сикорского. В том, что хозяин не повышает ему жалование Опанас винил евреев. Что ему никак не удается стать слесарем в той же мастерской были виновны шмули, моисеи и абрамы, хоть редко кто-то из них претендовал на место в мастерской, предпочитая служить бухгалтерами, юристами или врачами. Но отсутствие логики в своих рассуждениях Опанас Тарасович не замечал, рассказывая Петру, что вина евреев доказана еще со времен распятия Иисуса на кресте.
Когда полковник Евген Коновалец формировал полк Сичевых стрельцов в составе армии Украинской Народной Республики, вуй Опанас Тарасович получил жупан, смушковую шапку и винтовку. Сичевые стрельцы отметились не столько успехами в войне с москалями-червоногвардейцами, сколько успешными погромами в еврейских местечках в Галиции и на Волыни. В очередном погроме Опанас, набив уже изрядно торбу жидовским барахлом, совсем было подмял под себя хозяйку хаты, муж хозяйки хватил его по голове тяжелым дрыном и для надежности рубанул Опанаса саблей по шее. Крики еврея два дня стояли над местечком – друзья Опанаса старались на совесть и легкой смерти смельчаку испытать не довелось. Только вот Петрусь дождаться отца с войны не смог. Ну не любил Петро Опанасович евреев, хоть ты лопни!
В тот вечер Петро вернулся домой поздно. Жена его Ганна посмотрела на мужа с тревогой и быстро собрала на стол ужин, пока муж умывался в прихожей.
– Что в городе слышно, Петро? Так тревожно что-то. Соседки бегали сегодня днем на Городоцкую, а я что-то забоялась. Тетка Горпина такой красивый сервиз домой принесла, просто чудо. А Марийка из дома напротив аж три платья и узел белья. Тонкое, гладкое, кажется, оденешь его и не почувствуешь. Чулки шелковые, платки батистовые. Ты ничего не принес, Петро?
Петро аккуратно доел огненно-красный борщ, аккуратно подставляя под ложку ломоть хлеба, чтоб не капать на чистую скатерть. После борща Ганна поставила на стол большую тарелку вареников с картошкой, с капустой, с грибами и к вареникам – кринку со сметаной. Вареники Петро ел ложкой, поливая каждый сметаной и аккуратно следя, чтоб не накапать на стол.
– Устал я сильно, Ганна. Что там сервиз, краснопузые ушли и не вернутся. Своей державой теперь заживем, жидков и пшеков пощиплем трохи – и заживем. Пан Гитлер – то пан серьезный, у него не забалуешь. Попанували жидки, годи! И сервиз тебе справлю и платьев новых. Налей-ка мне рюмочку горилки, Ганнуся. Руки устали и в душе огонь залить треба. И давай-ка спать, разбирай уже постель.
Утро для Петра и Ганны началось с шумных голосов под окнами – в соседнем дворе решили зарубить пару петушков, чтобы сварить лапшу. Петро вышел во двор – погода чудесная, на небе ни облачка. Что-то не заладилось у соседа, один петушок вырвался из рук и хлопал крыльями, дергая связанными ногами. Ноги второго были свободны, сосед неудачно рубанул ему по шее секачом, голову не перерубил и петух истошно орал, бегая по двору. Шуму во дворе добавляла малая дочка хозяина, жена хозяина кричала на дочку, желая её успокоить.
Петро поморщился, зашел на соседский двор, взял топор в правую руку и, ловко поймав дуром бегающую глупую птицу, отрубил петуху голову. Второй оказался без головы, не успев и крикнуть «ку».
– Что ж ты, сосед, так неаккуратно? Аккуратней надо.
Ненависть
Маленький Юрген был счастлив, два месяца назад ему исполнилось десять, а сегодня его приняли в Гитлерюгенд и вот он уже пимпф. Четыре года в Юнг фольк, а потом член дружины, а когда вырастет, стать членом партии, как отец. Юргену было только шесть, когда отец прижал его к груди, оцарапав щеку пуговицами мундира – он заскочил домой, чтобы попрощаться перед поездкой на фронт.
Все тогда шло отлично. Мама улыбалась, получая письма от папы из Франции, Дании, Польши. Папа присылал посылки почтой или их привозили в Дрезден папины сослуживцы – вкусные сыры, красивые банки с консервами и бутылки с винами. В Дрездене все вокруг ходили веселые, члены Юнг фолька и Гитлерюгенд маршировали с факелами, ходили в походы и занимались гимнастикой. Почти у каждого в школе отец был на фронте и мальчишки обменивались марками, которые отклеивали с конвертов отцовских писем, и ждали отцов с победой над всеми врагами.
А потом все вдруг стало плохо. Сообщили, что папа погиб на фронте. Мама получила бумагу о его смерти и Железный крест отца. Посылки больше никто не присылал, а в магазинах и лавочках исчезли продукты. Пригодилось есть овсянку без молока и сахара – очень невкусную. Иногда весь обед состоял из тушеной брюквы и капустного супа. А еще часто стали прилетать самолеты и бомбить город – очень страшно. Надо было быстро собираться и уходить в подвал, где было бомбоубежище. Только взрывы от бомб были слышны и там, стены ужасно тряслись, с потолка и стен сыпались пыль и кирпичная крошка. Мама все время плакала. Юрген тоже хотел заплакать, но надо было утешать маму, хоть губы дрожали и приходилось их кусать.
Юргена вместе с мамой отправили в Силезию, в город Бреслау – там было гораздо безопаснее. Работу в Бреслау мама не нашла, а прожить на отцовскую пенсию и детское пособие Юргена невозмжно. Приходилось ездить к фермерам за город, помогать им убирать урожай, ухаживать за скотом, выполнять самую разную крестьянскую работу. Денег бауэры не платили, но в доме теперь были картошка, брюква, капуста. Стакан молока Юрген каждый день честно делил с мамой, иногда фермеры давали за работу кусок кролика, гораздо реже – кусочек свинины. Теперь Юрген рад был и куску хлеба с лярдом, сливочное масло он не видел уже давно.
Фюрер по радио говорил о небходимости сплотиться и дать отпор, а все вокруг, и мама тоже, ожидали полчища варваров, орды большевиков. Всех немцев они превратят в рабов, женщин будут насиловать и убивать. Уехать Юргену и муттер было некуда, оставалось покорно ждать своей участи. Когда вермахт и СС прекратили сопротивление – большая часть погибла, кто-то сдался, кто-то с боями отступил в сторону американцев и британцев, в город вошли русские войска. Орда большевиков оказалась вовсе не страшной, они даже стали раздавать какой-то «борсч», сваренный в полевых кухнях. Женщин не насиловали, Юрген сам слышал, как мама обсуждала с соседками, что какие-то Лиззи и Марта сами «вешались» на русских офицеров. Юрген не понимал, зачем русскому надо ходить с висящей на нем Лиззи. Красная армия ушла, по радио объявили о капитуляции, мама плакала. По городу были расклеены распоряжения новых польских властей с призывом к немцам уехать в Германию, в Силезию стали съезжаться поляки из-под Варшавы и Кракова, с Востока и Юга. Бреслау стал Вроцлавом, отовсюду звучала польская речь, вывески на лавках и магазинах менялись на польские. Язык был странный, вроде бы написано все теми же буквами, а ничего не понятно.
Шум и крики на улице, Юрген подошел к окну и увидел, как трое молодых мужчин бьют герра Мюллера. Фрау Мюллер кричала и пыталась оттащить одного из мужчин, а тот ударил ее кулаком по лицу, повалил на тротуар и пнул ногой в живот. Фрау Мюллер было больше шестидесяти, ей трудно было подняться на ноги, она стояла на тротуаре на коленях и плакала, сплевывая кровь. Герр Мюллер уже не кричал, голова его качалась от ударов вправо-влево, под руки его придерживали двое, третий бил.
Дверь квартиры, в которой жил Юрген с матерью, затряслась от ударов, после одного особенно сильного удара дверь распахнулась, засов не выдержал. Юрген получил сильную оплеуху раскрытой ладонью, щека распухла и запылала, из разбитой губы потекла кровь. Молодой поляк подошел к матери Юргена и одним движением разорвал её платье на груди.
– Юрген, бегом на кухню и сиди там тихо! – ослушаться мамы было невозможно. На кухне Юрген уставился в окно и смотрел, смотрел во двор, ничего не видя вокруг. Шумело в голове и в ушах стоял мамин голос. Мальчик не видел, как из окна четвертого этажа выпрыгнула Берта, ей было 14 лет. Трое перегнулись из комнаты в двор, наблюдая, как Берта пытается отползти подальше от дома – обе ноги ее были сломаны и она не силах была подняться.
Я родился перед войной. Говорить, что я помню ее начало – утверждать, будто младенец помнит, как он болел скарлатиной или как ему делали обрезание. На восьмой день после моего рождения в нашу квартиру в Каунасе пришел моэль и сделал все положенное и прочел молитву. Под мои крики он показал меня всем собравшимся на брис родственникам, объявил, что меня зовут Иосиф и запел «Ха ва нагила», семья подхватила песню, зазвенели стаканы с вином, с пожеланием «мазаль тов» дяди, тети и кузены подходили к аба и мамеле. Но все же я был главным на том празднике!
Каунас бомбили через два дня, Красная Армия быстро ушла из города, литовцы начали собирать и расстреливать евреев. Немцы им не мешали, но чтобы был порядок, собрали евреев в гетто. Из маминых и папиных братьев и сестер не уцелел никто. Оба дедушки и обе бабушки были расстреляны в первый день немецкой *оккупации. Дядьки и тетушки подвергались «селекции», все мои кузины и кузены пропали – в лагерях в Германии или в Польше, а кто и от голода прямо в Литве.
Как уцелели мои папа и мама знает только папа. Известный в Каунасе врач, в гетто он был плотником или выполнял черные работы. Он мог выходить из гетто днем, чтобы возвращаться ночью. Так он не всегда возвращался во-время, а полицейские из его бывших пациентов «не замечали» его отлучек. Его пациенты, какая-то часть, не все, давали для меня кусок хлеба, иногда даже с лярдом или со шкварками. Ему несколько раз пришлось упрашивать хуторян, кто жил рядом с Каунасом, чтобы маму приютили вместе со мной. Через год после начала войны аба ушел из гетто и не вернулся туда. Мы стали жить на хуторе втроем, нашим домом был свинарник. Когда на хутор приезжали полицейские или солдаты, надо было юркнуть в погреб, вырытый прямо в хлеву, и сидеть тихо-тихо.
Литву освободили советские солдаты. Не надо было уже прятаться, только все время хотелось есть и было холодно. Папе удавалось приносить какую-то еду, дрова для железной печки, которую поставили прямо в комнате, приходилось где-то добывать. Несколько раз на дрова рубили книжные шкафы из папиного кабинета. Несколько советских офицеров-летчиков организовали перевозку литовских евреев в Польшу. Мама и папа решили уехать туда, чтобы потом добираться до Иерусалима, польские власти не препятствовали исходу евреев в Палестину. Не знаю, чего это стоило, но транспортным самолетом нашу и еще две еврейскпе семьи вывезли. Так мы оказались в городе Кельце, что к югу от разбомбленной Варшавы.
Мне уже исполнилось шесть лет и было мне очень одиноко в этом Кельце. Еврейских мальчиков и девочек в городе было немного, польские мальчишки не брали меня в свои игры и кричали мне «zyd!», почему-то очень обидно. Я просил у мамы для себя братика, сестричку или хотя бы кошку. Мама сердилась, говорила: «Потом!» и давала мне черный сухарик. А я бы делился с киской своим молоком и ловил бы для неё рыбу, я видел, как мальчишки наволочкой ловили мальков в пруду. Разве киска объела бы нас?
Зося, двенадцатилетняя дочка нашего соседа, сказала, что у её бабушки крольчиха окотилась и она договорится, чтобы одного крольчонка отдали ей, а она может передать его мне для воспитания. «Только ты мусишь хорошо его кормить и заботиться о нем!» – строго сказала Зося и мы пошли к её бабце. Крольчонок уже открыл глазки, забавно вздергивал верхнюю губу и колотил задними лапками. Всю дорогу домой он сидел у меня в ладошке, которую я держал за пазухой и щекотил мою ладонь своим дыханием. Я уже любил его почти так же сильно, как свою мамеле. «Надо будет нарвать ему побольше травы и сбегать на загородные огоролы, надергать морковки. Когда мама будет варить борщ, пусть мою капусту отдает Мимишке, мне и картошки в борще хватит. Я и на ячневой каше проживу, кажется, кролики и зайцы не любят кашу. Ни в одной сказке зайцы и кролики кашу не едят, они ведь не журавли и не мышки.»
Мы уже подходили к дому, где нас встретил Владек – старший брат Зоси.
– Зоська, что ты шляешься с этим жиденком, курва? А ну, покажи, что спер, пся крев! – Владек выхватил у меня крольчонка. Сжав его голову двумя пальцами, рассмотрел, а перехватив его за уши, внезапно ударил меня крольчонком по лицу. Мимишка не пискнул, голова его повисла безжизненно, я почувствовал что-то мокрое на щеке и на лбу. Утерся рукой, на ладони была кровь.
Прибежал домой, плакать у меня не получалось, перехватывало горло икотой. Дома у нас были какие-то люди, суетились старухи в черном. Высокий еврей в круглой шляпе, покрыв плечи талесом, напевал заунывную молитву на иврите. День, а мама лежит на кровати, глаза ее закрыты. Рядом с кроватью сидит аба.
– Йоселе, убили нашу маму. Осиротели мы с тобой, Йоселе. Вырваться из литовского гетто, чтобы угодить в польский погром – то настоящее еврейское счастье, что тут сказать!
Мой татусь, Казимеж Ясновецкий, не любил жидов и красных. Русских он не любил еще сильнее. «Янек», – говорил он мне, – «Янек, русские, украинцы, русины – вшистко едно, то хлопске быдло и их дело робить, а поляк мусит ими править и пороть каждую субботу. Русский робит, жид торгует, поляк правит, и в мире бендзе пожондек.» Но в мире порядка не было и моему отцу приходилось работать самому, хоть был он самый настоящий поляк. Хорошо, что было у нас несколько десятин земли и было кому на этой земле работать.
Когда пан маршал Юзеф Пилсудский призвал поляков защитить ойчизну от красных банд Тухачевского, татусь взял в руки пулемет, мамця надела белую хустку с красным крестом и гнали они Тухачевского от самой Варшавы и до границы. Отец и мать познакомились там, в полку, и потом уж не расставались, жили в Гуте Пеняцкой, что на Волыни между Львовом и Бродами. Отец построил в вёске дом, а мама рожала ему в том доме детей.
Когда Гитлер начал бомбить польские города, польским уланам не оставалось ничего, кроме как с саблями броситься на танки и умереть. Гитлер начал бомбить, а Сталин вонзил Польше нож в спину. Так два бандита снова разорвали мою страну на части. Красные пришли к нам в Польшу и установили Советы. Приперлось быдло с Востока и организовало колгосп в нашей вёске, над школой повесили красную ткань, где написали «Спасибо тов. Сталину за наше счастливое детство!» и заставили учить испорченный польский язык, говоря, что это украинский. Те русские, которых я знал, русинская семья и галициане из Карпат, не понимали почти ничего, когда с ними говорили на этом украинском языке.
Этот бандит Сталин дождался, когда другой бандит, Гитлер, напал на него. Красная Армия драпала – пятки сверкали. К нам в Гуту немцы пришли, но стоять у нас не стали – где у нас стоять, костел, да школа, да хаты с огородами. Вокруг села поля и леса, и так до самых Карпат. Так в этих лесах завелись партизаны. И к нам в Гуту русские в военных фуражках заходили. Возьмут кабанчика, земняков и хлебов, заберут самогон и опять уйдут в лес. А где другого кабанчика взять – не скажут, а сколько трудов надо, чтоб тех земняков вырастить – не спросят.
Те русские, что называли себя «щиры украинцы» или УПА – те гонялись за красными партизанами по лесам, но чаще сами привозили подводами своих мертвяков, чем приводили пленных красных. А немцы сделали из хохляцкой УПА дивизию «Галичина». Они себе «Галичина», а татусь собрал мужчин, у кого ружья были або винтовки, и был у нас в Гуте Пеняцкой отряд самообороны. Приезжал к нам в Гуту взвод из «Галичины», татусь короткую очередь из пулемета дал поверх голов – они быстро собрались тикать. Оказывается, отец еще с той войны пулемет в исправности содержал.
Дружил я с Болеком, через два дома от нашего он жил. Собрались мы с ним утром на рыбалку пойти. Родителей я предупредил, что у Болеслава заночую и устроились мы с ним в овине спать, чтобы рано утром никого из домашних Болека не беспокоить. Только спать нам не пришлось в ту ночь – поднялся крик по всей вёске и светло стало, почти как днем. Запалили «галициане» почти всю деревню разом. Люди в окна, в двери – по ним из автоматов. Мы с Болеком из овина в огород, кожухами укрылись и шелохнуться боимся. Видно, мамця и татусь от дыма задохнулись. А сестренка моя, Ядзя, в окно кинулась и по ней сразу двое из автоматов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?