Текст книги "Попутчик"
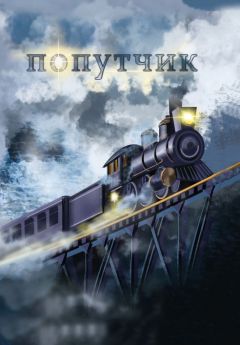
Автор книги: Сборник
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Игорь Ларин

Появился на свет 30 апреля 1962 года в Германии, в г. Белиц и раннее детство провел за границей. Писать начал с детства, но заняться поэзией и литературой серьезно не хватало времени.
Путевку в жизнь получил в 1980 году из рук Евгения Евтушенко, который, ознакомившись с содержимым толстой тетради, сказал: «Пиши, а если тебе что-то мешает – бросай и пиши». Сейчас пришло время «собирать камни».
Приводит в систему чемодан с рукописями. Писал и пишет как для взрослых, так и для детей. Счастлив, что рядом с ним любимая жена, дети и внуки. И не писать для них (о них) – просто невозможно. Опубликовано три книги: два стихотворных сборника для взрослых и один для детей. В столе лежат рукописи, идет работа над трехтомником, но всему свое время.
Игорь Ларин – финалист и дипломант многочисленных литературных премий. Лауреат Гран-при премии «Серебряная нить». Лауреат Гран-при Московской литературной премии-биеннале 2020–2022. Дипломант XXXV Московской международной книжной ярмарки.

Мелодия дождя
Небесный дирижер готовит свой оркестр,
Внизу устали ждать и нет свободных мест.
Достали инструменты оркестранты,
Листают ноты, поправляют банты,
Переговариваясь, смотрят на него,
Неповторимого и строгого, – того,
Который все начнет, взмахнув десницей,
И полетит по небу в колеснице,
И зазвучит мелодия дождя —
Такая дивная и разная все время.
Ни выучить, ни повторить ее нельзя,
Без изменения лишь основная тема,
Потоками воды сбегающая вниз.
Не жанр, а так – причудливый каприс,
Фантазиями автора навеян.
И дело не в гармонии, размере,
А в том, как мы его услышим,
Как он звенит и разбегается по крышам.
Не тот, который моросит уныло,
А на душе и зябко, и постыло,
А дождь-оркестр – симфонией гремит,
Литаврами грохочет и дрожит,
Гудит фаготом водосточных труб
И откликается прикосновением
к свирели
чутких губ.
Кого-то он баюкал, нянчил и покоил,
Кого-то разбудил и дал энергии прилив,
Усилив ритм и тон и выделив мотив, —
Акцент усилил барабанным боем…
Потом аккордеона дышащие звуки,
И замер дирижер, и опускает руки.
И пробегают струйки по стеклу,
К которому прижмусь, лицом прильну,
Чтобы услышать шепот кастаньет…
И все затихло и сошло на нет…
«А ведь я тебя родил и вырастил…»
А ведь я тебя родил и вырастил —
От большой любви, не из милости.
Создал образ и сваял во плоти —
И в этот мир выпустил…
прости.
Здесь наивная и чистая душа
Полной грудью не сможет дышать,
А говорить то, что думает, —
Станет только тот, кто безумен…
или безудержен —
В том, что сделать что-то пытается,
И от равнодушия задыхается,
И удивлен, и досадой мается…
А вокруг либо стена тупости,
Либо животный хохот от глупости,
Выражающей общее мнение,
Которое усиливается с появлением
Желания сохранить баланс,
А может, всех загоняет в транс
Всеобщего одобрения и восхищения,
поклонения.
И мне не изменить ничего, не сломать…
нужно время,
И можно лишь надеяться, ждать…
какого-то
изменения.
И больше нечего сказать и добавить,
И не уберечь уже, не избавить,
И не оградить от этого срама…
и не спасти,
И хоть я не виноват ни грамма
И такая всей жизни драма —
Я все равно говорю…
прости!
Война и Мир
Скажите, вы читали про Войну,
Потом о Мире – пухлые два тома
(Они по школе будут вам знакомы) —
От графа русского – от Льва Толстого?
Он дал нам факты, форму, глубину
Любви… переживаний, чувств и боли,
И ими с лихвой переполнены страницы,
Где весь сюжет в характерах и лицах, —
До мелочей навзрыд прописанные роли
Пришедших из историй и рассказов,
В которых ложь и правда вместе – сразу.
От автора – не ментора святого,
А от того – кто знал и славил слово,
Внося божественную искренность и силу,
Рожденную в переживаниях и вере
(Блажен, кто в свет и мудрость их поверил),
И солнце поднялось, и осветило,
И обнажило чувственную нежность.
И откровенность, страстность и безгрешность
На шпаге острия, в повествованьи книги —
В глазах священника и на руках расстриги.
Падение ядра, вращенья бесконечность,
Компот из вишни, летний сад, беспечность,
Спеша сливаются в одной судьбе и жизни,
В цветущей юности, служении Отчизне.
Итак, который будет вам дороже,
Скажите честно? Если про Войну —
Я вам поверю… и про Мир – пойму.
В одном – любовь, в другом все жестче, строже…
Который том роднее, ближе вам, по нраву?
Рожденье, смерть – что вас волнует, право?
И чувства дарит ярче и острее,
Во что вы верите и примете скорее?
Войну? А восхищаясь, радуясь… чему?
Потере жизни, помутнению рассудка?
Там лишь одно… ночное время в сутках
И верить можно только одному —
Себе. Любой другой Войною занят,
А если обещает – то обманет…
Во всем великий смысл и острота…
порывов.
Для чувств таких – как жалость, доброта…
к сочувствию позывов
Здесь места нет совсем… Не время!
А чтоб собрать хоть что-то – это бремя.
И надо всем парит старуха-смерть,
И каждому в глаза спешит смотреть.
Старается вовсю, играет с жизнью,
А на кону судьба, оконченная тризной, —
Финал естественный, когда приходит срок.
А здесь? Когда еще не время и урок
Наш не окончен первый… и пока
Не ждем финала – перемены и звонка
На перерыв, антракт, на передышку…
Но жизнь уйдет, и смерть захлопнет крышку —
Ей (смерти) все равно и не нужны конфузы.
Кого приветствовать – что русских, что французов,
То попадающих под руку эфиопов —
Ей все равно, лишь приобнять кого-то
И проводить к паромной переправе.
А там монеты две – и вновь назад,
Туда, где можно лгать и править
Свой черный бал – на людях… и приват.
Как в домино – две краски маскарада
И на земле рисуют круги ада,
Где мерзости отчетливо видны
Во всех кровавых «подвигах» Войны…
Вот взрыв – и юноша упал, во взоре страх,
Мгновеньями бегут сюжетов вспышки.
А сколько их… О, бедные мальчишки…
Между прологом с эпилогом – боль и прах.
Ну все – с Войной понятно стало,
Хотя бояться мужу не пристало —
Но не она для нас пристанище души.
Нам Мир с любовью будут идеалом.
О Мире и любви скорей пиши —
Без взрывов, стонов… в неге и тиши…
Так хочется на юность посмотреть…
На молодость в наивной страсти первой.
А самому красиво постареть,
Не поклоняясь ни Аресу, ни Минерве.
Стремление к полету, вере, чистоте —
Вот то, о чем поют писатель и поэт.
О нежности, душевной теплоте
Мечтают воин, пацифист, эстет…
А первый бал Наташеньки Ростовой!
Что лучше для сюжета для простого?
И первый поцелуй, и детские желанья:
Улыбки, танцы, девичьи мечтанья…
В любви, Войне есть общее – экстаз!
Но если первая есть жизни продолженье —
Стремленье к идеалам, чистоте,
Искусству и природной наготе…
То во второй… от идеалов отрешенье,
Души падение и саморазрушенье,
И в этом убеждались мы не раз!
Война и смерть как сестры, две подруги.
Когда я в церкви на венчание смотрю —
То понимаю, что нас движут к алтарю
Любовь и Мир – в гармонии… на пару.
Война ж нам дарит ненависть, отраву,
Озлобленность, пороки и недуги.
Что автор нам дает, во что он верит сам?
Какие движут им подспудные идеи?
Иль только образы и темы им владеют
И все расписано по планам и часам?
Довольно… все уже предельно ясно:
Есть Мир, в котором жить непросто, но прекрасно,
И есть разлучница-могильщица Война,
Что с чертом под руку… и с ним обручена!
«Бежишь навстречу пробуждающемуся рассвету…»
Бежишь навстречу пробуждающемуся рассвету,
Волосы по плечам пополам с ветром.
Руки, как крылья, распахнуты в стороны,
Земли касаясь едва – паришь,
невесомая…
С улыбкою легкою, чистою, как первоцвет.
И танцуешь, и смеешься, и счастливее нет
На земле. И даешь остальным света лучик,
А сама – отражение солнца, и даже лучше,
Ярче, потому что живая и радуешь.
И вселяешь надежду, и собою облагораживаешь.
И поешь, и раскрываешь чистую душу,
Разбиваешь преграды и темницы рушишь.
Пустоту содержанием наполняешь и смыслом.
Там, где еще не зажглось, – даришь искру.
Мгновение – и очищающее пламя,
Огонь, сжигающий недоверие между нами…
И любовью греешь, и ободряешь сердца,
И зарождаешь жизнь новую в продолжение
цикла земного и природы движения.
И все по кругу, и снова,
и без конца…
Но ведь это и есть
вечность и воля Творца.
И не надо искать лучшего определения
Тому, как природа с чудом повенчана.
А итог? А итог – это она, Женщина!
«Обычный прожит день очередной…»
Обычный прожит день очередной —
Сижу и на столе расслабил руки.
Мне что-то говорят и просят внуки…
Бурчит кипящий чайник за спиной.
И лампочка в разбитой старой люстре
Трещит, мигая светом надо мной.
Все так идет неспешно и покойно,
Размеренно и с чувствами в ладу.
Почти ничто меня не беспокоит,
Ну разве иногда за ерунду
Сорвешься криком и поймешь,
что зря…
Переживая и себя коря
За старческую вспыльчивость и
строгость,
А видя детскую обиду, страх и робость,
Себя винишь и знаешь наперед:
Все позабудется, как раньше,
вновь придет
Забота, и любовь, и трепетная жалость,
И понимание, что, может быть, осталось
Не так уж много дней, отпущенных тебе,
Подаренных, расписанных в судьбе
По строчкам, по мгновеньям мимолетным,
И «точно в яблочко», и промахам бессчетным,
Которых не исправить, не восполнить…
И каждый миг об этом надо помнить.
«Поэзия как зеркало души…»
Поэзия как зеркало души —
Ей не нужна молва аудиторий,
Общенье, книги, пестрота историй…
Услышал – если сможешь, напиши.
Образование Есенина – семь классов,
И Пушкин аттестатом не блистал,
В ученье Маяковский не был асом,
А Бродский, не осилив восьмилетку,
Одет во фрак и белую жилетку,
В Стокгольме с блеском лекцию читал
Как лауреат словесности изящной.
Так, значит, дело не в учебе зряшной,
Феномен в чем поэта – подскажи:
В начитанности, света предпочтеньи,
Ведь точно не в зубрежке и ученьи.
А может, в состоянии души?..
В незримом, чутком, остром восприятии
Того, что неподвластно общей братии,
Весь интерес которых в прибылях лабазных?
А здесь – и легкость, и особенность ума,
И тонкость мыслей, чувств разнообразных,
А может, здесь виновница она —
Та женщина – любовь, подруга, муза,
Которой, кажется, поэт любезен стал,
С которой он взойдет на пьедестал
Иль будет мыкаться и станет ей обузой…
Не знаю, и не подскажет вам никто,
За что боготворим и любим их…
поэтов:
За жертвенность, за ранние уходы,
За неуменье жить, терпеть невзгоды…
эстетов.
За то, что пишут до петли, до выстрела в висок,
На дюйм от смерти и на волосок.
Их любят женщины, за ними ходит слава,
Но это все пустое – суета, отрава!
Со временем вскипит и выйдет боком.
Так популярность нам грозит уроком:
Дороже уваженья, денег, криков «Браво!»,
А муза как пришла любовницей, забавой —
Так и уйдет, оставив вас ни с чем.
Ну, разве несколько томов помогут тем,
Кто прочитает, – вас понять и оценить,
И струн аккорд прощально отзвенит…
Перекресток
Сижу и пью свой чай… с моим вареньем.
Идет мой снег, идет моей зимой…
И я пишу… свое стихотворенье,
И небо личное с оранжевой луной,
И кружат вихрем рифмы надо мной,
А на душе тепло… и настроенье —
Совсем как позднею и ласковой весной
Иль ранним и еще нежарким летом,
Когда стоишь на берегу раздетым,
Зажмурившись, а крыша над тобой
Как будто перевернутое море,
Голубизной безбрежною манит,
Играет и тихонечко шумит…
прибоем —
Мерно подгоняя облака,
А чья-то легкая и добрая рука
Мазками редкими картину поправляет —
Рисует формы, тени направляет…
с любовью.
На фоне трагифарсов, революций —
Сижу и пью спокойно чай из блюдца.
У них бардак, замены конституций…
Встаю, взял шляпу и пиджак —
Снег хлопьями валит и, за окном кружа,
Проносится – как в пачках балерины,
В салопах и воздушных пелеринах…
Я знаю, будет все: спокойствие, тревога
И боль потерь, паденье, перемога…
Вот кто-то за поэтом повернул
На перекрестке, заметенном снегом
(Который видится крестом под темным небом)…
А у меня, друзья, своя дорога —
Я чуть подумал… и вперед шагнул.
Станислав Ластовский

Родился 31 мая 1939 года в Ленинграде. Живет в Петербурге. Образование высшее. Окончил вечернее отделение Ленинградского института точной механики и оптики. Писать начал в 2013 году. С 2014 года издано 18 рассказов, 5 повестей, 7 сказок и рассказов для детей, 7 путевых иллюстрированных очерков. Есть публикации в журнале «Дом польский», альманахе «СовременникЪ», в сборниках издательства Союза писателей.
Член Интернационального Союза писателей. Награжден медалью Интернационального Союза писателей «65 лет со дня основания организации» и орденом Святой Анны. Лауреат III степени («Бронзовое перо») Первого международного фестиваля «Золотое перо Москвы».

Выковыренные
Отрывок из повести «Ленинградское детство»
Часть втораяМы все учились
Глава первая
Проезжая часть улицы Жуковского в Ленинграде в те годы была из булыжника – каменных окатышей примерно одного размера, которыми устилали дорогу и укатывали катком. Тротуары были отделены от проезжей части поребриком и покрыты большими известняковыми плитами – панелями, потому так и назывались – «панели». Весной 1947 года вдоль панелей выкопали траншеи, которые возле каждого дома имели ответвления и продолжались внутри дворов. Мы не знали, для чего предназначены траншеи, но использовали их для игры в войну. В проходившие по улице трамваи оттуда летели «гранаты» из кусков земли и глины. Ребята постарше стреляли из пугачей и подкладывали на рельсы капсюли, вынутые из винтовочных патронов. К трамвайному грохоту добавлялась трескотня выстрелов из-под колес.
Через месяц на дно траншей уложили трубы и засыпали землей. Булыжную мостовую и тротуарные плиты заменил асфальт. По трубам в квартиры нашего дома пришел газ. Закончилась эпоха коптящих керосинок и шипящих керогазов. Проводили газ, устанавливали газовые плиты и большие круглые зеленого цвета счетчики пленные немцы. Работали не спеша, но очень аккуратно. Отверстия для крепления труб к стенам пробивались вручную при помощи молотка и шлямбура. Чтобы меньше мусора падало на пол, немец из куска газеты сворачивал кулек, продевал через него шпагат и вешал на шлямбур. Крошки штукатурки и кирпича падали не на пол, а в кулек.
У меня был игрушечный металлический пистолет, стрелявший деревянными палочками с резиновыми присосками. Когда немцы входили в квартиру, я кричал:
– Хенде хох! Гитлер капут!
И стрелял из своего пистолета. Они охотно поднимали руки вверх и говорили, правда, чуть слышно:
– Капут, капут!..
В коммунальных квартирах на газовой плите готовили по очереди, и все же это было удобнее и быстрее, чем раньше. В кухнях теперь не пахло керосином, но керосинки и керогазы еще долго не выбрасывали. Летом их брали с собой на дачу, ежегодная поездка на которую была настоящим приключением. В мае, когда у детей заканчивалась учеба, для выезда на дачу большая семья Подольских заказывала грузовое такси. На машину грузили постели, одну или две разобранные кровати, кухонную утварь, включая керосинку и керогаз. Иногда брали с собой и одностворчатый бельевой шкаф. В кузов грузовика залезали я и Герман, ставший после усыновления моим двоюродным племянником. Удобно устроившись на узлах с постельным бельем, обрадованные началом каникул, мы были счастливы возможностью с ветерком прокатиться до дачных мест Карельского перешейка. Почти всегда Подольские снимали дачу в поселке Песочная.
Ванны и горячей воды в нашей квартире не было. В баню на улице Некрасова ходили по пятницам или субботам. Первые месяцы после возвращения из эвакуации, до приезда мужа двоюродной сестры из армии, в баню ходил с мамой. Мама старалась идти и вести меня ближе к проезжей части, объясняя это блокадной привычкой. Если идти рядом с домом, то ослабленного голодом человека могли крюком затащить через подвальное окно и… О том, что могло случиться потом, лучше было не думать.
В женские отделения вела лестница справа от входа, в мужские – слева. Я чувствовал себя очень неуютно среди моющихся женщин и девочек. Успокаивало только то, что там были и другие мальчики. Верхнюю одежду сдавали в гардероб, находившийся в банном отделении. Гардеробщица выдавала номерок, который был заодно и номером шкафчика. Алюминиевый треугольный диск номерка и ключ от шкафчика висели на длинной веревочке, которую надевали на руку или на ногу выше ступни, чтобы не потерять. Мылись из тазиков, сидя на длинных каменных скамейках. Ноги полагалось мыть в других тазиках с выдавленной на дне надписью «Для ног». Душевых леек, установленных на длинной кафельной стене, на всех не хватало. Если не хотелось ждать, пока освободится душ, мыло смывали, обливаясь из того же тазика, который наполняли, ставя на решетчатые чугунные подставки под краны с холодной и горячей водой. Перелившаяся вода стекала на пол, иногда, горячая, обжигая ноги. Таких подставок с кранами обычно было две на большое мыльное отделение. Иногда и к ним приходилось стоять в очереди. В женской половине бани, как и в мужской, было три отделения: на втором, третьем и четвертом этажах. В отделении на втором этаже не было парилки, но больше душей, поэтому очередь, в которой стояли иногда до полутора часов, двигалась быстрее.
Выйдя из так называемой мыльной, каждый подходил к своему шкафчику, снимал с руки или ноги веревочку с ключом и открывал его. Обычно кидали под ноги газету или что-то из грязного белья и, стоя у открытого шкафчика, вытирались и одевались. Иногда удавалось достать свободную табуретку. Тогда я вытирался, стоя на ней, а одевался сидя. Мама помогала и вытереться, и одеться. Нижнее белье у мальчиков было не таким, как сейчас. Сначала я надевал широкий белый матерчатый пояс с пришитыми к нему четырьмя плоскими резинками, снабженными замочками – прищепками для чулок. Пояс застегивался с правой стороны на белые пуговицы. Затем натягивал на ноги длинные трикотажные коричневые чулки, крепил их к поясу и только потом надевал сатиновые трусы и трикотажную майку. Брюк у меня еще не было. Я носил бриджи, сшитые мамой на ручной швейной машинке из куска старой портьеры серо-зеленого цвета. Бриджи заканчивались ниже колена и охватывали ногу вшитой в них резинкой. На длинные брюки не хватило ткани.
Когда возвратились из армии двоюродная сестра с мужем, я наконец стал ходить в мужскую баню. Обычно ходили на четвертый этаж, надеясь, что не всем по силам туда подняться, потому очередь короче. Иногда попадали на второй этаж в класс с бассейном, который, правда, не работал. Он стоял без воды, был замусорен помятыми дырявыми тазиками и использованными вениками. Говорят, до войны им пользовались и мужское, и женское отделения. В нем были мужские и женские дни. Оба отделения имели дополнительные выходы к бассейну. Любопытные мужики любили подглядывать за женщинами в замочную скважину. Один такой любопытный после громких комментариев с криком отскочил от двери, схватившись за лицо. Это ему плеснули с той стороны двери кипятком через замочную скважину. Позже бассейн перекрыли бетонными плитами, увеличив помывочную площадь.
На первом этаже бани была пивная, имевшая два входа: с улицы и из вестибюля. В пивной всегда было шумно и накурено. Пиво пили из больших стеклянных кружек, закусывая воблой или плавлеными сырками. В буфете можно было купить пирожки, бутерброды с килькой и мелкую вкусную соленую рыбку снетку или хамсу. Из разрешенных нам напитков самыми вкусными были клюквенный морс и хлебный квас. С четырнадцати лет в баню ходил самостоятельно, обычно с одним или двумя приятелями. После бани мы любили зайти в пивную, встать у круглого мраморного столика и, прихлебывая из кружки морс, слушать разговоры подвыпивших взрослых. Иногда в пивной случались пьяные ссоры с мельканием лезвий финских ножей. В таких случаях мы быстро возвращались в вестибюль бани и выходили через другие двери.
В августе 1947 года нужно было готовиться к поступлению в первый класс. Мама сшила мне рубашку защитного цвета с отложным воротником, на который сверху подшивался сменный белый воротничок «для аккуратности».
Читать не умел. Из букв знал только букву «о», потому что «обруч». Меня определили в сто восьмидесятую неполную среднюю школу (семилетку) в Ковенском переулке. Торжеств по случаю начала учебного года не было. Учителя разобрали детей в соответствии со списками и отвели в свои классы. Первоклассников вместе с переростками набралось на три класса. Ребята десяти-двенадцати лет, не посещавшие школу во время войны, переростки, стали первоклашками, как и мы. После 7 Ноября, праздника Великой Октябрьской революции, нас стали называть октябрятами и выдали по значку с изображением Ленина в детском возрасте.
Проезжая часть Ковенского переулка была вымощена булыжником, тротуары выложены большими известняковыми плитами, как и на улице Жуковского. Переулок таким оставался еще долго, до первого визита в Ленинград президента Франции де Голля в середине шестидесятых годов прошлого века. Почти напротив нашей школы был, и сейчас есть, католический костел, который пожелал посетить де Голль. За неделю до его приезда закипела работа. Работали в три смены – и переулок преобразился. Его заасфальтировали, середину от улицы Маяковского до улицы Восстания занял зеленый газон, оставив для проезда машин по одной полосе с каждой стороны. Когда де Голль уехал, газон закатали асфальтом.
Учебники и тетради я с гордостью носил в кожаной полевой офицерской сумке-планшетке. Зимой после занятий на ней хорошо было скатиться с обледенелой горки рядом с костелом. Это была заледеневшая гора битого кирпича и мусора, оставшаяся от разбомбленного дома. Бомба была очень мощная. Она разрушила почти все дома вдоль улицы Маяковского, от Жуковского до Ковенского переулка, но костел устоял. К 1953 году дома восстановили, а угловой дом номер шестнадцать по Жуковского – «разруха», где мы играли в казаки-разбойники, – превратился в красивое здание сто семьдесят первой средней школы, которая много позже была переименована в гимназию.
К началу 1948 года научился читать. Новый год встречали у родственников. Было много гостей, и все просили меня что-нибудь почитать. Я не стал отказываться, взял с книжной этажерки первую попавшуюся книжку-брошюру и прочитал по слогам ее название: «Сифилис – не порок, а несчастье». Почему все засмеялись, я, смущенный и гордый умением читать, так и не понял. Читал много и почему-то вслух, даже когда оставался один.
К тому времени мы после семейного обмена жили в том же доме, но в другой квартире, в десятиметровой комнате с двумя окнами, выходившими на задний двор-колодец. Из одного окна была видна только близко находившаяся глухая стена, из второго можно было видеть часть заднего двора. В комнате кроме небольшого платяного шкафа смогли разместиться мамин диван, стол между окнами, два стула и моя довоенная детская кроватка с разогнутыми прутьями одной из спинок. Через расширенные отверстия я просовывал не помещавшиеся по длине ноги и опирал их на подставленную табуретку. Через год детскую кроватку заменила раскладушка из алюминиевых трубок, которую подарила соседка Мирра Александровна.
Эта коммунальная квартира была трехкомнатной. В самой большой комнате площадью сорок три метра жила бывшая актриса, после войны заведовавшая реквизиторским цехом Театра Балтийского флота, Мирра Александровна Незнамова. Ее сестра, тетя Шура, которую все взрослые называли Шурочкой, занимала смежную с большой четырнадцатиметровую комнату. Муж Мирры Александровны, дядя Володя, до развода с ней живший в нашей квартире, работал администратором в Новом театре. Теперь это Театр имени Ленсовета. У меня была возможность посещать дневные спектакли в этих театрах. Самым любимым спектаклем в Театре Балтфлота, который тогда находился на улице Рубинштейна, была «Оптимистическая трагедия».
В плохую погоду, когда на улице делать было нечего, я читал. Читал много, без разбора и все подряд. Несмотря на это, многое из прочитанного в те годы оставило глубокий след. Картинки на обложках таких книг, как «Сказки братьев Гримм», «Сказки Шарля Перро», «Снежная крепость» А. Гайдара, «Я – сын трудового народа» А. Первенцева, «Остров сокровищ» Р. Стивенсона и «Северная одиссея» Джека Лондона, каким-то образом сохранились в памяти до сих пор. Соседи, у которых детей не было, баловали меня подарками. Дядя Володя дарил марки, среди которых были такие, которые теперь могли бы стоить очень дорого. Однажды все марки, собранные в альбом, я обменял на самокат. Самокат был деревянный, самодельный, на шарикоподшипниках. Он легко и шумно катился по асфальту, но прослужил недолго.
Когда в школе изучали басни И. А. Крылова, увидел на книжной полке у соседки красивую книгу в тисненом кожаном переплете с золотым обрезом. Иллюстрации были проложены тонкой папиросной бумагой. Это был сборник басен Лафонтена. В книге я нашел почти все басни Крылова, только автором их был Лафонтен, а Крылов переводчиком. Возмущенный, добросовестно переписал названия басен, принес учительнице и сказал, что это чистый плагиат. Учительница похвалила за прилежность и сказала, что Лафонтен тоже не был автором этих басен, потому что заимствовал их у Эзопа, а тот, возможно, у какого-то еще более древнего автора.
– Хорошо, – говорю, – но почему до революции это был перевод, а теперь нет?
Прозвенел звонок, и ответ я не услышал. Примерно в то же время разочаровался и в нашей печати. В газете ленинградских пионеров «Ленинские искры» увидел статью о нашей школе. В ней говорилось, что в сто восьмидесятой школе есть свой стадион и что на нем проводят межшкольные соревнования. Под статьей была фотография с бегущими детьми и преподавателем с секундомером в руке. Во дворе школы стадиона никогда не было. Он был грязным и черным от копоти кочегарки, находившейся в глубине двора соседней валенковаляльной фабрики. Да и секундомера на уроках физкультуры мы не видели.
Глава вторая
Отопление квартиры было печное. Круглая печь наполовину заходила в нашу комнату, вторая половина, с топкой, выходила в прихожую. С наступлением холодов моей обязанностью было взять мешок, пойти в подвал, набрать в него дров, поднять на третий этаж и затопить печь, чтобы к приходу мамы с работы было тепло.
В школе не кормили. Не помню, чтобы кто-то приносил с собой бутерброды. Кашу, пельмени или котлеты мама, уходя на работу, когда я еще спал, оставляла в холодильнике «Родина». Так в народе называли железный оцинкованный ящик с вентиляционными отверстиями на боковых стенках, который крепился снаружи окна на карнизе. Не всегда успев пообедать до возвращения мамы с работы, часто, натопив печку, засыпал в тепле на голодный желудок, сидя за столом.
Когда в Театре Балтфлота не было спектакля, часам к восьми вечера, а иногда и днем у Мирры Александровны собирались артисты для игры в преферанс. Уходили игроки часов в семь-восемь утра, а через открытые ими двери из большой комнаты вырывались клубы табачного дыма. Был среди актеров заслуженный артист РСФСР Мылов. Если картежники собирались днем и я в это время шел за дровами, он всегда составлял мне компанию. Весело, с шутками мы спускались в подвал, набирали дров гораздо больше, чем я брал обычно, затем заслуженный артист взваливал мешок на спину и приносил в квартиру.
Однажды, спустившись в подвал, я заметил в земляном полу что-то блестящее желтого цвета. Раскопал латунный шар размером с пушечное ядро. Стал копать глубже, надеясь найти пушку, но не нашел. Ядро было таким тяжелым, что с трудом поднял его на третий этаж. Шар оказался полым, из двух полушарий. Заполнен он был крупной свинцовой дробью. У меня был самопал, еще его называли «поджиг». Самопалы делали сами. Из досочки выстругивали подобие пистолета, на него проволокой крепили ствол из медной трубки, заранее изогнутой и сплющенной с одной стороны. Рядом с расплющенной частью трубки нужно было напильником пропилить отверстие. Счищенную со спичек серу или порох плотно набивали в трубку и уплотняли бумажным пыжом. Чтобы произвести выстрел, нужно было плотно прижать спичку головкой к пропиленному отверстию и чиркнуть серной частью коробка. Раздавался громкий выстрел.
Дробь, извлеченная из шара, по размеру подошла к трубке. Ее было так много, что хватало всем желающим. Мальчишечьи самопалы стали заряжать дробью. В большой луже посреди крытого булыжником двора мы устраивали «морские» сражения. Каждый участник из доски изготавливал свой корабль, на него устанавливали мачты с бумажными парусами. В носовой части крепилась трубка-самопал, заряженная дробью. Если дробь попадала в корабль или паруса противника, он считался потопленным.
Однажды увидел ребят, стрелявших дробью в кошек и голубей. Поняв, что дело может кончиться плохо, всю оставшуюся дробь вместе с полушариями выбросил в помойку. Раньше шар, когда вся квартира принадлежала Незнамовым, служил противовесом для большой подъемной люстры с хрустальными подвесками, обмененной на хлеб во время блокады.
Мне было тринадцать лет, когда впервые выстрелил из нагана. В нашей квартире комнаты на ключ никто не запирал. Окна комнаты Мирры Александровны выходили на передний двор, на солнечную сторону. Она разрешала находиться в ней, когда была на работе. Там я днем играл, читал книги, иногда делал уроки. Однажды зашел в комнату и увидел на раздвижном круглом столе пистолетную кобуру, а в ней – настоящий наган, только с укороченным и без мушки стволом. Покрутил барабан, пощелкал курком, попробовал разобрать то, что легко разбиралось, снова собрал и положил на место.
Играл с револьвером несколько дней, может неделю. Если кобура не лежала на столе, находил ее на этажерке или на столике рядом с трюмо. Особенно нравилось, встав в позу дуэлянта, смотреть на свое отражение в зеркальной дверце большого трехстворчатого шкафа и щелкать спусковым крючком. Поделился новостью с другом, жившим этажом ниже, Аликом. Тот тоже захотел подержать в руках настоящее оружие. Я согласился, велел ему на всякий случай покараулить у окна на лестнице и пошел за наганом. Достал его из кобуры, встал в любимую позу перед зеркалом и нажал курок. Раздался выстрел. Да такой громкий! Целился в телефон, висевший на стене, которым могла пользоваться только хозяйка. Смотрю, телефон цел, в стене тоже нет пулевого отверстия. Услышав выстрел, прибежал Алик. Стали все убирать на место и обнаружили рядом с кобурой коробку с патронами. Патроны были странные. В них не было пуль, а концы гильз были аккуратно сплющены на конус в виде гофры. На коробке была надпись «Капсюли Жевело». Это немного успокоило. К вещам из театрального реквизита больше не притрагивался. Мирра Александровна ничего не заметила или сделала вид, что не заметила.
Я учился в третьем или четвертом классе, когда у соседки появился телевизор. Это был большой ящик с очень маленьким экраном. Назывался он КВН-49 и, конечно же, был черно-белый. Вместе с мамой иногда участвовали в просмотре телепередач. Подслеповатая Мирра Александровна на правах хозяйки садилась почти вплотную к экрану. Мы сидели сзади, выглядывали справа и слева из-за ее широкой спины и изображали восторг от увиденного и услышанного. Правда, видно было далеко не все, но хорошо слышно. Телевизионная программа была одна. Показывали новости, телевизионные спектакли и еще что-то. Нас приглашали на просмотр телеспектаклей, особенно тех, в которых она когда-то играла. Просмотр сопровождался ее громкими комментариями, но ни названия спектаклей, ни их содержание детская память не сохранила.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































