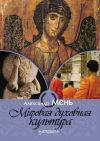Текст книги "С нами Бог"
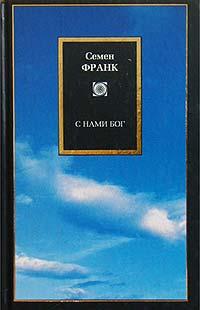
Автор книги: Семен Франк
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
4. БОГ И ЧЕЛОВЕК. ИДЕЯ БОГОЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Это новое понимание и новая оценка человеческой личности в конечном счете опирается на новую идею человека. При всем многообразии форм человеческого самосознания, понимания существа и назначения человека, можно выделить два основных, исторически наиболее влиятельных воззрения о существе человека. В одном из них, опирающемся на исконное, древнее религиозное чувство, самосознание человека определено сознанием его ничтожества, слабости, безусловной подчиненности и порабощенности безмерно превышающим его силам бытия – будь то силы природы или скрытые за ними силы божественного порядка. По своему происхождению человек сознает себя «тварью» – существом, подобным вещи, все бытие которого всецело определено инстанцией, его сотворившей; по классическому библейскому образу, человек есть здесь нечто вроде «горшка», сделанного «горшечником» и во всякий момент могущего снова быть им разбитым. Отсюда – сознание своего бессилия, совершенной зависимости от начала, его сотворившего, рабской ему подчиненности. Употребляя меткое выражение Пушкина в его стихотворном подражании Корану, человек есть здесь «дрожащая тварь». Таково господствующее ветхозаветное представление. Античный человек, правда, не сознавал или не отчетливо сознавал себя «тварью», не ведал всемогущего Бога-творца, а скорее сознавал некое родство между людьми и богами, но он мыслил одновременно богов существами неизмеримо более могущественными, чем он сам, и притом равнодушными к нему или даже враждебными или играющими им, как своей игрушкой, и он чувствовал зависимость всего бытия, в том числе и своего собственного, от беспощадных и равнодушных сил «рока» и потому был охвачен чувством своего ничтожества и «паническим» страхом.
Прямо противоположное этому человеческое самосознание возникло впервые в эпоху Ренессанса и стало господствующим в течение последних веков. В нем человек начал сознавать себя, напротив, неким самодержцем, верховным властителем и хозяином своего собственного и всего мирового бытия – существом, которое призвано свободно, по своему собственному усмотрению, строить свою жизнь, властвовать над всеми силами природы, подчинять их себе и заставлять их служить своим интересам. Человек здесь чувствует себя неким земным богом. Весь технический прогресс последних веков определялся этим самосознанием, и огромные успехи, достигнутые на этом пути, воспринимаются как его очевидное подтверждение. Мысль о подчиненности человека каким-либо высшим, сверхчеловеческим силам начинает при этом представляться только плодом отчасти человеческого невежества, непонимания творческой силы человеческого разума и духа, отчасти же – недостойной робости, рабского самосознания, которое человек сам себе внушил. Это второе понимание существа и назначения человека возникает и развивается как протест против первого, сознается как гордое восстание человека против порабощающих его сил, как великое движение освобождения человека, его пробуждения к самостоятельности. Истинное достоинство человека усматривается в его гордом самоутверждении, в бунтарстве против всех иных, внечеловеческих инстанций, которые сознаются только как силы порабощающие и угнетающие. Этот новый «гуманизм» – вера человека в самого себя – по мотивам своего возникновения и по своему существу сознает себя внерелигиозным и антирелигиозным. Мысля Бога – в согласии с первым противоположным воззрением – только как властителя, как тиранического самодержца, он отвергает его власть – теократию – и хочет заменить ее властью человека – антропократией. Волевой упор этого гуманизма и антропократизма так велик, что он – вопреки логике – совмещается далее с натурализмом, с представлением, что человек возник из низших, элементарных существ природы и по своему существу принципиально от них не отличается.
Возможно ли какое-нибудь третье понятие человека, не совпадающее ни с одним из указанных двух? Оно не только возможно, не только фактически открыто и утверждено – именно в христианстве – но, можно даже сказать, что второе, антропократическое понятие возникло – и только и могло возникнуть – на его почве и есть не что иное, как его искажение и извращение. В самом деле, откуда могла бы взяться вера человека в самого себя, кульминирующая в самообожествлении человека, если бы она не опиралась на сознание особой, исключительной ценности человека, так сказать, аристократичности его происхождения и существа? А это сознание – как бы оно само ни мотивировало себя – по существу предполагает и веру вообще в некую абсолютную ценность, в нечто верховное и святое, и веру в интимную близость человеческого духа к этому высшему началу, в его исконное сродство с ним. Гуманизм предполагает веру в богоподобие и богосродство человека и по существу, в порядке систематической связи, совершенно немыслим вне этой веры. Не может же иметь высокого назначения властвовать на земле и творить царство добра потомок обезьян, обезьяноподобное существо? Но именно эта вера в богоподобие и богосродство человека образует в известном смысле саму сущность христианства. Только по роковому и трагическому историческому недоразумению эта связь идей и само это существо христианства могли остаться непонятными и незамеченными, и гуманизм мог развиваться не в законной форме протеста против первобытных, унижающих человека религиозных представлений, а в форме восстания против религиозной веры вообще и ее высшего, наиболее совершенного выражения в христианстве.
Итак, в промежутке между представлением об абсолютной, радикальной противоположности между Богом – всемогущим творцом и человеком – ничтожной и бессильной тварью и представлением, что сам человек есть абсолютно автономное, в себе утвержденное и потенциально всемогущее существо, стоит воззрение о богоподобии и богосродстве человека. Идея богоподобия человека содержится уже в Ветхом Завете, и есть в нем корректив к идее тварности человека; в отличие от всех остальных творений, Бог создал человека «по образу и подобию Своему» и именно в связи с этим предопределил человека на господство над всеми остальными творениями и над всей землей (Быт 1:26–28). Само это богоподобие немыслимо иначе, как частичное богосродство. Общее указание на богоподобие человека дополняется учением, что Бог, сотворив человека из кома земли, «вдохнул в него Свое живое дыхание» и тем сделал человека «живой душой». Уже здесь предполагается, таким образом, что источник человеческой жизни есть дух Божий, т. е. что человек есть создание особого, высшего порядка, отличное от всех остальных творений именно своим богоподобием и богосродством. В ветхозаветном религиозном сознании этот мотив звучит, в общем, относительно слабо, доминирующим остается все же мотив ничтожества и рабской подчиненности человека. Иначе обстоит дело в античном религиозном сознании. Хотя и в нем господствует, как указано, горькое сознание слабости человека, его обреченности произволу могущественных богов или слепому всемогущему року, но благодаря тому, что сама идея божества здесь иная, чем в Ветхом Завете, именно что божества сами мыслятся существами ограниченными и не всемогущими, идея сродства между людьми и богами здесь выражена гораздо отчетливее и имеет большую влиятельность. В античных религиозных сказаниях и античной поэзии боги и люди так похожи друг на друга, что их часто только с трудом можно отличить; и герои и вожди по большей части суть прямые потомки богов, полубоги. По античному представлению боги и люди вообще имеют общее происхождение и общую или весьма сходную природу; основное различие между ними есть различие по признаку смертности и бессмертия: боги – бессмертные люди, люди – смертные боги; и к этому присоединяется различие между блаженным бытием богов и скорбным человеческим существованием. Но даже и эти различия легко стираются в народном религиозном сознании; герои легко обожествляются и тогда почитаются бессмертными, а боги, если и не умирают, то все же могут как-то сходить с мировой сцены, вытесняемые новым поколением богов; и боги, Подобно людям, подвержены страстям и раздорам и в этом смысле – страданиям. Богоподобие человека основано здесь, коротко говоря, на человекоподобии богов. Во всяком случае, хотя и в несколько смутной форме и в сочетании с чувством бессилия человека, мы встречаем в античном мире господство указанного третьего представления, по которому человек не есть ни внутренне ничтожная тварь, ни самодержавный хозяин жизни, а есть, при всей ограниченности его сил, существо некого высшего онтологического порядка и высшей ценности, как бы младший брат богов. И мир, по известному стоическому определению, есть «государство богов и людей». В этом смысле античный мир есть истинная родина «гуманизма» – место, в котором впервые были осознаны и постепенно во все более благородных формах раскрыты достоинство человека, красота и значительность человеческого образа. Этот античный гуманизм, основанный на идее богосродства человека, имел в виду апостол Павел, когда в своей речи к афинянам ссылался на слова эллинского поэта: «Его же рода есмы».
Этому античному гуманизму недоставало, однако, одного решающего элемента. Богосродство человека не сопровождается солидарностью, внутренней связью между божеством и людьми. Если боги или, по крайней мере, некоторые из богов и мыслились наставниками, покровителями и защитниками человека, как и блюстителями правды, в общем – именно в виду принципиального равенства между богами и людьми – они были скорее соперниками людей, иногда даже их врагами, и во всяком случае существами, имеющими свои собственные интересы и цели жизни и потому в принципе равнодушными к человеку. «Государство богов и людей» походило на феодальное государство, в котором люди были низшим благородным сословием, а боги – олигархией высоких и могущественных вельмож; к чувству уважения к этой правящей группе – одновременно и благоговения перед ней и сознания своего сродства с ней – присоединялось чувство недоверия и отчужденности; недоставало той внутренней спаянности, которая возможна только на почве безусловного доверия и солидарности, нераздельного соучастия в общей жизни. Античный мир был глубоко религиозен; никому не приходило и в голову сомневаться в существовании богов. Но античный мир был проникнут постоянным сомнением в том, интересуются ли боги судьбой человека и можно ли рассчитывать на их помощь в утверждении правды, на их милосердие. Люди молились богам как бы наугад; они ждали от богов скорее зла, чем добра. И религия означала скорее веру, что и трагизм, бедствия, неправда человеческой жизни проистекают также от богов.
Поэтому актуальное, решающее значение религиозная идея богоподобия и богосродства человека обрела только в христианском сознании, где она была дополнена идеей органической связи между Богом и человеком. Первоисточник этого нового сознания есть, конечно, далее необъяснимое откровение Христа – откровение о Боге как любящем отце и о царстве Божием как родном доме человеческой души. Беря эту основную идею христианства как явление историческое, мы должны – не вдаваясь ни в какие шаткие и более или менее произвольные догадки об историко-генетических связях – просто констатировать, что в ней дан органический синтез между ветхозаветным представлением о зависимости человеческого бытия от Бога, его укорененности в Боге, и античном представлении о богосродстве и высшем достоинстве человека. Сила, связавшая воедино эти два представления или, вернее, из себя самой породившая их неразрывную сопринадлежность, есть откровение, что связь между Богом и человеком есть связь любви – что сам Бог есть любовь и что это божественное начало есть сама основа человеческого бытия. Этим основано совершенно новое, единственно достойное и духовно здоровое отношение между человеком и Богом, одинаково далекое и от рабской подчиненности, и от бунтарского самоутверждения человека. Это есть отношение свободного служения, в котором осуществляется подлинное назначение человека. С этой точки зрения само бунтарское самоутверждение обнаруживается как форма рабского самосознания. Если Ницше определил полемически христианство как «восстание рабов в морали», то это было глубочайшим недоразумением (которое, впрочем, имело свои исторические основания). Именно антирелигиозный гуманизм есть восстание рабов; только рабу нужно бороться за свою свободу, низвергать тираническую власть, сбрасывать с себя оковы и цепи. Свободный гражданин, а тем более аристократ, не устраивает революции; царский сын, наследник престола, не испытывает унижения и стеснения своей свободы в своем вольном служении отцу, потому что сам есть соучастник и его интересов и его достоинства. Здесь нет противоположности и противоборства между чужой и собственной волей, между подчинением высшей инстанции и самоопределением, автономией. Для аристократа верховная власть, которой он служит, есть не чуждая, порабощающая и умаляющая его власть, а, напротив, власть, его освобождающая и укрепляющая его положение; она есть как бы только средоточие и вершина его собственной власти. Не бунт, а служение облагораживает человека; достоинство свободного человека требует, чтобы он вел себя не как строптивый раб, а как человек, почтенный высоким саном. Его духовная установка определена принципом noblesse oblige, свободным и радостным сознанием своей внутренней солидарности с верховной инстанцией и ценностью, которой он служит. Именно это аристократическое сознание внушает апостол христианам в словах: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет» (1 Петр 2:9); в этом же смысле евангелист говорит, что истинный свет, пришедший в мир, дал принявшим его «власть быть чадами Божиими» (Ин 1:12), и сам Христос называет своих учеников «не рабами, а друзьями».
Можно сказать, что христианство впервые полностью раскрыло смысл богоподобия и богосродства человека, постигло всю значительность этой идеи и вытекающие из нее следствия. Идея, только намеком выраженная в книге Бытия, что Бог вдохнул в человека свой дух, раскрыта в христианстве в отчетливом сознании, что «Он дал нам от Духа своего» (1 Ин 4:13). Представление о человеке как творении дополняется сознанием, что человек в качестве духа «рожден от Бога», «от Духа», «свыше». Это парадоксальное, так поразившее Никодима («учителя Израилева») учение, что человек, кроме рождения «от плоти», из утробы матери, имеет еще иное рождение «свыше», «от Духа», совсем не исчерпывается, как это часто думают, указанием, что человек способен пережить духовный переворот, «обращение» и в этом символическом смысле начать жить новой, высшей жизнью; само это «перерождение» было бы невозможно, если бы Бог с самого начала не «дал нам от Духа Своего» – если бы человек по самому своему существу не был «духом, рожденным от Духа». Это решающее открытие, в конце концов, прямо содержится в центральном догмате христианской веры в Бога как «отца». «Отец» есть не только любящее существо, на покровительство которого мы можем положиться, «Отец» есть именно отец – существо, от которого мы произошли, которому мы сродны, к «дому» которого мы принадлежим и «царство» которого нам уготовано от века.
Всякое религиозное сознание, как таковое, – сознание Святыни, абсолютного Блага, Верховного Начала, Божества – само собой предполагает иерархизм, ставит человека в положение существа, подчиненного некой высшей инстанции. Но это иерархическое сознание (которое одно только дарует смысл человеческой жизни, ставит перед ним цель, дает ему мерило должного и недолжного, руководит им на жизненном пути) может иметь совершенно различное духовное значение, смотря по тому, сопровождается ли оно сознанием совершенной разнородности между человеком и Богом или, наоборот, их внутреннего сродства и близости. В первом случае оно есть подчинение чуждой трансцендентной власти, смысл велений которой нам непонятен; оно испытывается как зависимость и принуждение, как насильственная ломка природы человека; во втором случае она есть свободное служение, в котором человек впервые осуществляет сам себя, находит удовлетворение интимным запросам своего духа. В сущности, Бог, абсолютно инородный человеку, есть только бог, как тиран, как существо злое, враждебное человеку; всякое представление о Боге как покровителе и защитнике человека, как блюстителе и, тем более, носителе добра уже молчаливо предполагает некоторую степень сродства между человеком и Богом, ибо Бог при этом дарует – и, тем самым, есть – то, что нужно человеку, о чем томится человек, т. е. к чему он влечется и предназначен по своей природе. Но только христианство, в качестве совершенной религии, доводит этот мотив до его последней полноты: прибегая к Богу, отдаваясь и служа Ему, человек просто впервые полностью осуществляет самого себя; только в связи с Богом человек находит свое истинное существо. «Ты создал нас для себя», говорит бл. Августин, «и неспокойно сердце наше, пока не упокоится в Тебе». Бог есть родина и почва человеческой души; Бог сам человечен, как человек – потенциально божествен.
Таким образом, это третье, единственно истинное представление о человеке основано не столько на отрицании первых двух или, точнее, их определяющих мотивов, сколько на гармоническом их сочетании, дающем подлинное осуществление того, что истинно в них обоих. Ветхозаветное представление, что человек в качестве творения есть существо, само по себе бессильное, испытывающее шаткость и бренность своего бытия и почерпающее силу только из своей связи с иным, первичным, несотворенным, вечным началом или существом – Богом, это представление само по себе совершенно справедливо. К существу человека принадлежит сознание его нищеты и нужды, его «misère», как говорил Паскаль; и когда человек это забывает и начинает воображать себя самодержавным творцом и хозяином своей жизни, он строит свою жизнь «на песке», на иллюзии, и горьким опытом убеждается, что впал в гибельное заблуждение. Но эта его зависимость от Бога и связь с Богом есть вместе с тем его достоинство. Послание к Евреям приводит слова псалмиста, в которых уже выражено это двойное самосознание человека: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его» (Пс 8:4–6). Более того, уже в Ветхом Завете встречается мысль, выраженная в учении о грехопадении, что дело идет здесь о фактической нищете человека, об его униженном состоянии, которая есть его собственная вина, итог уклонения от истинного пути, а не об онтологическом его ничтожестве. Ничтожен только отпавший от Бога человек; человек в том его существе, к которому он предназначен при сотворении именно в качестве слуги и соучастника Божией силы и славы, имеет, напротив, высокое достоинство. Униженное состояние человека есть, как говорит Паскаль, misère d’un grand seigneur, d’un roi dépossédé. Уже самый факт, что человек способен знать эту свою фактическую нищету и скорбеть о ней, есть признак его величия – свидетельство, что его истинное существо не исчерпывается этим отрицательным моментом. Само искание опоры для своего бытия вне себя, само сознание, что такая опора ему нужна и у него есть, обличает, что Бог, в качестве полюса, необходимо противостоящего человеческому бытию, есть тем самым его необходимый коррелят, т. е. что связь с Богом есть внутренний признак самого существа человека.
И обратно: гуманизм, вера человека в самого себя, в свое высокое призвание, в свою способность активно строить жизнь и осуществлять добро – все это само по себе совершенно правильно; и квиетизм, готовность пассивно успокоиться на сознании своего безнадежного ничтожества, есть великое и греховное заблуждение. Бог ждет от человека не пассивности, а напряженной духовной и нравственной активности. Человек призван быть не простым объектом действия Божией воли и силы, а действенным и ответственным, сознающим свою силу субъектом – активным сотрудником Бога, кто не имеет этого сознания, тот есть раб ленивый и лукавый. Если Христос говорит своим ученикам: «Без Меня не можете делать ничего», то это отнюдь не противоречит обратному соотношению. Христос мог бы прибавить – и косвенно неоднократно дает это понять: «Но и без вас, без вашей готовности идти Мне навстречу, и Я не могу ничего делать». Но только эта свободная активность человека основана именно на его неразрывной связи с Богом, должна быть соучастием в Божием деле. Именно потому, что человек есть существо высокого порядка, что он потенциально божествен, принадлежит к Божиему роду, его подлинное самоосуществление есть не своеволие, не удовлетворение его субъективных влечений (так осуществляет себя только животное), а служение – подчинение низшего начала в себе высшему, осуществление абсолютной правды. Человек находит и утверждает самого себя в своей истинной человечности – в том, что отличает его от животного, только когда находит и утверждает Высшее, чем он сам. Служение унижает только низменную природу раба; оно возвышает и осмысляет жизнь свободного, аристократического существа. Все дело в том, что человек по самому своему существу есть истинный человек, когда он есть нечто большее, чем просто человек – чем изолированное, замкнутое в себе и сосредоточенное на самом себе только человеческое существо.
Это единственное здоровое и нормальное человеческое самосознание упирается в конечном итоге в сознание столь интимно-неразрывной связи человека с Богом, что эта связь становится неким двуединством. Это значит: богоподобие и богосродство человека, в сочетании с необходимым различием между Богом и человеком, предполагает идею богочеловечности. Исторически в христианском сознании идея богочеловечности открылась конкретно в личности Иисуса Христа и была фиксирована в христологическом догмате. Сколь бы смутными и иногда схоластически-беспредметными нам ни казались теперь догматические споры и искания первых веков христианства и сколько бы человеческой греховности в них ни участвовало, – надо изумляться точности и глубине их окончательных достижений. В образе Христа, в единстве Его личности было усмотрено «неразрывное и неслиянное» двуединство двух природ – Божеской и человеческой, и это было позднее еще дополнено усмотрением в Нем двух «воль» – Божеской и человеческой. Кажется, в популярном, господствующем христианском сознании полнота и глубина этого достижения была позднее снова в значительной мере утрачена. Христос стал мыслиться снова просто как Бог – Бог в человеческом образе, который при этом в религиозно-психологическом порядке силою вещей становится образом обманчивым. Но Христос не есть просто Бог, как Он не есть просто человек. Он не есть ни то, ни другое – потому что Он есть сразу и нераздельно и то, и другое. Величие и смысл образа Христа состоит в том, что человеческое существо, подобное каждому из нас, могло одновременно быть сосудом, носителем и воплотителем Божиего существа. Что человек может быть вестником и медиумом Божией воли и Божиего откровения – это принадлежит к числу постоянных и необходимых человеческих религиозных представлений, иначе Бог вообще не мог бы открываться, голос Божий не мог бы достигать нас. И, с другой стороны, что под обманчивым обликом человека может являться само божество – это принадлежит по крайней мере к числу весьма распространенных древних религиозных представлений (так, античная религиозность полна рассказов об этом). Но чтобы истинный человек, оставаясь таковым, мог быть больше, чем вестником и медиумом Божиих велений, а именно воплощением самого существа Бога – в этом обнаруживается специфическая великая идея богочеловечности. Современный человек склонен либо брать эту идею как непонятный ему «догмат» церкви, который как цинично выражался Гоббс в отношении церковного вероучения вообще – «надо проглатывать, не разжевывая», либо отвергает ее как суеверие. Этим он обнаруживает, что, несмотря на весь свой «гуманизм», на свою веру в высокое назначение человека, он в сущности подавлен сознанием ничтожества и низменности человека, не имеет чутья к великим возможностям, таящимся в том бездонно-глубоком существе, которое называется человеком; и вместе с тем он обнаруживает, что имеет о Боге некое первобытное представление, как о существе, подавляющем своей стихийной огромностью, совершенно инородном человеческой личности и несоизмеримом и несовместимом с нею.
Конечно, христианское сознание справедливо проникнуто чувством глубочайшего различия между личностью Христа и обычным типом человеческого существа (включая даже величайших гениев). Оно ясно видит опасность, лежащую в том, что человек – обычный экземпляр человеческой природы – может возомнить себя существом, подобным Христу, это не раз бывало и всегда кончалось катастрофой, обличалось как кощунственное и гибельное заблуждение. Совершенно очевидно, что Христа нельзя подвести под обычное понятие человека, т. е. что Его конкретный образ можно понять только как чудо – как нечто единственное и неповторимое. Но, с другой стороны, Христос не мог бы называться человеком, не мог бы признаваться образцом, которому должен следовать каждый из нас, если бы Его существо было принципиально и абсолютно инородно нашему, toto coelo[19]19
На целое небо, на расстояние от земли до неба (лат.).
[Закрыть] отличалось от него. Напротив, весь смысл образа Христа состоит в том, что в Нем мыслится актуально и абсолютно осуществленным то, что потенциально составляет наше собственное существо. Он есть «новый Адам» – новый и совершенный родоначальник истинной природы человека. И если религиозно мы должны сознавать актуальную и абсолютную богочеловечность Христа как основание нашей собственной потенциальной богочеловечности, то, с другой стороны, само это понятие совершенного богочеловека было бы немыслимо, если бы первозданное существо человека, как такового, не было от века уготовано и предназначено к воплощению в себе этого совершенного богочеловеческого существа, т. е. если бы не существовало вечного, исконного сродства и единства между человеком и Богом. В этом смысле богочеловечность есть общая идея, распространяющаяся на человека вообще, на все человечество. Богочеловечность Христа есть осуществление возможности, заложенной в существе человека. Это не есть отвлеченная возможность, конкретно вообще не осуществимая для всех других людей, слишком часто забывают обетование Христа, что верующий в Него дела, который творит, Он, и он сотворит и даже «больше сих сотворит» (Ин 14:12). Как я уже выше говорил, истинный человек есть нечто большее, чем только человек. Можно сказать, что человечное в человеке есть именно его богочеловечность.
Это не есть какое-нибудь новое, дерзновенное учение, сколь бы непривычным оно ни казалось на первый взгляд. Уже выше я говорил, что христианство есть религия человеческой личности; оно открывает святость, абсолютную ценность человеческой личности; оно проповедует веру в человека; и если оно одновременно внушает человеку сознание его греховности, то это сознание именно потому так тяжело и напряженно, что состояние греховности мыслится противоречащим истинному существу человека и искажающим его – плодом противоестественного «падения» его с высоты, на которой он призван стоять. Ни античный, ни ветхозаветный человек не знал святости каждой человеческой личности, как таковой, не испытывал чувства благоговения перед абсолютной ценностью той реальности, которая открывается в каждом человеческом существе, – и притом так, что эта ценность безусловно неистребима и поэтому присутствует даже в самом порочном, низменном и ничтожном человеке. Античный мир, несмотря на свой гуманизм, мог верить, что раб и варвар есть существо принципиально иной природы, чем свободный и эллин. Ветхозаветный человек – по крайней мере до религиозных достижений в его великих пророках – мог сознавать инородцев и язычников существами иного порядка, чем избранный народ Израиль, и мог думать, что сама душа грешника и нечестивца подлежит истреблению. И мы присутствуем теперь при возрождении этих первобытных представлений. Но все это противоречит христианскому сознанию, утверждающему святость человеческой личности, существа человека, как такового. Но что такое святость или абсолютная ценность, как не атрибут Божества? Одно не вошедшее в Евангелие речение Иисуса Христа гласит: «Ты увидел брата своего – ты увидел Господа своего» (vidisti fratrem tuum – vidisti Dominum tuum). Но то же самое выражено в словах Евангелия, что накормивший алчущего, напоивший жаждущего, принявший странника, одевший нагого, посетивший больного или заключенного, сделал все это самому Христу, ибо все люди суть Его «меньшие братья». Образ Христа учит нас, таким образом, что очеловечение Бога возможно в силу того, что человек предназначен быть сосудом Божества, потенциально божествен по самому своему существу, что наше тело, как говорит апостол, есть «храм Божий» и что «дух Божий живет в нас». В учении восточной церкви об «обожении» (θεωσισ) как последнем назначении человека, христианская церковь открыто выразила этот универсальный и основоположный смысл идеи богочеловечности.
Но образ Христа учит нас одновременно и обратной стороне богочеловечности человека. «Обожение» человека, раскрытие и актуализация его потенциальной божественности не есть простое, как бы имманентное самораскрытие и самоосуществление человека; оно возможно только на пути самопреодоления человека в том его естестве, в котором он отличен от Бога, – на пути самоотверженного служения Богу, подчинения своей личной, только человеческой воли воле Божией. Как совершенный Богочеловек был Богочеловеком именно потому, что творил не Свою волю, а волю Пославшего Его, – так то же имеет силу и в отношении каждого человека. Истинная богочеловечность человека, его великое достоинство, его власть быть чадом Божиим осуществляется в его служении Богу. Человек по самому своему существу призван быть служителем Бога – священнослужителем. Идея всеобщего священства необходимо вытекает из самого христианского понимания человека и входит в состав самого существа христианской веры. И в этом отношении Христос есть образец для всех нас – Христос, который, хоть Он и Сын, однако страданиями «навык послушанию и был наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евр 5:8,10).