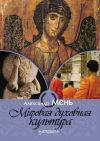Текст книги "С нами Бог"
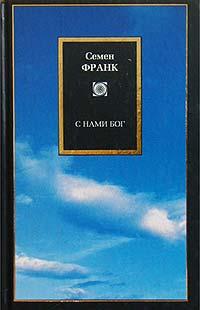
Автор книги: Семен Франк
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Известны вдохновенные слова, в которых Паскаль записал итог мистического опыта, встречи с Богом: «Радость, радость, радость! Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов!» Если под «Богом философов» разуметь некое пантеистическое «Абсолютное», как у Гегеля, – или, что, вероятно, имел в виду Паскаль – Аристотелево или Декартово понятие Бога – «мысль, мыслящую саму себя», «первого двигателя» и «чистую субстанцию», – то Паскаль безусловно прав. Религиозный опыт есть опыт встречи и общения с живым Богом, его содержание поэтому существенно отличается от содержания и «понятия» Бога как философской «гипотезы», необходимой для объяснения мира, или вообще как отвлеченной философской идеи. Именно это отличие я пытался выше выразить в словах, что Бог есть для нас всегда «Ты», а не «Он» (и тем более не «Оно») и что Его реальность выразима скорее в восклицании, в молитве, чем в умственном констатировании и суждении. Но я думаю, что обратная сторона мысли Паскаля – безоговорочное отождествление Бога мистического опыта с «Богом Авраама, Исаака и Иакова» – тоже не вполне точна, носит отпечаток некоего полемического преувеличения. Ибо этот Бог древних еврейских патриархов – при всем величии и всей правде его идеи – есть все же только первый проблеск религиозной правды в сознании первобытных пастухов. Этот Бог был суровым самодержцем, требовавшим рабского подчинения и слепого доверия себе, даже в искушающем приказе Аврааму принести Ему жертву, заколов собственного сына. Он, конечно, далеко не во всем тождествен Богу Иисуса Христа – любящему Отцу, который ищет не рабов, а друзей, поклонников «в духе и истине», – Богу, который пребывает в нас и дал нам от Духа своего, – Богу, который сам «есть любовь». Будучи живым личным Богом, Бог мистического опыта – Бог, при всей его трансцендентности имманентно живущий в глубине человеческого духа, – есть вместе с тем нечто, ни с чем иным не сравнимое – Свет, Жизнь, Истина. Паскаль сам косвенно признает это, записав в отчете о своем мистическом опыте также таинственное слово «огонь!».
5. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ И ДОГМАТЫ ВЕРЫ
Итак, вера в личного Бога, как и ее христианское выражение – вера в Бога как «Отца небесного», есть не какое-либо теоретическое суждение или допущение о недоступной нам реальности, а итог и как бы кристаллизация живого религиозного опыта – именно опыта как религиозного общения. Как мы видели, здесь нужно остерегаться рационализации этой веры. Эту истину нужно брать не как точное, адекватное выражение собственного существа Бога – существа, которое мы, напротив, воспринимаем как непостижимую и несказанную тайну и которое и должно оставаться для нас таковой. Эта истина есть для нас лишь символ – т. е. знание, выражающее прозреваемое нами существо Бога в такой форме, что это существо одновременно остается для нас непостижимым; мы сознаем существо Бога только через посредство чего-то вроде нашего «впечатления» от Него – нашего отношения к Нему и испытываемого нами Его отношения к нам.
Такой же смысл имеют и все те истины веры, которые принято называть «догматами». Вера в личного Бога как «Отца небесного» и есть не что иное, как основной «догмат» христианской веры. Христос – существо, имевшее (как мы это с некоей очевидностью сознаем) наиболее адекватное знание о Боге и его отношении к миру и человеку, никогда не выражает это знание в точных, как бы «научных понятиях»: он выражает его в «притчах», т. е. образах и сравнениях, в намеках, дающих как-то почувствовать, внутренне испытать содержание этой несказанной тайны. Так, Он прямо говорит о «тайнах Царствия Божия» – той сферы бытия, которая, как мы видели, стоит в теснейшей, неразрывной связи с реальностью Бога, как бы сопринадлежит к ней. Эти тайны можно либо прямо знать – знать неким несказанным, невыразимым знанием (так, по словам Христа Его ученикам: «Вам дано знать тайны Царствия небесного (Мф 13:11; Мк 4:11; Лк 8:10); а кому это не дано знать, тому можно только намекнуть об этом «в притчах»[10]10
Соответствующие места Евангелия, очевидно, можно понять только в указанном мною смысле. Буквальный текст их, из которого как будто следует, что Христос умышленно скрывал эти тайны от непосвященных, чтобы они не поняли и не спаслись, очевидно, содержит какое-то искажение.
[Закрыть]).
То же самое применимо вообще ко всему остальному содержанию того, что называется «вероучением» или «догматами веры». Я оставляю пока в стороне то, что в составе вероучения принимается верующим за истину на основании доверия к религиозному авторитету или на основании веры в «откровение» в обычном смысле этого понятия; об этом я буду говорить ниже. Здесь я рассматриваю лишь то содержание вероучения, которое непосредственно открывается в личном религиозном опыте. Как я пытался выше показать, религиозный опыт не есть просто ощущение какого-то непосредственного, бесформенного мистического «нечто»; он имеет, напротив, некое положительное содержание; в нем узнается нечто вполне определенное, хотя точно и не выразимое в понятиях. Если религиозный опыт, в качестве опыта внутреннего общения души со Святыней, дает нам испытать реальность Бога как личного существа, то с этим связано или может быть связано и многообразное иное содержание. Так, например, уже пришлось говорить, что опыт реальности Бога есть тем самым опыт нашей неразрывной связи с Ним, нашего богоподобия и нашей вечности. Другая, еще более как бы бросающаяся в глаза и потому более известная сторона того же опыта есть опыт нашей «тварности», т. е. отсутствия в нашем бытии какого-либо собственного, нам самим принадлежащего фундамента, безусловной зависимости от Бога не только всего содержания нашей жизни, но и самого факта нашего бытия. Религиозный опыт содержит, далее, опыт нашей свободы как основоположного существа нашей личности, во всей загадочности этого начала бытия, которое мы испытываем как нашу «свободу». Данный в том же опыте непонятный факт, что мы можем терять Бога, несмотря на Его вечную близость нам, дает нам сознание некоей нашей внутренней слепоты; этот опыт слепоты связан с опытом действия на нашу душу темных, хаотических сил, влекущих нас на путь, который мы сознаем гибельным; это есть опыт греха – некоего непостижимого зарождения зла в нашей душе; и этот опыт легко заостряется в опыт нашей плененности злом, нашего бессилия преодолеть его. С другой стороны, опыт общения с Богом дает нам узнать величие и блаженство любви – не только любви Бога к нам и нашей любви к Богу, но тем самым любви ко всякой человеческой душе и даже ко всякому творению. Этот опыт любви дает нам парадоксальное, противоречащее всему нашему земному опыту сознание всепобеждающей силы любви, ее торжества в некоем внутреннем плане бытия над столь, казалось бы, непобедимо могущественными силами зла в мире. Опыт реальности Бога-Отца дает нам опыт вселенского братства людей как детей Божиих, несмотря на все – в земном плане неодолимые – силы раздора, ненависти и отчужденности между людьми.
Нет надобности продолжать перечень многообразного содержания религиозного опыта, пытаться дать полный инвентарь того богатства духовного знания, которое мы в нем обретаем. Здесь мне существенно только напомнить, что это содержание действительно многообразно и обладает расчлененностью, и притом, что оно касается не только самой реальности, которую мы называем Богом, но и существа нашего собственного бытия и тем самым всяческого бытия вообще.
На первый взгляд кажется даже неуместным, неподходящим называть такого рода знания «догматами веры» – настолько их характер не похож на то, что мы обычно разумеем под этим словом. Когда мы говорим о догматах веры, нашему сознанию невольно преподносится мысль о каких-то даже словесно точно фиксированных формулах, установленных церковным авторитетом и освященных преданием. Подлинный смысл этих формул обычно недоступен нашему личному разумению (многие ли христиане в силах понять, например, смысл догмата о троичности Божества?), тем более недоступна нам проверка их истинности. Вера в догматы в обычном смысле этого понятия неизбежно представляется некой «слепой» верой, определенной преклонением перед непогрешимым церковным авторитетом. Человеку, склонному к свободной, независимой мысли и неспособному на слово верить чужому мнению, хотя бы оно пользовалось всеобщим признанием и претендовало на значение священной неприкосновенной истины, догматическое содержание веры кажется поэтому либо просто набором бессмысленных предрассудков, либо, по меньшей мере, каким-то совершенно произвольным мнением, не допускающим проверки. Оно ощущается как ненужный балласт, только обременяющий и интимно-личную внутреннюю духовную жизнь, и здравое, разумное суждение о существе человеческой жизни и мира. А если при этом еще вспомнить, сколько жестокостей, ненависти и зла породили догматические раздоры, сколько человеческой крови было из-за них пролито, в какой мере под их действием история церкви уклонилась от основного завета христианской веры – завета любви, то легко понять, почему отношение независимого религиозного духа к «догматам веры» становится резко отрицательным; в них не видят ничего, кроме гибельных и позорных для человека заблуждений и суеверий.
Повторяю: я оставляю сейчас в стороне веру в догматы, поскольку она определена верой в церковный авторитет или в «откровение». Надо заранее признать, что обычная критика таких догматов, о которой я сейчас говорил, в значительной мере совершенно справедлива, хотя, как увидим дальше, все же одностороння и не учитывает обратной, положительной стороны дела. Здесь мне существенно только подчеркнуть, что это обычное понимание, разделяемое и сторонниками, и противниками догматического вероучения церкви, смешивает некую (весьма распространенную и выдвинувшуюся на первый план) производную и неадекватную форму догматического сознания, догматического содержания веры, с его первичным, подлинным существом. В сознании современного, образованного человека, выросшего в духовной атмосфере последних веков, т. е. под влиянием критики церкви и ее учения, слово «догмат» стало прямо означать какую-то неподвижную, застывшую, омертвевшую мысль, как бы оторвавшуюся от своего живого корня, от свободного умственного усилия познания и понимания; а слово «догматический» стало синонимом слепого, скованного, неподвижного склада ума. Сколько бы верного ни заключалось в таком представлении и словоупотреблении, полезно все же вспомнить, что по своему первоначальному смыслу греческое слово «догмат» означает просто нечто вроде «учения» или «утверждения»; греки говорили о «догматах» философов, понимая под этим их учения или мнения. Всякий человек, который во что-то верит, что-то утверждает, в чем-то убежден, имеет в этом смысле «догматы»; вера, мысль, познание должны ведь не быть чем-то расплывчатым, неопределенным, бессодержательным, а иметь определенное содержание. Ограничиваясь здесь областью веры, религиозной мысли, религиозного познания, мы должны сказать: всякая вера есть вера во что-то, всякая религиозная мысль должна содержать некое совершенно определенное утверждение. Это содержание веры и религиозной мысли и есть «догмат» в первичном смысле этого слова. Вера без догматов веры есть в этом смысле нечто столь же невозможное, как суждение, которое не высказывало бы чего-либо определенного. Фактически поэтому всякая критика господствующих церковных догматов есть замена их какими-нибудь другими догматами. Что Бог един, есть такой же догмат, как и что Бог троичен в своем единстве; даже убеждение, что Бог непознаваем и непостижим, есть догмат, выражающий совершенно определенное представление о своеобразном существе Бога. В XVIII веке пользовалась огромным влиянием резкая критика церковного вероучения в книге Arnold’a «Kirchen– und Ketzergeschichte»; основная мысль этой книги состояла в том, что люди, гонимые в качестве еретиков, выражали в своей борьбе против церковного вероучения настоящую правду христианской веры; но ведь ясно, что еретики противопоставляли догматам церкви другие догматы. Всякий человек, будь он в религиозном смысле верующий или неверующий, руководится в своей жизни какими-то общими идеями, мыслями и о подлинной природе вещей, и о том, что есть добро и зло, что хорошо и дурно, такие мысли теперь называются «убеждениями» или «принципами». Человек «беспринципный», человек «без убеждений» есть человек, лишенный либо мысли, либо совести – либо того и другого. Но «убеждения» и «принципы» есть лишь другое название для того, что в первичном смысле слова есть «догмат». Вера в достоинство человека, в неприкосновенность человеческой личности, в равенство всех людей есть, по существу, не в меньшей мере вера в догматы, чем вера в первородный грех или в бытие Бога; столь распространенная среди современных людей вера в «прогресс» по общему своему характеру находится на одной плоскости с противоположным ей по содержанию церковно-христианским убеждением, что «весь мир лежит во зле» и что в пределах мира спасение и радикальное исцеление человека от бедствий чисто мирским способом невозможно, то и другое суть лишь разные догматические решения одного и того же вопроса. В этом общем смысле слова «догмат» отрицание догматов вообще невозможно (разве только в смысле утверждения универсального скептицизма, что, однако, в свою очередь, есть тоже некий «догмат»), можно говорить только о замене ложных догматов истинными или произвольных – обоснованными. И при этом, конечно, нетрудно обнаружить, что господствующие «догматы» просвещенных людей, отвергающих церковное вероучение, обычно – как это бывает со всеми ходячими мыслями – тоже произвольны, не проверены, опираются на слепую веру в непогрешимость влиятельных мнений – либо модных, соответствующих «духу времени», либо освященных вековой традицией – и тоже носят часто характер застывших словесных формул, совершенно неадекватных свободному, непредвзятому восприятию конкретной жизни в ее живой правде. Так, чтобы привести только один пример – вера в «прогресс», в беспрерывное, предопределенное умственное, нравственное и материальное совершенствование человеческой жизни стоит в вопиющем противоречии с самыми бесспорными данными исторической науки, знающей многократные эпохи регресса, крушения высокоразвитых цивилизаций и впадения в варварство. Вера в слова и отвлеченные понятия вместо веры в истины, свободно обретаемые из живого опыта, совсем не есть исключительная особенность церковно-верующих людей, а скорее присуща неразмышляющим, несамостоятельным, подражательным умам и потому характерна вообще для того, что называется «общественным мнением». Связанный с этим слепой, несправедливый и жестокий фанатизм есть черта, свойственная атеистам не в меньшей мере, чем «церковникам», исторический опыт, в особенности последнего времени, достаточно ясно об этом свидетельствует. И этот опыт показывает, что по крайней мере некоторые из таких господствующих и почитаемых догматов передовых людей часто ложны и гибельны для жизни в гораздо большей мере, чем когда-либо были какие-либо церковные догматы.
Ясно, что вопрос о смысле, существе и правомерности «догматов» должен быть перенесен из плоскости, в которой он обычно обсуждается, в совершенно иную плоскость. Если всякий догмат вообще имеет тенденцию вырождаться в застывшую словесную формулу, в неподвижную и непродуманную мысль, утверждаемую не через свободное непосредственное усмотрение ее истинности, а в силу следования общественному мнению или преклонения перед традицией и авторитетом, то надо отчетливо различать истинное внутреннее существо догмата от той внешней его формы, в которую он часто облекается. Этим дано оправдание только что намеченного мною понятия догмата. Попытаемся теперь точнее уяснить это понятие.
Прежде всего следует – вопреки распространенному мнению – подчеркнуть, что религиозный догмат не есть нечто вроде метафизической гипотезы, т. е. допущения или утверждения о содержании скрытых, недоступных нам глубин бытия, он не есть утверждение, с помощью которого мы «объяснили» бы видимый состав мира через ссылку на его невидимые основания. По своему первоначальному, неискаженному существу догмат есть, напротив, простое описание состава, имманентно данного нам в религиозном опыте, – умственный отчет в том, что мы воспринимаем. Догмат есть по существу нечто вроде констатирования факта (или обобщения фактов), а никак не гипотетическое их объяснение, которое всегда было бы произвольным из его предполагаемых причин или оснований. Только факты, с которыми мы имеем здесь дело, суть именно факты общего порядка, т. е. означают общий состав, общую структуру бытия. Догматы соответствуют – в области религиозного знания – тому, что современная философия разумеет под «феноменологическим описанием» состава явлений. Здесь не строятся гипотезы, не даются объяснения, а просто и непредвзято описывается то, что есть, – то, что непосредственно предстоит взору (и что «объяснить» мы часто не в силах). Так, вера в Бога как творца и хранителя мира есть, как мы уже видели, выражение непосредственного опыта, Воспринимая внутреннюю безосновность, шаткость моего собственного и мирового бытия, я тем самым воспринимаю его зависимость и производность от некоей абсолютной, вечной, в себе самой утвержденной основы. То, что мир «сотворен Богом», не значит (как это, невольно упрощая, мыслит популярное сознание), что некогда, давным-давно (по церковному счету несколько тысячелетий тому назад, а в связи с новейшими космологическими знаниями – несколько сот миллионов лет тому назад), мир по повелению Бога внезапно «возник», это значит, напротив, нечто совершенно очевидное – именно, что мир не только по своему содержанию, но и по самому своему бытию произведен от некоей абсолютной, уже внемирной или надмирной инстанции, мир не «был сотворен» «когда-то» хотя бы уже по той причине, что «до» его сотворения не могло быть никакого «когда-то», так как само время принадлежит к составу сотворенного бытия «ante tempus non erat tempus» – как это коротко выражает бл. Августин; мир есть «тварное», производное, зависимое бытие. Что при этом мир есть некий «космос», т. е. некоторое стройное, согласованное, подчиненное закономерностям целое, математически или вообще логически-умственно постижимое, есть свидетельство того, что порядок, мысль принадлежат к составу его творческой первоосновы – что есть тоже не гипотеза о характере причины, породившей мир, а простое констатирование первичного, основоположного его имманентного состава. И с другой стороны, имея опыт нашей собственной личности в ее исконности и глубине, мы из него знаем, что абсолютная первооснова бытия должна быть подобна той священной, таинственной глубине, которую мы воспринимаем как фундамент и почву нашего личного бытия, – должна быть как-то сродни ей, и мы одновременно опытно знаем, что эта глубина есть первоисточник того, что мы сознаем как абсолютное Благо, Святыню, Правду. Как бы трудно – или даже невозможно – ни было вполне точное и исчерпывающее умственное формулирование этого сложного состава опытного знания о мире и нас самих, оно в общей форме находит свое выражение именно в сознании или «догмате», что мир есть «творение» Бога. Точно так же, например, догмат «грехопадения» или «первородного греха» по своему подлинному существу совсем не совпадает с мифологическим рассказом, как некогда человек за свое прегрешение был изгнан из рая; этот рассказ лишь облекает догмат грехопадения в наглядную, популярную символическую – именно «мифологическую» форму. Существо самого догмата есть простое описание двух непосредственно очевидных опытных знаний – опыта реальности (укорененной в человеческой природе) силы зла или греха и одновременно опыта святости и совершенства первоосновы человеческого существа – человеческой личности, т. е. опыта ее укорененности в Боге, ее характера и предназначения как «образа Божия»; сочетание этих двух опытов дает самоочевидное знание, что человек (и весь мир) по своей эмпирической природе не таков, каков он есть по своему первозданному существу, и в этом и состоит сознание, что человек и мир «пали». Тем более очевидно, что все «христологические» догматы – как бы отвлеченно-философски некоторые из них ни звучали – суть в конечном итоге не что иное, как интеллектуальное выражение религиозного восприятия личности Иисуса Христа и религиозного опыта, открывающего нам смысл «спасения». То же самое можно было бы показать в отношении всех других догматов веры.
Но так как живое содержание религиозного опыта – как и всякого опыта вообще – в его конкретной полноте невыразимо, то это интеллектуальное его выражение всегда остается лишь приблизительным, неадекватным, оно улавливает лишь то, что нам кажется наиболее важным в составе религиозного опыта, что больше всего нас интересует и чем мы больше всего в нем дорожим. Конкретно-психологически и исторически формулировка догмата веры по большей части определяется мотивом полемическим, желая предупредить или отклонить истолкование религиозного опыта, которое нам представляется ложным, т. е. в котором мы усматриваем искажение – и притом прежде всего практически вредное или опасное искажение его конкретного смысла, мы выражаем религиозный опыт в понятии, которое должно подчеркнуть, отметить какую-либо его черту, незамечаемую или отрицаемую при ложном его истолковании и почитаемую нами существенной. В силу этого живая полнота религиозного опыта всегда богаче, конкретнее, многообразнее того, что выражено в догмате, т. е. в суждении, извлеченном из опыта, примерно так же, как живая полнота нашего восприятия конкретной личности или нашего личного отношения к человеку, например нашей любви, всегда бесконечно богаче, глубже, содержательнее всего того, что мы можем высказать о нем, в чем мы можем отдать себе умственный отчет, – а тем более содержательнее и глубже того, что мы имеем практический повод высказать.
Таково, в сущности, отношение между опытом и мыслью, выраженной в понятиях, во всех областях знания; свободный и проницательный ум, видящий саму реальность, всегда сознает, что все высказывания и суждения о реальности лишь частичны и в этом смысле неадекватны единству живой конкретной полноты самой реальности, т. е. что всякая реальность сама по себе есть всегда нечто большее и иное, чем все, что мы можем знать и высказать о ней.
Но этим здесь и ограничивается аналогия. Так как религиозное познание, как я пытался это уже многократно уяснить, есть совершенно особый, своеобразный вид познания, то и опыт и мысль в нем имеют особый характер, и для понимания подлинного существа религиозного догмата чрезвычайно важно не терять из виду этого своеобразия. Мы можем примерно так резюмировать то, что нам уже уяснилось. Религиозное знание не есть предметное знание, оно не состоит в том, что наш взор направляется на некий внешний, пассивно нам предстоящий объект и «раскрывает», «уясняет» его независимо от нас сущую природу, его «объективное содержание»; религиозное знание не есть итог бесстрастного теоретического созерцания. Религиозный опыт есть живой опыт – опыт, обретаемый во внутреннем переживании реальности, которая нам в нем открывается, в частности, это есть, как мы видели, опыт общения. Поэтому мысль, в которой мы выражаем итог этого опыта – религиозный догмат, – не исчерпывается теоретическим суждением об объективной природе той реальности, с которой мы имеем здесь дело, – реальности Бога. Реальность, которую мы действительно познаем в религиозном опыте и пытаемся выразить, интеллектуально фиксировать в «догматах», есть, строго говоря, реальность совсем иного порядка. Поскольку религиозная мысль остается при этом направленной на Бога, мы познаем «объективное существо» Бога именно в Его отношении к нам, Его действии на нас, Его значении для нашей жизни; или – выражая то же самое в порядке субъективном – мы пытаемся выразить наше впечатление от Бога. Коротко говоря, Бога мы воспринимаем всегда лишь в живом конкретном контексте нашей религиозной жизни, нашего бытия с Богом. Как мы уже видели, Бог живого религиозного опыта не есть предмет, мыслимый в его объективном бытии, не есть «он» или «оно», а есть живое «ты» – «Бог-со-мной», Бог в составе моей жизни или Бог как определяющий составной элемент жизни или бытия вообще. Задача религиозного познания, осуществляемого религиозным опытом и выражаемого в истинах догматического порядка, есть задача верного, осмысленного ориентирования в жизни в свете открывающейся нам ее последней глубины или первоосновы. При этом ввиду непостижимости собственного «существа» Бога – ввиду того, что это существо превосходит наше разумение (что непосредственно дано в самом опыте) и не может само быть выражено в понятиях, – это знание, поскольку в нем соучаствует знание о самом Боге, носит характер символический; оно есть не точное описание, а некое уподобление, некий образный намек на несказанное. Истинный смысл догматов – не теоретический, а практический: они дают нам как бы вехи для правильного пути в жизни. Мы не можем жить, не зная, в чем истинная цель нашей жизни, в чем лежит верный путь к цели. Как мореплаватель нуждается в видении звезд – светящихся точек небосвода, по которым он держит свой путь по темному океану, так мы должны иметь знание некой схематической карты звезд духовного неба, чтобы не заплутаться в жизни. Продолжая аналогию дальше, мы можем сказать: то, что нам нужно, есть не невозможное здесь знание астрономической реальности в ее абсолютном существе, а как бы конкретная космографическая картина, т. е. знание звезд в их отношении к нам, к земному миру. И разница между истиной и заблуждением есть здесь, в конечном счете, именно разница между истинным и ложным путем – между путем, ведущим в гавань, и путем, на котором мы обречены потерпеть кораблекрушение. Религиозная истина есть не «теория», не «доктрина», не бесстрастное, интеллектуальное, наукоподобное описание объективного существа Бога: она по самой своей природе есть «путь и жизнь».
Это понимание дела отнюдь не тождественно какому-либо субъективизму или релятивизму, отнюдь не должно истолковываться «прагматически», как это пыталась делать, например, теория догматов католического «модернизма». Догматы совсем не суть «фикции», ложные или объективно неоправданные идеи, единственный смысл которых состоял бы в том, что они символизируют указание нравственного порядка. Нет, как мы уже видели, мы обретаем в них подлинное и в этом смысле строго объективное знание самой реальности, совершенно так же, как космографическая картина вселенной содержит подлинную истину и только поэтому помогает нам ориентироваться в земной реальности. Существует подлинная, объективно сущая структура духовного бытия, есть строгие, ненарушимые и не зависящие от нашей воли закономерности этого бытия; от точного познания их и руководства ими зависит правильность и разумность нашей жизни, успешность наших стремлений, выражаясь в обычных религиозных терминах, наше «спасение», как и от пренебрежения ими и нарушения их – наша «гибель». Спасение и гибель есть здесь не «награда» или «кара» за истинные или ложные мысли о Боге – Бог во всяком случае не есть тиран, который предписывал бы своим подданным определенные мысли, награждал бы послушных и карал бы тех, кто дерзает иметь иное мнение. Все это есть бессмысленное и рабское представление о религиозной жизни и мысли. Напротив, истина имеет здесь, как и везде, свою имманентную ценность, которая должна свободно усматриваться; здесь, как и всюду, истина нам полезна, ибо дает возможность правильно ориентироваться в бытии и целесообразно жить, и заблуждение вредно, потому что заводит в безвыходный тупик, на край пропасти. Но только реальность, которую мы должны здесь точно воспринимать в ее объективном составе, есть не отрешенное от нас, «объективное», в себе сущее существо Бога, а именно реальность нашей жизни с Богом и в Боге или реальность той духовной вселенной, которая слагается из отношения между Богом и нами самими (или миром). Иначе то же самое выразимо так: при всей объективной ценности религиозной истины она не есть здесь теоретическое, предметное суждение, истинность которого состояла бы только в простом совпадении наших представлений или мыслей с составом предстоящего нам предмета; она состоит в истинной жизни, в истинной надлежащей настроенности души, в направленности нашей воли на истинную цель и ценность нашей жизни. Поскольку вообще правомерно представление о «суде» Божием, мы должны сказать: наши религиозные мысли, как таковые, совершенно безразличны Богу; Бог судит не наши мысли, а наши сердца. Умственное выражение религиозной истины – так сказать, истина сердца, которая должна нам открываться, – существенно не само по себе, не как таковое, а только как форма, в которой нам самим легче всего сохранить чистоту и адекватность необходимого здесь сердечного знания. Чтобы ограничиться здесь указанием на один уже упомянутый выше пример догмата: мысль, что Бог есть наш «Отец небесный», имеет смысл, конечно, не как теоретическое констатирование какого-либо объективного состава – так сказать, не как холодная паспортная регистрация того, кто именно наш отец, или в каком отношении родства мы находимся с Богом; единственный смысл и единственная ценность этого догмата состоит в том, что он содержит некое символическое указание на нашу интимную близость к Богу, на внутреннее сродство нашего духа с Богом, на связь любви, объединяющую нас с Богом, и на вытекающие отсюда последствия для нашего духовного и морального сознания.
Отсюда следует, что при всей необходимости для нас интеллектуальной фиксации живого содержания религиозного опыта, при всей существенности здесь различия между «истинными» и ложными догматами остается все же некая несоизмерность между невыразимой полнотой конкретного, живого опыта и его интеллектуальным выражением в религиозных понятиях и суждениях – примерно такая же, как между живым музыкальным впечатлением и всем, что может рассказать теория музыки или музыкальная критика об его смысле. «Догматы» в их рациональном выражении суть не первичная основа веры, а скорее – отчасти ее осадок, отчасти вехи, схематически отмечающие структуру ее содержания. Догматы сами почерпаются из живого отношения к Богу; в молитвенной обращенности к Богу, в конкретном опыте общения с Богом дана живая полнота восприятия религиозной реальности, неисчерпаемая никакими отвлеченными догматическими формулами. Вообще говоря, литургический момент в религии гораздо более существен, чем ее догматика: в составе веры молитва бесконечно важнее всех суждений и рассуждений о Боге. Но кроме того, можно сказать, что живое и наиболее адекватное самого догматического содержания веры дано не в фиксированных в форме суждений «догматов», а в представлениях и в мыслях, сопутствующих молитвенному обращению к Богу. Эти представления и мысли тоже только «символичны», имеют значение не точных понятий и суждений, а образов и уподоблений; но они обладают большей полнотой, более насыщены конкретным содержанием, чем отвлеченные догматические формулы. Молитвенное, литургическое выражение веры имеет, таким образом, и в отношении ее подлинного догматического содержания, ее осмысления значение более первичное и определяющее, чем догматические богословские учения.