Читать книгу "Рай без памяти"
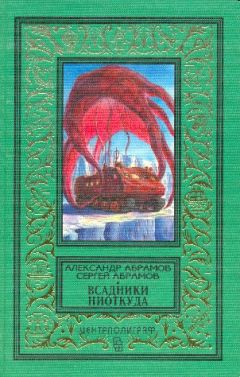
Автор книги: Сергей Абрамов
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
8. СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ
Я очень люблю у Грина романтическую сказку о воплощенной мечте. Кто-то подшутил над ее героем – рассказал красивую выдумку о «сердце пустыни», о коттедже или даже поселке, построенном счастливцами в девственной лесной глухомани, руссоистскую утопию в сочетании с требованиями современного городского комфорта. Никакого «сердца пустыни» герой, конечно, не нашел, но он сам его создал – я даже гриновскую характеристику помню, – прелестное человеческое гнездо в огромном лесу, что должно таить копи царя Соломона, сказки Шахеразады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия.
Я сделал это открытие, когда мы уже подъезжали к коттеджу Стила. Кстати, фамилия владельца дома и главы семьи, в которой выросли Люк и Джемс, отличалась от фамилии гриновского героя только отсутствием мягкого знака в конце – добротная английская или американская фамилия, если только уместно упоминать о земных нациях в этом диковинном мире.
А до того мы еще плыли по ночной реке час или больше, не знаю, потому что заснул наконец от усталости рядом с Мартином. Разбудил меня Джемс, легонько толкнув в плечо: «Проснись. Подъезжаем. Разбуди других – только тихо». Я толкнул Мартина – он очнулся мгновенно с чуткостью индейца из романов Эмара и Купера, сразу осознав себя в окружающем мире. Толька тоже проснулся, а Зернова и не нужно было будить: он сидел у кормового борта, обхватив руками колени и стараясь побольше разглядеть и запомнить. Рассвет уже алел, чернота по берегам сменилась различимой синевой леса, бриллиантовая россыпь звезд тускнела и гасла. Сизый туман клубился над рекой, подымаясь по берегам к полосе плотно разросшегося кустарника. Пахло жасмином и шиповником, хотя различить в предрассветном тумане цветы было трудно, – я заметил только переплетающиеся ветки кустарника, словно росшего из воды там, где берег образовывал выемку. Туда-то и направил лодку Джемс. Она врезалась в кусты, раздвинула их и прошла насквозь с хрустом и шелестом веток о борт. Мы оказались в ерике – узком рукавчике, соединявшем соседние плавни с впадавшей где-то неподалеку другой рекой или, скорее, ее притоком.
Ерик протекал в зеленой сплошной галерее с крышей из переплетавшихся веток, закрывавшей небо. Грести было уже нельзя – Люк и Джемс отталкивались от кустистых берегов веслами. Потом ерик стал шире, или то был уже другой ерик – наша водяная дорога то и дело петляла, как это бывает обычно в дунайских плавнях. И ерик был типично дунайский, с крутыми берегами и серой илистой каемкой у воды, только по берегам росли не верба с ольхой, а высоченные, в два-три обхвата клены и вязы. Уже виденная много раз розовая изгородь увенчивала верхнюю каемку берега, с которого лестницей к воде спускались вдавленные в траву валуны. Именно лестницей – она вела к высокому забору из плотно сбитых и заостренных вверху нетесаных бревен, точь-в-точь такому же, какой возвел вокруг своего дома Робинзон Крузо. Здешние робинзоны повторили его и в бойницах, выпиленных в нескольких местах наверху между бревен так, что, скажем, в феодальные годы трудно было придумать лучшую крепостную стену для защиты владения от рыцарей легкой наживы. Имелись ли здесь такие, не знаю, но имелось многое, что стоило защищать.
Я это сразу понял, как только Джемс отомкнул калитку и мы вошли в сад, отделенный от хозяйственного двора деревянной решеткой. Поэтому нас не встретил ни лай собак, ни крики домашней птицы. Тишина леса по-прежнему окружала нас: в доме, видимо, спали. Он был очень красив, этот дом, выстроенный без всякого архитектурного плана, но с несомненным художественным чутьем, присущим строителям. Гигантские бревна стен почти скрывала коралловая жимолость, разной формы окна и двери не раздражали, а притягивали глаз. Крыша из выгоревшей до черноты тростниковой соломы выдвигалась по карнизу здания массивным навесом полуметровой толщины, предохраняя от прямых лучей солнца обегавшую дом открытую деревянную галерею. Такие крыши я видел в румынских гостиницах в придунайских поселках – они всегда придавали зданиям какую-то особую деревенскую элегантность ухоженного и опрятного горожанина. Такое же впечатление производил и этот двухэтажный коттедж, окаймленный естественным, буйно разросшимся цветником. Да, именно так должно было выглядеть гриновское «сердце пустыни», воссозданное с редким искусством в лесу, дикость которого не убивала, а подчеркивала красоту человеческого жилища.
Мы не прошли и половины дорожки к дому, как навстречу вышел человек в такой же ковбойке и шортах, как Джемс и Люк, в таких же мокасинах-плетенках и такой же высокий и загорелый. На его лице не было ни одной морщинки, и только ранняя седина умаляла его моложавость. Конечно же, это был отец наших спутников, но его скорее можно было принять за их старшего брата.
– Типичный фермер из Аризоны или Канзаса, – шепнул мне Мартин, – только ранчо у него побогаче.
– Дэвид Стил, – с достоинством представился он, нисколько не удивившись нашему появлению в обществе его сыновей.
Мы назвали себя. Мартину он пожал руку, как доброму соседу, и только чуть-чуть поднял бровь, когда услышал наши русские имена. Воспитанный человек, сказали бы мы о нем у себя дома. Именно дома – он был земной, совершенно земной человек, гостеприимный хозяин дачи, к которому мы заехали в выходной день.
– Вы, наверное, очень устали, – проговорил он сочувственно, – еще бы: всю ночь на реке. Наверное, не выспались? Впрочем, завтракаем мы в пять утра, так что у вас еще три часа, чтобы отдохнуть и вздремнуть, если захочется. Джемс уже пошел приготовить вам комнаты и кое-что перед сном – молоко или бренди.
– Интересный забор, – вдруг сказал Зернов, оглянувшись.
– Мы два года его строили – столб к столбу, – оживился хозяин: он, видимо, оценил интерес Зернова. – А видите галерейку сверху? По ней можно быстро перебегать от бойницы к бойнице.
– Против кого? – спросил Зернов.
– Лес – это не проезжая улица, – ответил Стил, – вас не охраняют здесь постовые, и соседи не прибегут на ваш крик о помощи. Порой стадо оленей может потоптать все ваши посевы, а десяток лисиц передушить всех индеек и кур. Однажды мы оборонялись против целой стаи волков, и они не ушли до тех пор, пока мы не перебили почти половины и живые не пожрали убитых. Мы потом два дня собирали стрелы и очищали кусты на берегу от костей и мяса.
– А люди? – снова спросил Зернов. – Вы не опасаетесь их любопытства?
У его вопросов была какая-то цель, только я не мог ее обнаружить. Но Стила вопрос не смутил.
– Я понимаю, о ком вы думаете, – сказал он, – но река патрулируется здесь редко, а по лесу добраться сюда трудно и небезопасно. Излишнее любопытство может стоить жизни.
Чем был вызван интерес Зернова к забору? Чье любопытство могло угрожать хозяину дома? Ведь Зернов не знал и не мог знать того, что знал я: о двух автоматах, спрятанных в ящиках с консервами, о предупреждении маскарадного полицейского беречь патроны. Неужели Зернов самостоятельно пришел к тем же выводам, какие подсказала мне ночная экскурсия с Джемсом?
Когда мы остались одни в отведенной для нас спартански обставленной комнате с волчьими шкурами на полу и на койках и с чисто выструганным дубовым столом, на котором уже стояли обещанные бренди и молоко с поджаренными тартинками, я высказал свои соображения Зернову.
Он, как всегда, ответил не сразу. Повертел в руках бутылку с пестрой этикеткой и сказал совсем не то, что от него ждали:
– Странная этикетка. «Бломкинс и сын». Пасадена. Калифорния. Неужели в этом мире есть своя Калифорния и своя Пасадена?
– И нет Америки.
– Мы пока не знаем, что есть. Нам известно только, что есть Город-государство, а в нем французский сектор, русский арондисман и Гарлем. Крохи информации.
– Могу добавить. Какой сейчас век, по-вашему? Здесь – первый. А год – десятый. И время отсчитывается не с христианской эры, а с некоего загадочного Начала с прописной буквы. Утверждать, что Начало не есть Начало, а что-то ему предшествовало, и помнить, что предшествовало, никому не рекомендуется. Применяются санкции. И еще: в здешних сутках не двадцать четыре, а всего восемнадцать часов.
Меня выслушали с почтительным удивлением. Только Зернов заметил:
– То, что сутки здесь короче земных, мне уже с утра ясно. Год десятый – это любопытно. Но ни то, ни другое не объясняет происхождения калифорнийской этикетки. Она, между прочим, подлинная. И Мартин ее узнал.
– Узнал, – ухмыльнулся Мартин, – и бренди тоже.
– Молоко у них свое, – задумчиво рассуждал Зернов, – вино они, допустим, привозят из Города. Значит, его где-то изготовляют, хранят, выдерживают. Но почему именно Бломкинс и сын, торгующие вином в Калифорнии? Обратите внимание: не однофамильцы владельцев фирмы, а именно они самые. Их вино, их бутылки, их этикетки, отпечатанные в фирменной типографии в Пасадене. Может быть, им посчастливилось открыть в другой галактике небольшой филиал?
Никто даже не улыбнулся.
– Все необъяснимо, – вздохнул Толька.
– Почему же все? – не согласился Зернов. – Многое проясняется, если допустить вероятность гипотезы о Земле-бис. Начнем с элементарного: что нужно «облакам»? Модель земной жизни. Как они поняли эту жизнь? Как совокупность по-разному организованных множеств. Но модель – это же селекция, отбор наиболее, с их точки зрения, типичного. Так зачем им повторяемость форм нашего общежития? Пейзажа? Флоры? Фауны? Не лучше ли представить Землю одним Городом-государством в окружении других форм земной эволюции? Может быть, здесь есть и свои полюса, и свои тропики, но для организованной земной жизни достаточно вот такого уголка с растительным изобилием и экологическими излишествами.
Назидательный лекторский тон Зернова меня подчас начинал раздражать. Все знает этот человек, все постиг и все понял. А ведь наверняка немногим более нас, грешных, только обобщает пошире. И я вскинулся, лишь бы не молчать:
– А десятый год первого века? А упраздненная география? А отшибленная память? А «смит-и-вессон» рядом с индейским луком? Это тоже селекция?
– Не дури, Юра. Это же неуправляемая жизнь. Они воспроизвели структуру вещества, тайны которой мы так и не знаем, и предоставили все это естественной эволюции. Блокированная память? Понятно. Начиная жизнь здесь, эти люди не могли сохранить памяти своих аналогов со старушки Земли. То, что помнили и знали те, не должны были помнить и знать эти. Отсюда и Начало, первый век и упраздненная география.
– Кому же она мешала?
– Людям. Память не могла быть полностью заблокирована. Люди не могли начинать жизнь с опытом новорожденных младенцев. Жизненный опыт человека складывается из свойств характера, эмоциональных состояний, приобретенных знаний и профессиональной деятельности – словом, из количества воспринятой и переработанной информации. Часть ее, связанная с земным прошлым человечества, была не нужна – она помешала бы его жизни в новых условиях. Зачем знать ему о крестовых походах и войнах, которых не было на этой планете, о небесных светилах, оставшихся в другой галактике, и о странах и городах, которых здесь нет и не будет. Память об этом и была блокирована. Моделированному человечеству оставили только то, что могло способствовать его эволюции. Скажем, профессиональный опыт. Шахтер должен уметь добывать уголь, продавец торговать, а строитель строить. Но что делать учителю истории и географии? Он функционально связан с прошлым, ненужным здешнему школьнику. Вот он пришел в школу, как было запрограммировано его создателями, и начал рассказывать детям о Европе или Америке, о Гитлере и Второй мировой войне. Дети сообщат об этом родителям, прочно забывшим все то, о чем помнит учитель. Теперь уже не «облака», а сами люди уберут такого учителя, а дети получат новые основы знания. Слыхали Люка? Проще считать, что река замкнутым кольцом обтекает планету, чем где-то кончается и куда-то впадает. Этот Город-государство еще слишком молод, чтобы иметь своих Колумбов и Магелланов, но ему нужны инженеры и математики. Без строительной механики не построишь домны, а без геологии не найдешь угля и железной руды. А вы говорите – необъяснимо!
Речь шла на языке Мартина. На таких военных советах он обычно молчал, редко вмешиваясь и еще реже перебивая, – сказывалась военная косточка, – а сейчас, когда объяснения Зернова, казалось, предвосхищали все наши возражения, взбунтовался именно Мартин.
– Все объяснимо, когда Борис объясняет. Мы как в покер играем – у него всегда флеш ройяль,[2]2
Флеш ройяль, каре, стрит – комбинации в игре в покер.
[Закрыть] а мы карты бросаем. Верно? – Он оглядел нас, несколько удивленных таким вступлением, и засмеялся. – А сейчас у него бедновато, по-моему. Есть шанс сыграть самим: быть может, у нас каре. – Он подмигнул мне и Тольке. – Ну как, Борис, сто и еще сто? Во-первых, ни в какую чужую планету не верю. Мы в космосе еще на полпути к Луне, а тут другая галактика. С какой же скоростью мы перенеслись? Без аппаратов. В безвоздушном пространстве. Со скоростью света? Чушь. Алиса в Стране чудес. Так я эти чудеса уже видел, знаю, как они делаются. Моделируется опять чья-нибудь жизнь, может быть, страницы научной фантастики, а нас суют в них, как орехи в мороженое. Ну и что? Растает мороженое – таяло уже сто раз, помню, – и очутимся мы опять в коттедже у Юры допивать скотч с пивом. Ну, как каре?
– «Каре»! – передразнил я. – Стрит паршивый, не больше. Мы здесь уже второй день сидим, а возвращением что-то не пахнет. Не тает мороженое. Твоя очередь, Толька.
Дьячук задумчиво загнул два пальца.
– Время чужое, раз. У нас вечер, здесь – день. Небо чужое, два. Даже Млечного Пути нет. Как мы здесь очутились, не знаю. Другая ли это галактика, тоже не знаю. Но это другая планета – не Земля. И другая реальность – не земная. Но реальность. И она не растает.
– А я не верю! Почему реальность? Вдруг только видимость? – не сдавался Мартин. – В Сен-Дизье время тоже было чужое, и небо чужое, и люди моложе на четверть века. Откуда все это возникло? Из красного тумана. И где исчезло? В красном тумане.
– Не блефуй, – сказал я. – Красного тумана здесь нет и не было. А игры у Тольки тоже нет. Пас, Толенька?
– Пас.
– А я сыграю. Все объяснимо, когда Борис объясняет, – повторил я слова Мартина. – Тогда откроем карты, Боря. Посмотрим, какой у тебя флеш ройяль. Я уже не говорю о коньячной этикетке, происхождение которой и для тебя загадочно. Объясни-ка мне еще пяток загадок. Или десяток. Например, от кого получают «дикие» огнестрельное оружие и для чего они его получают?
– Пас, – засмеялся Зернов.
– Почему пригодятся Запомнившие и кому они пригодятся?
– Пас, – повторил Зернов.
– Почему «быки», едва ли страдающие отсутствием аппетита, не будут есть птицу, жаренную на вертеле?
– Пас.
– Почему при современном техническом уровне поезда в Майн-Сити ведут паровозы, а не тепловозы?
– Тоже пас.
– Значит, не флеш ройяль, Борис Аркадьевич?
– Нет, конечно. Многое здесь я никак объяснить не могу. Лично я думаю, что с нами хотят проконсультировать опыт, который, возможно, и не удался. Ведь даже суперцивилизация не сможет создать достаточно совершенную модель жизни, в которой ей самой не все очень ясно. Как в старой сказке: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А что ты скажешь, мой уважаемый оппонент?
– Пас, – сказал я.
Не знаю, как всем, но мне стало чуточку страшно.
9. ПЕРВЫЕ КАДРЫ НАЧАЛА
Завтрак был сервирован по-европейски: поджаренные ломтики хлеба, холодное мясо, яйца всмятку, несколько сортов сыра – я узнал честер и камамбер – и кофе со сливками. Открытую веранду с трех сторон затемняли лапчатые листья клена, а четвертая была открыта солнцу, но не раннему, а уже достаточно сильному и высокому, какое у нас бывает не в шесть, а в десять утра. Пахло летним цветущим лугом – именно полевыми, а не садовыми цветами, и, ей-богу, трудно было даже представить себе, что ты не на Земле, не в гостях на даче где-нибудь у коллег Осовца под Звенигородом.
За столом прислуживала женщина лет сорока, скорее англичанка, чем француженка, по внешнему виду и, казалось, отлитая по тому же стереотипу, как и все Стилы, – такая же высокая и крепкая, только с более строгим, даже суровым выражением лица. Она не улыбнулась, когда хозяин представил ее ласково, но лаконично: «Элизабет, сестра», – и тотчас же ушла, как только была поставлена на стол последняя чашка. На мой вопрос, почему она не осталась с нами, Стил вежливо пояснил:
– Лиззи – существо молчаливое и застенчивое. После смерти жены она воспитала мне мальчиков, но так и не привыкла к мужскому обществу. А разговор у нас будет чисто мужской, серьезный и трудный. Из того, что рассказали мне дети, я, честно говоря, мало что понял. Пожалуй, самое важное: вы нуждаетесь в помощи, а мы никогда никому в ней не отказываем.
– Спасибо, – сказал Зернов, – но в основе всякой дружеской помощи – доверие, доверие и еще раз доверие. Мы доверяем вам наши жизни и наши судьбы. Мы одиноки, безоружны и беспомощны в этом мире, о котором ничего не знаем, кроме того, что видели и пережили в лесу. Мы говорим на одном языке, но мы люди разных миров, и чтобы понять друг друга, хотя бы даже объяснить вам, почему произошла эта встреча, мы хотели бы услышать ваш рассказ о вашем мире – о Городе и его людях, о вас и о вашей жизни. Только тогда вам станут понятны и наш ответный рассказ, и мы сами, и наше стремление не только получить помощь, но и предложить вам свою, если она понадобится.
У Зернова была двоякая манера вести разговор: или он насмешничал, иронизируя порой зло и тонко, или речь его вдруг приобретала оттенок лекторского пафоса, словно, говоря, он опирался на кафедру. В трудных случаях нашей жизни, когда разум отказывался объяснить случившееся, эта слабость Зернова становилась его силой – она укрепляла наши смятенные души. Но сейчас, как мне показалось, он скорее насторожил Стила, чем расположил его к нам. Джемс и Люк жевали, не подымая глаз от тарелок, а Стил, наоборот, долго и пристально разглядывал всех нас по очереди, но молчал. Тогда я, вспомнив свой ночной разговор с маскарадным полицейским, решил вмешаться.
– Большинство из вас не помнит того, что предшествовало Началу, – рубанул я напрямик нечто вполне понятное Стилу, – а если кто что и помнит, то, даже собрав все это запомнившееся, нельзя представить себе мира, каким он был. Предположите парадокс: мы помним все, что было, абсолютно все, и ничего не знаем о том, что есть, абсолютно ничего. Вот вы и расскажете нам о том, что произошло с вами девять лет назад, как вы жили эти годы, чего добились и что утратили. Вам понятно?
Мне было понятно. Стилу тоже. Теперь он уже не раздумывал.
– Значит, вы не пережили космической катастрофы? – спросил он.
Как ответить?
– Нет, – сказал Зернов.
– Мы даже не знаем о ней, – прибавил я.
– Мы тоже не знаем, и никто не знает, потому что в мире, казалось, ничего не случилось. Не было ни кометы, ни землетрясения, ни звездопада. Но что-то произошло – невидимое, неощутимое, но изменившее если не мир, то нас.
– Когда? – спросил Зернов.
– Больше девяти лет назад. Почти десять. Вы уже, вероятно, слышали. Однажды утром, обыкновенным летним утром в будни, когда надо было идти на работу. В открытое окно доносился утренний гомон улицы, автомобильные гудки, громыхание моторов. Все как обычно, только часы стояли – все часы в доме, как я узнал после. Я хотел узнать время по телефону, но телефон не работал. И это меня не встревожило – бывает. Встал, оделся; Лиззи, как всегда, приготовила завтрак, а я проверил содержимое портфеля, в котором, помнится, были какие-то рукописи: я заведовал рубрикой «Новости дня» в популярном еженедельнике «Экспресс» и часто брал на дом какие-нибудь заметки и письма. Но портфель был пуст, и это уже встревожило. Самое странное – я не помнил ни заметок, ни писем, какие, я был уверен, положил в портфель, но еще более странным оказалось то, что я не нашел их и в редакции. Мало того, в моем редакционном кабинете – ни в сейфе, ни в столе – не оказалось вообще никаких бумаг. В довершение всего я не помнил ни одного задания, какие обычно давал по утрам репортерам. Их было трое: Мотт, Рейни и Дарк, славные парни и старые друзья. Все они сидели в соседней комнате возле моей секретарши Шанель странно молчаливые, словно чем-то пришибленные: я не услышал ни смеха, ни шуток, ни даже «доброго утра, Дэви».
«Что случилось? – спросил я. – Умер кто-нибудь или кассир с деньгами сбежал?»
«Хуже, – сказал Мотт, – мы ничего не помним. Какое сегодня число, старик?»
Я открыл и закрыл рот: я тоже не помнил.
«А месяц?»
Я не помнил и месяца и – о ужас! – года.
«Сошел с ума», – сказал я, чтобы что-нибудь сказать.
«А ты не шути, шеф. Что ты помнишь из последнего номера – он три дня как вышел? Какую сенсацию? Какое фото? Хотя бы обложку помнишь?»
Я, который мог перечислить все шлягеры любого номера, ничего не помнил. Ни прошлого, ни позапрошлого, ни прошлогоднего – ровным счетом ничего. Даже обложек.
«Дайте номер, Шанель», – потребовал я.
Мотт хохотнул, а Шанель испуганно и жалобно – у нее даже слезы блеснули – ответила, как на суде:
«В редакции нет ни одного экземпляра, шеф. Ни за этот, ни за прошлые месяцы».
«А в справочной библиотеке?»
«В справочной библиотеке пустые полки, шеф. Все исчезло за одну ночь. Я уже звонила в полицию, но телефоны выключены».
«Позвоните из автомата».
«Я не нашла ни одного поблизости».
«Какие глупости. А в бистро напротив?»
Длинные ресницы ее подпрыгнули и опустились.
«Какое бистро, шеф? Напротив табачная лавочка, и телефона там нет».
«Я тоже подумал о бистро, старик, – сказал Мотт, – но его действительно нет. Проверь».
В первый раз я почувствовал уже не тревогу, а страх. Что-то случилось со всеми нами, с редакцией, с городом, но я еще не знал всего. Предложив ребятам подождать, я пошел к главному. Он что-то писал или чертил пером и поморщился при моем появлении.
«Я занят, Стил. Никак не могу обдумать тему передовой. Может быть, о загрязнении реки?»
«Какой реки?» – спросил я.
«Нашей, конечно. Вы в уме?»
«А название ее помните?»
«Название? – ошалело переспросил он. – А вы помните?»
И я не помнил.
«А какое сегодня число? – повторил я вопрос Мотта. – А месяц, а год? Может, передовую из прошлого номера помните? Или обложку? А как зовут мэра? И кто возглавляет правительство?»
Он посмотрел на меня почти с ужасом.
«Я ничего не помню, Стил. Абсолютно ничего».
«Я тоже. И никто в редакции».
Он потянулся к телефону. Как и следовало ожидать, он не работал. И я сказал:
«Не трудитесь. Ни один не работает».
Главный не любил долго думать. Он всегда принимал быстрые решения и очень этим гордился.
«Разошлите своих репортеров по городу. Пусть спрашивают кого попало подряд обо всем, что придет в голову. Под предлогом, что журнал, допустим, проводит анкету о сообразительности и быстрой реакции. И пусть не задерживаются. Утрата памяти тоже сенсация. А пока пригласите всех дежурных редакторов ко мне».
Через три минуты мы все собрались у него в кабинете. Это и было Начало, происходившее повсюду в городе, осознание того, что произошло со всеми нами, начало новой жизни, потому что старая была даже не забыта, а начисто изъята из памяти. Собрались забывшие о том, что было вчера, позавчера, в прошлом и позапрошлом году, десять, двадцать, сто лет назад. Помню, как сейчас, это собрание со всеми его восклицаниями и репликами – оно запечатлелось в памяти с той же полнотой, с какой забылось все, что ему предшествовало.
«Кто помнит, какое сегодня число, месяц и год?» – спросил главный.
Молчание.
«Есть ли где-нибудь календарь?»
Календарей в редакции не оказалось. Я шепнул шефу, что все содержимое справочной библиотеки тоже исчезло.
«Который час?»
Часы у всех показывали разное время, в зависимости от того, когда были заведены утром. До этого они стояли.
«Что вы помните, Дженкинс?»
Дженкинс, редактор иностранной информации, считался Спинозой нашей редакции. Во всех затруднительных случаях, когда политический, религиозный или философский вопрос не находил ответа, обращались к Дженкинсу.
«Я помню, сэр, как меня зовут, – ответил он без малейшей улыбки, – помню, что у меня жена и двое детей, знаю их имена и склонности. Помню сегодняшний утренний завтрак, но не помню вчерашнего. Помню дорогу в редакцию, но не совсем уверен, что вчера шел именно этой дорогой. Помню, наконец, что заведую иностранным отделом и что мне надо писать очередной обзор на седьмую полосу».
«О чем?»
«Не знаю. Название отдела предполагает иные страны, но я не помню ни одной. Я даже не помню, как называется наша. Я знаю, что пишу и говорю по-английски, но сделать отсюда вывод о наименовании нашего государства не могу, сэр. Я не помню также ни одного события ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного географического названия. Мне знаком термин географический – он связан с моей профессией, но, что такое география, объяснить не могу. Боюсь, что произошла какая-то космическая катастрофа, сэр. Какое-то излучение смыло память о прошлом. У каждого ли, не знаю. Но в нашей редакции это именно так».
«То же излучение уничтожило и календари, и наши записные книжки?» – насмешливо спросил я.
«И телефонные?» – прибавил кто-то.
«И справочную библиотеку?»
«И архив?»
Дженкинс молчал. Ответ мы получили несколько позже, когда явились мои репортеры. Рассказ их был страшен.
Ничего как будто не изменилось в городе. Были открыты все магазины, парикмахерские, ателье мод, аптеки и бары. Струились встречные потоки автомобилей. Постовые полицейские на перекрестках рассасывали пробки. Спешили пешеходы, торговали лоточники, садились и взлетали голуби. Но…
Репортеры не обнаружили ни одного газетного киоска.
Ни одной библиотеки.
Ни одного адресного бюро.
Ни одной почтово-телеграфной конторы.
И ни одной телефонной будки.
Все часы в городе стояли или показывали разное время. Нельзя было достать ни календарей, ни телефонных справочников и никаких карт, кроме игральных. В пустых кинозалах не оказалось фильмов, а в театрах – пьес, причем все актеры прочно забыли все сыгранные ими роли. Не вышла ни одна газета. Никто из прохожих не помнил, что было вчера, и не знал, что будет завтра. Никто не помнил ни названия города, ни имени главы государства, ни года, ни числа, ни национальности. Некоторые даже не говорили по-английски, а только по-французски, так что объясняться приходилось знавшему оба языка Рейни. Любопытно, что языка никто не забыл, а говорившие по-французски говорили так с детства, хотя самого детства не помнили. Языковую разноголосицу никто объяснить не мог, хотя некоторым казалось, что вчера ее не было. Но точно никто не помнил даже названия улицы, на которой жил, и узнавал его лишь по табличке на углу дома. Некоторые из опрошенных не могли назвать и улицу, где работали: «Как доехать или дойти, знаю, а как она называется, не помню». Какой-то старик растерянно топтался на перекрестке и плакал: «Я киоскер, а киоска моего больше нет». На вопрос, где можно позвонить по телефону, некоторые спрашивали: «А что это такое – телефон?» Шоферы такси толпились на стоянках и не искали пассажиров: они не помнили городских маршрутов. Не помнили их и водители трамваев. Они везли пассажиров «по рельсам, куда колеса бегут». Дарк, доставлявший информацию о железнодорожном транспорте, но позабывший все названия вокзалов, поинтересовался у полицейского, где же найти ближайший. В ответ услышал растерянное: «Извините, не помню».
Таково было Начало, рождество нового мира, каким его увидел и пережил Стил.









































