Текст книги "Царские забавы"
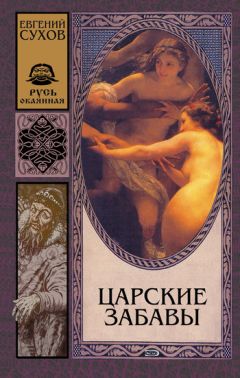
Автор книги: Сергей Алтынов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Царица Мария не признавала ни убрусов, ни богатых шубок, ходила по дворцу в черкесском костюме, который был к ее фигуре настолько ладен, что броско и выгодно выставлял прелестные места. И бояре, никогда до того не видевшие подобного великолепия, смотрели на царицу как на голую.
Мария Темрюковна в черкесском костюме выглядела настолько созревшей, что, казалось, тронь ее пальцем, и она брызнет алым соком. Налитое тело царицы своим великолепием наводило молодцов на грешные мысли, и каждый из караульщиков, провожая взглядом удаляющуюся фигуру, видел Марию совсем не государыней, а обыкновенной бабой для утехи. Царица казалась до того соблазнительной, что вызывала плотские видения даже у тех бояр, которые уже давно были лишены сладости греха. Можно было только предполагать, с какой отчаянной страстью они набрасывались на своих старух после каждой нечаянной встречи с государыней.
Даже престарелый князь Мещерский не сумел удержаться от восторга, когда царица случайно коснулась его руки, проходя мимо.
Мария Темрюковна была первая царица, которую бояре разглядывали так же откровенно, как престарелый свекор созерцает в семейной бане спелую невестку. Своей ладной фигурой и несхожестью с остальными бабами она собирала все взгляды точно так же, как статная лошадь, гарцующая на ярмарке, приковывает внимание всякого гуляки. Она походила на дорогую вещь и ожидала купца с огромной мошной, который отважился бы купить ее целиком.
Бояре без конца шептались о том, что царица обращала внимание то на одного, то на другого отрока. И нравились будто бы ей точно такие же чернявые и бедовые, как она сама. Греховно-сладкой молвой полнились все окрестности Москвы, но люди московские, привыкшие к целомудренности цариц, слухам не доверяли, а только все больше ругали бояр-хулителей.
Иван Васильевич наведывался в столицу ненадолго: оглядит строгим взором неровный строй бояр, которые склонялись перед ним низко, а потом буркнет в сердцах невесело:
– Чего, крамольники, шеи повытягивали? Видно, опять худое супротив государя надумали!
– Государь-батюшка, да как же можно? – отвечал обычно за всех Морозов. – Погибнем мы без твоего присмотра.
Остановится на секунду Иван Васильевич, а потом обронит едкое словцо:
– А может, оно и к лучшему.
И пойдет дальше государь, не обернувшись на перепуганных бояр.
– Ты бы, жена, не позорила меня, как-никак государыня! – иной раз укорял Марию царь. – Простоволосая ходишь, а у нас это позором считается. Платье на тебе обтянуто, все титьки видать! – дернул Иван жену за одежду. – Бояр в смущение вводишь, а отроков о грехе заставляешь думать. Пялятся они на тебя, как похотливые петушки.
Побранившись малость с женой и взяв ее почти силком на многоаршинной постели, Иван Васильевич поздним вечером уезжал обратно в Александровскую слободу. А Мария Темрюковна продолжала жить в Москве точно так же, как если бы этот дворец принадлежал ее батюшке.
От молодых стольников, дежуривших у нее в дверях, не ускользнуло то, что дважды у Марии в покоях побывал красивый отрок осемнадцати лет, прозванный Пирожком за гладкую, почти девичью кожу да за румянец во все лицо. Оба раза царица продержала молодца до самого утра, и за несколько часов он изрядно похудел.
Даже в своих покоях царица поменяла девок на отроков, которые во время купанья меняли ей блюда, а в ранний час подавали одежду. И единственное, чего царица не требовала от отроков, так это появляться в исподнем.
Скоро царица совсем отказалась от сопровождения девиц, и даже на воскресное богомолье она выезжала в сопровождении трех дюжин юношей, которые звонкими голосами предупреждали всю Москву:
– Дорогу, люди московские! Дорогу давай! Государыня царица едет!
Стар и мал спешили наклонить голову, чтобы не разглядеть бесстыдства на лице молодой черкешенки.
Оставшись хозяйкой во дворце, Мария Темрюковна не спешила проводить время в рукоделии, чем славились русские царицы; не пряла пряжу и не вышивала золотыми и серебряными нитями рушники. Она со смехом вспоминала мамок и ближних боярынь, которые еще вчера досаждали ей нудными советами и учили держать в руках спицы, теперь же старались подлаживаться под государыню и стягивали себя поясами так, что через ворох платья бесстыдно выпирали рыхлые животы. Боярыни всюду старались поспевать за Марией Темрюковной, которая, позабыв про степенность, носилась по лестницам дворца так, как будто это были горные тропы. Особую радость доставляла царице неловкость служанок, когда одна из баб, не выдержав гонки, неловко срывалась со ступеней и ушибалась при падении.
Девицы и боярышни старались подражать матушке во всем: каждая из них сумела заполучить в свои покои статного молодца из царской челяди, который, подобно татю, каждую ночь крался в девичьи покои. И до утра женская половина дворца стонала и охала. А утром, собравшись за трапезой, девицы, ободренные вниманием государыни, рассказывали во всеуслышание о сладостных мгновениях прошедшей ночи. Девки, испорченные откровенностью Марии Темрюковны, без стеснения обсуждали достоинства каждого из отроков и по-дружески рекомендовали друг дружке добиться благосклонности того или иного богатыря. Более всех преуспела любимица государя Фекла, которая была похотлива, как крольчиха, и не проходило дня, чтобы она не увлекла в свои покои очередного молодца. Счет познанным мужам девица вела по зарубкам, которые оставляла на прялках, и не без гордости сообщала подругам о том, что их уже многие десятки, помеченных прялок набрался целых короб. Фекла была искушена в плотских утехах не меньше, чем жрица любви античного храма. А однажды по секрету поведала мастерицам о том, что по велению государыни провела в ее покоях целую ночь, в то время, когда ее навестил красавец Вяземский. Боярышни завидовали Фекле и желали хотя бы одним глазком увидеть государыню, стонущую под мужским телом.
Государыня не ведала удержу ни в чем, и в этом самом она не отставала он Ивана Васильевича, который был такой же весельчак и сладострастный разбойник.
По Москве гулял слух о том, что царица настолько бесстыдная, что расхаживает по дворцу нагая и позволяет каждому караульщику щипать себя за смуглые ляжки.
Мария Темрюковна ведала о том, что говорят о ней в Москве, и, казалось, всем своим поведением желала подтвердить наговоры, а потому совсем не признавала бесформенного платья и выставляла напоказ распущенные волосья, и, глядя на простоволосую царицу, москвичи крестились неистово, как будто сталкивались в ночи с ведьмой.
Последним завоеванием Марии Темрюковны был конюший Иван Федоров-Челяднин – выходец из наиболее почитаемого московского боярского рода, предки которого были избалованы близким сидением к государеву трону на заседаниях Думы. Боярин всегда был рядом с царем, и когда Иван Васильевич определил Федорова в земщину, тот не мог скрыть обиду. Иван Петрович по-прежнему был боярином Конюшенного приказа, как и прежде, до самой земли ему кланялись московиты, узнавая его стать. Но все-таки он был не так могущественен, как в начале Иванова царствования: оттеснили знатнейшего вельможу безродные людишки, отгородили царя от Думы и вместо него надумали государством править.
Если кто и мог возразить Ивану, так это жена-черкешенка, которая собрала вокруг себя едва ли не всех опальных бояр, и Федоров-Челяднин был среди них заглавным.
Мария Темрюковна и раньше присматривалась к Федорову: боярин был необычайно честолюбив, и эта главная черта его характера не могла укрыться ни за спокойным взглядом, ни за степенностью рассуждения. Делами конюший считал себя куда выше многих мужей, а потому новоявленных любимцев царя Ивана не желал называть иначе, чем Федька или Гришка.
Сглатывая злобу, государевы любимцы терпеливо сносили хулу.
Иван Федоров был именно тот человек, на чье плечо могла опереться молодая царица. Как ни знатен был князь Вяземский, как ни пригож ликом, но только отсутствовала в нем та крепость, какой отличался конюший. Федоров-Челяднин даже по виду напоминал тяглового жеребца, которому под силу вытянуть стопудовый камень, а Московское царствие для него и вовсе окажется пустяком.
В одну из майских ночей Мария Темрюковна так крепко приголубила конюшего, это у Ивана Петровича едва хватило сил доплестись до дома. А когда отошел, то словно большая оглушенная рыба кружил по двору, вспоминая умелые и горячие руки царицы. «Эх, лебедушка, – думал Иван Федоров о жене, – если бы твои ласки были бы так же остры, как у царицы… разве опоганился бы?! А так преснота одна», – оправдывал себя конюший.
Федоров чувствовал, что с каждым днем царица становится ему все необходимее. А Мария, оставаясь наедине с боярином, нашептывала:
– Опостылел мне мой суженый. Совсем невмоготу с Иваном жить стало. Груб он! А ты ласков, видно, бабы тебя за это очень любят. Ты меня ласкай, Иван Петрович, тешь свою царицу, а я тебя за это только крепче любить стану.
– Красивая ты баба, – заглядывал в лицо царицы конюший, – впервой у меня такая любава. И ведь не просто девица какая, а сама царица!
– А хочешь государем быть? – спросила однажды Мария Темрюковна Федорова и осторожно положила длань конюшего себе на живот.
– Царем?! – охнул боярин.
– Ты не ослышался, Иван Петрович, царем! Многие из бояр моим муженьком недовольны, только и дожидаются того дня, когда он себе шею свернет где-нибудь на колокольне. Вот тогда только и посмеют выбрать кого-нибудь из старших Рюриковичей.
– А как же сын его… Иван Иванович?
– Не дорос еще царевич до государевых дел.
– Вот как!
– Как царя Ивана Васильевича не станет, так я боярам на тебя укажу.
Иван Петрович Федоров привык к близкому созерцанию трона. Ему всегда казалась, что протяни только руку, и она коснется алого бархата подлокотников. Однако московский государь всегда был выше самого родовитого Рюриковича на целых три ступени, а именно они вели к царскому трону. Вот оттого и гнут бояре перед самодержцем шею.
Перед смертью отец наказывал Федорову:
– Почитай царя пуще батьки родного. А не пожелаешь, так он тебе шею мигом свернет. Вся их московская порода такая! Нам, боярам, до самодержавного стола далековато.
И сейчас, услышав слова государыни, Иван Петрович первый раз усомнился в справедливости батюшкиных слов. А царица, заприметив смятение на лице конюшего, продолжала, прибавив к своим словам пыл:
– Пошла бы тебе к лицу шапка Мономаха, Иван Петрович. Если и бармы еще великокняжеские нацепишь, так никто из бояр и не усомнится, что перед ними царь сидит. А еще я тебя своей властью поддержу.
– Как бы мне в одиночестве не остаться, ежели я на трон сяду, – посмел усомниться Иван Федоров.
– Ты, Иван Петрович, не горячись, если по-моему сделаешь, так тебя и остальные бояре поддержат. А князья Воротынские, Горенские, Куракины за тебя горой встанут!
– Неужто все они хотят меня на царствии видеть? – выпятил от удивления губу боярин.
– А разве конюший не первый человек во всем царствии после государя?
– Так-то оно так… Видно, так тому и случиться. – А потом, указав на икону, посмел пристыдить царицу: – Ты бы хоть Христа Распятого тряпицей прикрыла, каково ему совокупление зреть.
Утром Иван Петрович возвращался от царицы шальным и, приходя мимо стольников, стоящих на Спальном крыльце, не отвесил обычного поклона. «Хм, это надо же представить такое… царь и государь всея Руси Иван Петрович Федоров!» – не переставал думать боярин.
* * *
На невнимание государыни не мог пожаловаться и князь Вяземский, который приезжал в Москву каждую неделю и, передав волю московского самодержца боярам, тотчас являлся к царице. Мария встречала гостя так, как если бы князь был ее господином, и две дюжины девок сгибались до самой земли, когда он проходил в женские покои.
Она отдавала себя до донышка и требовала от князя такой же чувственной любви. Мария млела под умелыми пальцами Вяземского и требовала ласк так же жадно, как пересохшая земля требует животворящих капель. Мария выпивала князя до капли, и богатырь, каким всегда был Афанасий, представлял собой высушенное мочало. Князю Вяземскому царица напоминала рысь, готовую показать и коготки-кинжалы, но она могла быть и разнеженной кошкой, которая выставила вперед острую мордочку и распустила пушистый хвост в ожидании хозяйского прикосновения.
Любвеобильная Мария Темрюковна была куда интереснее целомудренных русских баб, которые целовались с молодцами пресно, как будто видели перед собой краюху хлеба, а Мария вопьется в рот так, что и не отодрать.
Афанасий Вяземский знал, что, оставшись одна, царица не скучает, ведал и о том, что у порога ее дежурят три пары молодцев, которых Мария одного за другим призывает к себе каждую ночь. Однако это только сильнее распаляло его любовь. Знал князь и о том, что царица не уступала Ивану в разгуле и пиры на женской половине являлись обычным делом. Гостями царицы были стольники и московские дворяне, а когда они отбывали с царем, то их успешно заменяли дворцовые истопники, которые так крепко прижимали девок, что радостным визгом наполнялся весь терем. В это время частенько можно было услышать в темных уголках двора напористое домогание бравых молодцев, и редко какая из девок могла устоять перед усердным обхаживанием.
Мария Темрюковна сумела объединить вокруг себя всех бояр, недовольных Иваном, с той терпеливостью, с какой Иван Васильевич выживал их из московского удела. Едва ли не каждый из них побывал на мягких царицыных перинах, слушая ее гортанную кавказскую речь.
Ночные развлечения напоминали некое посвящение в рыцари, к которому частенько прибегают знатнейшие матроны при королевских дворах, и они связывают куда крепче, чем церемониальное касание королевской шпаги. «Орден царицы» крепчал и увеличивался с каждым днем, а влияние государыни сумело распространиться дальше Белого города. Каждый из воевод, вызванный царем в Москву, непременно оказывался в постели государыни и, слушая ее ночное воркование, спешил заверить вольнодумицу в своей преданности.
Мария Темрюковна теперь только дожидалась случая, чтобы крутануть шею самодержцу до хруста в позвонках; теперь она уже не сомневалась в том, что сил у нее для этого предостаточно.
* * *
Скуратов-Бельский ревновал царицу.
Разве мог он думать о том, что сейчас, нажив с годами мошну и седые волосы, он будет ждать встречи с Марией так же нетерпеливо, как когда-то в далекой молодости воровского свидания с гулящей бабой. В первую их ночь думный дворянин напоминал орла, терзающего сладкое и нежное тельце лебедушки.
Мария.
Царица.
Теперь Мария не походила на прежнюю разлюбезную, а на прошлой неделе дала понять, что не желает видеть Малюту совсем. А когда он однажды без спроса пожаловал во дворец, повелела продержать его на крыльце, как последнего просителя из дальней волости. Потом, смилостивившись, передала ему яхонтовый перстень и спровадила со двора. Однако Скуратов-Бельский ничего не мог с собой поделать: образ царицы был так же навязчив, как колокольный звон перед рассветом.
Малюта Скуратов с ревностью наблюдал за всеми отроками, пользующимися благосклонностью царицы, и первым из многих был конюший Иван Федоров-Челяднин. Скуратов знал о том, что боярин сумел оттеснить от царицы ее давнюю и крепкую привязанность – князя Афанасия Вяземского. Если и ласкал оружничий царицу своими пепельными кудрями, так это случалось так же редко, как снег в мае.
Малюта ревновал царицу к стольникам, печникам, которые, казалось, поселились в женской половине дворца и задались целью не вылезать из покоев Марии до тех самых пор, пока не испакостят последнюю деваху. А девок они охмуряли так же умело и с душой, как заставляли столы многими яствами или как складывали печи.
Григорий Лукьянович знал и о том, что бояре, которым посчастливилось побывать в постели у царицы, с восхищением делились пережитыми впечатлениями, говорили о том, насколько крепко и порочно ее тело. Каждый из вельмож, будь его воля, с удовольствием поменял бы свою благочинную женушку на темпераментную черкешенку.
Малюту сжигала ревность.
Она казалась настолько яркой, что могла спалить его дотла. Некоторое время Григорий Лукьянович боролся с собой, а потом решил пойти к царю.
Глава 2
Иван Васильевич и раньше тяготел к монашеской жизни, а тут, съехав в Александровскую слободу, решил совсем отойти от мирской скудности. Собрав многочисленную челядь во дворе, государь, наморщив подбородок, обходил ряды опришников. Дворовые люди, зная о пристрастии государя к веселым забавам, угадывали в этом новую потеху и жмурились от удовольствия. Иван Васильевич, тыча перстом в грудь приглянувшегося отрока, коротко изрекал:
– Ты!.. Ты!..
– Благодарствую, государь, – трясли густыми чубами отроки.
Царь отобрал молодцев триста, таких же рослых, каким был сам. Под стать самому государю, высоченные, с литыми плечами, они посматривали друг на друга, ожидая, что сейчас предстоит им сойтись в кулачном бою на потеху самодержцу и боярам. Каждый из них был охоч до забав и не без удовольствия показывал свое искусство на базарах и ярмарках, и вот сейчас предстояло подивить самого царя.
Но Иван Васильевич вдруг неожиданно объявил:
– Тяжел мне городской дух, устал я от мирской суеты и потому решил уйти в братию. Вот отсюда, из-за этих стен, и буду я повелевать царством. Более вы не челядь для меня, а иноки, – посмотрел Иван Васильевич на отобранных молодцов, – я же вам игумен. Князя Вяземского назначаю келарем, пускай церковную утварь стережет… а Григорий Скуратов будет параклесиархом.
– Как скажешь, государь, – отвечали молодцы.
– Опять против меня бояре недоброе надумали, только божье покровительство и ваше заступничество способно меня спасти от лиходеев. Вижу, как бояре над моей головой топор держат, того и гляди опустят его на царскую шею. Только вы, братия, и можете его из рук лиходеев вырвать. Не веселиться я сюда прибыл, господа, а грехи замаливать.
– Куда ты, государь, туда и мы. Некуда нам без тебя идти.
Следующего дня из Москвы прибыло четыре воза, груженные шитьем, и к вечерне все триста опришников надели на себя рясы и скуфьи, поменяв дворовый чин на скромное звание – чернец.
Иван Васильевич в игуменстве проявил небывалое усердие, показывая пример избалованной братии, он подолгу стоял на коленях и клал поклоны так неистово, что лоб его без конца кровоточил и изнывал от заноз. Поменяв царствие на игуменство, Иван Васильевич сумел сделаться крепким наставником, и земские бояре злословили о том, что царь своим подвижничеством надумал затмить славу Сергия Радонежского. В царе шевелился духовный бунт, последствия которого опришники сполна ощутили на своих коленях. Иван Васильевич был неутомим в молитвах и такой же страсти требовал от опришников. Молодцам по душе было пройтись по слободе, девки здесь дюже красные и глазами водят так, что дух от счастья замирает. Уже давно остыли сеновалы, на которых добрые отроки прели с красными девками. И совсем недавно выезд государева поезда опришники воспринимали как разудалое веселье в тихой глубинной Руси, когда можно было отдаться безудержству и сполна разогнать застоявшуюся кровь.
А тут в монастыре что ни день, так каша постная и совсем не в радость долгое стояние на коленях. Можно было бы стерпеть и эти неудобства, если бы не долгое воздержание от похоти, а потому молодцы тайком покидали гостеприимный храм и спешили на дальние заимки лобызаться с красавицами.
Поначалу Иван не гневался, а только хмуро посматривал на провинности новоявленных чернецов, а потом стал накладывать епитимью за непослушание. Первым, кого наказал царь, был тонколицый красавец Вяземский, сумевший добиться благосклонности от дочки старосты.
Иван Васильевич скосил глаза на любимца, а после обычной молитвы повелел запереть его на неделю без пищи в сыром подвале. Позднее Иван Васильевич наказание сделал более суровым, и за малейшую провинность опришники могли лишиться причастия. Теперь они уже не опаздывали на молитвы и с первым ударом колокола покидали кельи с такой резвостью, какую не встретишь даже у ретивых схимников. Опришники откладывали поклоны так рьяно, что могло показаться, будто бы в своем боголюбии они хотят переусердствовать самого государя. Молитва и пост были единственным средством, чтобы унять молодую кровь, а еще нужно было суметь пересидеть государя, он-то уж точно не сможет обойтись без бабьей ласки, а тогда сумеют натешиться и все остальные.
Однако государь проявлял завидное терпение и вместо молодецких прогулок по слободам предпочитал залезать высоко на звонницу и бить в колокола. Царь звонил всегда так рьяно, что можно было бы подумать о том, будто он намеревался лишить их голоса, вырвав с корнем громогласные многопудовые языки.
Бесконечный пост не украсил царя, лицо его выглядело высохшим, и он напоминал пустынника, питающегося одними кореньями.
* * *
Малюта Скуратов явился к государю после обедни, переступил порог его небольшой кельи и замер в недоумении. Отринул от себя царь былое великолепие и надумал извести плоть среди темных камней и стылого воздуха. Если что и напоминало о государевом чине обитателя кельи, так это икона Владимирской Богоматери, висевшая у самого изголовья.
– С чем явился, Гришенька? – повернул изможденное лицо к гостю царь.
– Я к тебе, государь, вот с каким делом… Про царицу Марию Темрюковну разное во дворце толкуют, – начал осторожно думный дворянин.
– А ты рассказывай, Гришенька, не робей, – весело подбодрил любимца царь, присаживаясь на сундук.
– Уж и не знаю, с чего и начинать, государь Иван Васильевич… Во дворце я верных людей оставил, чтобы за земщиной крамольной присматривали, не ровен час, измена какая может выйти. Вот эти люди про государыню разное несут, будто бы она пиры на своей половине устраивает, а на это веселье конюхов и печников со всего двора сзывает. Те как напьются, так все по закоулкам расползаются, и такое там бесстыдство творится, что и произнести боязно.
– Так, Гришенька, рассказывай дальше, – спокойно повелел Иван Васильевич.
– Не знаю, государь, как дальше продолжить. Слов от стыда не нахожу.
– В храме ты святом, а в нем любой стыд помрет.
– А еще царица держит подле себя отроков, которых меняет чуть не каждую ночь, а если государыне очень приспичит, так по трое молодцов за вечер без сил может оставить.
– Это похоже на государыню, – охотно соглашался Иван Васильевич, – баба она в теле и падкая на отроков, такая будет требовать своего, пока не насытится. Ты далее говори, Гришенька, этим ты меня не удивишь, да и не новость это уже!
– Окружила государыня себя мужами, Иван Васильевич, они даже платье исподнее надевать ей помогают. Так смело ведут себя, государь, будто и царя вовсе нет.
– А чего им меня опасаться, если они в царице большую силу видят. И царица на меня управу нашла, что не так – сразу в петлю кидается! Твоя женушка, Гришенька, покладистая баба?
– Точно так, Иван Васильевич, а если что не по мне, так я ее розгами наставляю. Задеру платье до головы и отстегаю ивовыми прутьями, ежели их еще на соли настоять, так оно больнее будет. Однако стараюсь, чтобы кожа не расползлась, иначе баба и присесть не сможет.
– Разумно, Григорий Лукьянович, только с царицы ведь другой спрос, а ты продолжай, слушаю я тебя.
– Грешно мне продолжать, если бы не государская воля, то умолк бы на веки вечные. А еще царица на пиру раздевается, последнее исподнее с себя снимает, а затем среди гостей нагой ходит.
– Кровь у Марии горячая, вот, видно, и не выдерживает комнатной духоты. Тело ее простора требует! Что ж, и в этом я узнаю царицу. Спасибо тебе, Григорий Лукьянович, за службу. А ты следи за государыней и все мне без утайки докладывай. Это такая баба, что за ней в оба ока смотреть нужно. Пускай себе тешится, Малюта, – ласково говорил государь, – а мы о ее душе попечемся, молиться крепче прежнего станем.
Постоял малость Григорий Лукьянович, потоптался с ноги на ногу, а государь о нем уже позабыл – сполз с сундука и подставил в молении спину под строгий взгляд холопа.
– Вот еще, Григорий Лукьянович, – обернулся государь.
– Слушаю, Иван Васильевич.
– Принеси мне житие святых, читать буду, – и царь приник лбом к каменному полу.
Иван Васильевич не умел жить вполовину; если куражиться, так от души, чтобы не только в Москве весело было, но и посады от смеха захлебнулись; если гулял царь, так пьяны были не только ближние бояре – половина стольной хлебала сладкий квас. Неистовым Иван был и в молитвах и каялся так, как будто был первым на земле грешником.
Царь словно родился для монастырского самоистязания, и простоять четыре часа в молельном бдении для него было так же просто, как мирянину осенить грешный лоб привычным знамением. И, наблюдая за Иваном Васильевичем, верилось, что в нем дремал строгий праведник; только из великих грешников получаются большие святоши. А Иван Васильевич умел быть одновременно и тем и другим.
Встав у алтаря и укрепив житие на аналое, государь любил читать опришникам о праведных делах святых, и, глядя в серьезные физиономии молодцов, верилось в то, что каждый из них думал о благочестивых подвигах канувших в Лету старцев, а не о прелестях статных молодух, коими переполнена была вся слобода.
Отроки втайне друг от друга наведывались в слободу и с жадностью блудливых котов воровали темные ноченьки у замужних баб и веселых девок, а потом с недосыпу колотили на моленьях лбы о дубовые половицы, что очень походило на усердные молитвы и вызывало одобрительное покрякивание строгого великодержавного пастыря.
* * *
В праведных молитвах проходили месяцы, казалось, государь серьезно надумал своей святостью замерить опришников. И вместо жирного рассольника государевы единомышленники жевали пшенную кашу.
Малюта Скуратов строго следил за царским распоряжением. Его кряжистая фигура действовала на опришников точно так же, как появление на народ мрачного Никитки-палача, и первое, что приходило в голову чернецам, так это искать место поукромнее, которое сумело бы спрятать от его всепроникающих глаз. Однако во всей Александровской слободе нельзя было отыскать более потаенного места, чем собственная келья, и монахи быстро разлетались в стороны, подобно воробьям, спугнутым появлением кошки, как только видели его приближение.
Иван мало походил на живого – эдакая темная тень, которая неторопливо пересекает монастырский двор, чтобы справить нужду или отведать в Трапезной овсяного отвару. Однако эта мысль пропадала сразу, стоило государя увидеть во время молений. В нем было столько старания, что казалось, будто бы Иван и вправду беседует с богом. Иван Васильевич удивлял братию своими видениями, будил колокольным звоном округу и, собрав паству в церкви, говорил о том, что поведал ему господь. Глядя в безумные глаза царя, охотно верилось, что его мятежная душа отрывается во время сна и несется к небесам, чтобы выслушать божье слово.
Однако многие видения совсем не мешали государю приглядывать за строптивой земщиной да и за самой государыней Марией. Иван знал, что царица переживает небывалую любовь к земскому конюшему Ивану Федорову. Ведал и о том, что боярин, не в силах накинуть узду на кавказский темперамент Марии, отхлестал ее ладонью по щекам. Государь подозревал, что Федоров не одну ночь будет замаливать свою провинность, чтобы вернуть расположение царицы.
Московский двор напоминал сироту, просящего милостыню, он поживал так же задорно, как и при великом князе.
Мария Темрюковна не интересовала царя.
Совсем.
И он почти с улыбкой встречал слова Малюты, который буквально шипел от негодования:
– Государь, ты только пожелай, так мы этого Иуду Иванца Челяднина в мгновение ока придушим. Все тихо сделаем, так, что никто и не прознает.
Иван Васильевич равнодушно смотрел на любимца, а потом изрекал, отрыгивая из глубины нутра чесночный дух:
– Не по-божески это. Господь дал ему жизнь, только он и может забрать, Григорий Лукьянович, – объявлял он голосом праведника. – Молиться мы будем, может, господь и отберет у него то, чем каждый муж гордиться должен. Ибо сказано в заповеди: «Не прелюбодействуй!» – И, слушая государя, можно было усомниться в том, что это именно он наведывался к женам бояр, когда те съезжали на дальние дачи. Во власти самодержца было подвесить конюшего за все места сразу, но Иван, уподобившись агнцу, терпеливо наблюдал за прелюбодеянием своей супружницы. – А теперь ступай, Григорий Лукьянович, и помолись за мою грешную женушку.
Месяц прошел в молитвах. Государь малость подустал, в мыслях он все чаще возвращался к Екатерине. Царь Иван распалил лучину и стал писать шведскому королю Эрику послание. С некоторых пор наследник викингов стал понимать его куда лучше, чем собственные бояре. Царь серьезно намеревался отнять у герцога Финляндского жену. Однако герцогиня оказалась на редкость верной женой, и когда шведский король пожелал заточить своего брата за вольнодумство в крепость, Екатерина предпочла разделить участь мужа.
Было время, когда Ивану казалось, что скоро Екатерина станет его женой. Шведские бароны обещали ему, что если герцогиня не пожелает сама прийти к постели русского самодержца, то ее приволокут, как провинившуюся девку.
Иван воспылал к Екатерине страстью, которая никак не подходила к его монашескому обличью. Иван Васильевич пальцами ласкал портрет Екатерины, и делал он это так нежно, как будто неживой картон приобрел плоть. Царь сгорал от страсти, он жаждал ее так горячо, как до этого не желал ни одну женщину. На Руси уже не оставалось ни одной девицы, которая была бы недоступной для него, и совсем неважно, во что она одета: в сарафан крестьянской девки или в дворянскую шубку. Для царя Ивана уже давно не существовало желания, которое бы не исполнилось, прихоти, которая не была бы удовлетворена. И сейчас Иван Васильевич впервые за много лет получил отказ.
Федор Сукин в очередной раз возвратился ни с чем.
Окольничий долго стоял перед воротами, опасаясь накликать на повинную голову опалу, а потом обреченно переступил монастырский двор.
Царя Федор Сукин признал в образе звонаря, который, взявшись обеими руками за каменные перила, с многоаршинной высоты колокольни спокойным взглядом созерцал далекое поле.
Сутулая одинокая фигура в черном.
Федор подумал о том, что на звонницу просто так не подняться и на каждом пролете придется отдыхать по несколько минут. Это молодой царь может прыгать зараз через несколько ступенек, а старость требует степенности.
Пока Федор Сукин забрался на самый верх, страхи улетучились совсем, и он бухнулся в ноги государю.
– Помилуй, государь Иван Васильевич, пожалей мою старость, – причитал Федор Сукин, – не сумел я для тебя Екатерину у Эрика высватать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































