Текст книги "Запах напалма по утрам (сборник)"
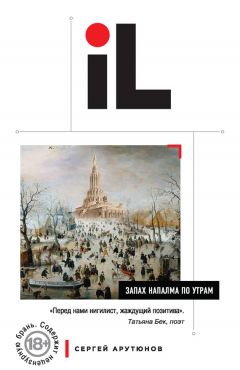
Автор книги: Сергей Арутюнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Этот приемник до сих пор стоит на шкафу – «Сакта» или «ВЭФ», приветствующий «слушателя» зеленым нездешним огоньком.
Левое колесико включает, правое настраивает. Стрелка ползет мимо «Берлин – Париж – Варшава – снова Париж – Братислава – Лондон – Нью-Йорк – Осло – София – Прага». По этой шкале ты выучивал названия европейских столиц. Но что тебе теперь до таинственной Европы, когда на пределе слышимости, между морской морзянкой и гнусавыми переливами каких-то гигантских усилителей слышатся усталые голоса:
– Восьмисотый, схождение до четырех тысяч.
– Принял, выгружаю, подъем до двух.
– Фронт, коридор свободен, дайте разряд.
– Даю два вводных. Кучевикам отойти.
– Перо, Перо, у вас двенадцать тысяч.
– Принял, затяжку вижу, сектор закрыт, сектор закрыт.
– Кто вы? – шепчешь почти беззвучно.
– Кто здесь? – множество голосов, строгих и почти стальных.
– Я…
– Мальчик, не балуйся.
– Кто вы?
– Мы – облака.
– А… что вы делаете?
– Льем дожди, набухаем от влаги, несем грозы, летим над землей. У нас много работы. Как ты нас нашел?
– Я крутил колесико…
– Тебе повезло с частотой.
– А вы всегда на ней?
– Нет, мы говорим на любых, ведь никто не знает, что это говорим мы.
– Значит, я один догадался?
– Нет, это мы смилостивились и сказали тебе. Потому что ты маленький и тебе никто не поверит.
– А можно мне послушать еще?
– Валяй, малыш, только недолго.
– Вращение умеренное, вхожу в глаз…
– Шеститысячники, пропустить северную колонну!
– Расхождение пять-ноль-двенадцать, пропускаю.
– Гобийское крыло, прошу высоту.
– Десять тысяч, возьмите тоннаж.
– Рукав-70, лечь на гребень.
– Принял, выполняю.
– У вас так здорово!
– Хочешь стать одним из нас?
– А если все-таки орлом или хотя бы вороном?
– Птицы не могут без земли.
– А вы?
– Мы свободны, для нас нет границ, кроме жары и холода.
– Вами помыкает ветер!
– Блаженно следовать ветру.
– Это он приказывает вам?
– Не только. Он тоже повинуется приказам.
– Чьим?
– Иногда – нашим, иногда своим собственным. Это сложно объяснить… Иногда в глубине планеты рождается разряд, и мы начинаем суетиться и гибнем от него, а ветер мечется рядом и не знает, что делать. Бывает по-разному, да ты и сам это увидишь.
– Смена частот!
…И только хрипы через коричневую сетку, только хрипы и гром.
Субботники…Субботников вообще-то было два: дома и там, куда ты «ходил» в данный момент: в ясли, сад, школу, институт или на работу.
Странное чувство обиженной непричастности охватывало, если ты забывал и с утра шел куда-нибудь по делам, а на всех газонах, по всем дорожкам суетились люди в демисезонных куртках и резиновых сапогах, носили ведра, сажали голые еще деревца, разматывая с корней и будущих крон торжественно выбеленные тряпицы и полиэтилены. Социалистическая мистерия…
Школьные субботники я запомнил плохо. Непременное, вмененное какое-то соперничество «бригад», перекапывание унылого двора, с которого хотелось поскорее смотаться домой…
Удушливая хлорка, порошки, тряпки, швабры, мутная вода, нервное подзуживание классной – о нет, подобная обстановка никак не способствовала вдохновенному труду.
Праздником это стало разве что к концу школы, когда через двор видишь в окне кабинета математики красные круглые коленки одноклассницы, босой вставшей на парту, чтобы снять шторы, и думаешь – э, да она совсем взрослая, почти женщина, кто знает, может, уже…
А она машет тебе рукой, кричит что-то неразличимое, насмешливо-задорное, но не обидное, и ты смущенно жмешь плечами и тоже машешь. И, как она, снимаешь казенные шторы с бесконечных крючков, оголяя окна. Солнце косо бьется в тебя накануне мая, выпуска, великого разлета из гнезда, щемящими песнями про покидаемые школьные дворы, вдруг, в этот год касающимися лично тебя.
На домашний Субботник шли с отцом.
Одевались «похуже» (для этого в доме береглись от помойки допотопные или испорченные куртка и штаны, отложенные специально для Субботника), и ЖЭК доукомплектовывал нас до зубов. Тетки из правления отпирали подвал (ключ доверяли малышне, игравшей в прятки меж труб, вентилей и задвижек), выволакивали лопаты, ведра, связки рукавиц, шланги. Саженцы уже стояли в углу, привезенные накануне.
Люди сновали по участкам, как по грядкам. Окурки, задубелые хлебные корки, пакеты, ломаная пластмасса, – тот стыдливый мусор с высоты лет кажется чище нынешнего. Мужчины копали, сажали, женщины носили им воду.
Земля, уже отсвечивающая озорными лужицами, сначала не поддавалась, но постепенно вокруг каждой липы или клена образовывался глинисто-черноземный, свежевскопанный круг. Кричали ходящим с ведрами: «Полей сюда!» – и либо они, либо дотянувшийся из подвала шланг насыщал дерево водой, казавшейся почти ключевой, и благодарные голые стволы, казалось, уже шептались о грядущих листьях.
Корни саженцев извлекались из тряпиц, и для них тут же копались неглубокие ямы, сыпался чернозем, песок, следовал краткий полив и самый блаженный шаг – установка в яму. Корни дерева заваливались комьями, чуть притаптывались, и в какой-то неуловимый миг мы видели, что оно начинало СТОЯТЬ посреди земли, под нашими окнами, храброе, великолепное, словно исполнившаяся мечта.
Кажется, я помню все деревья, которые посадил. Даже кусты, впоследствии засохшие, выломанные. Каждую рябину, березу. Первая – изящная белостволка – успела превратиться в тяжкую громадину. В Матвеевском.
А тогда – ветер любовно налетал на окаменелые ветки. Пахло отогревающейся почвой. Визжали ведерные дужки, лил, блестя в лучах, шланг, кто-то убегал, прибегал, и каждый видел и чувствовал соседей. Бывало, что мирились рассорившиеся насмерть, представлялись только что въехавшие, и тут же знакомились будущие пары.
Мы были атеистами, но, видимо, молились Богу не словами, а общим трудом. Кланялись, по крайней мере, не меньше прихожан, стоящих всенощную. Редко… примерно раз в год. Но и они не чаще…. Счищали с себя налипшую зиму.
Субботник приманивал к нам дух грядущего: каждый знал, что невероятный, почти несбыточный коммунизм, может быть, через века, но отменит проклятые металлические и бумажные эквиваленты успеха.
Когда я восхищался трудом по совести, а не по принуждению, отец пожимал плечами: он, всю жизнь трудившийся только так, не видел в этом ничего странного. Он прожил в коммунизме всю жизнь: деньги в СССР так мало решали, что их отмена не виделась каким-то поворотным пунктом человеческой истории.
– Пап, а мы увидим его?
– Кого?
– Коммунизм.
– Вряд ли, – отвечал отец.
– Почему? – огорчался я.
– Ну, ты, может быть, увидишь, – смягчался папа.
– Это будет чудо, правда? А почему ты думаешь, что это будет не скоро?
– Видишь ли… – мялся он снова. – Люди. Они еще не готовы. А когда будут готовы, никто не знает. И даже когда будут готовы…
– Да, да, когда будут! Когда будут, то что?
– Страдания останутся, – заключал отец с такой интонацией, что я терялся.
– Как это? – не понимал я.
– Представь, что тебе нравится какая-то девочка из класса, а ты ей нет. Коммунизм это что, отменит?
Здесь я не мог ничего ему возразить.
В субботник я бегал вокруг дома совершенно ошалевшим. То жег желтые стебли прошлогодней травы, вдыхая весенний дым костра, то неустанно граблил, то сажал, стараясь успеть везде и перепробовать все. Помню, что-то понадобилось дома, какие-то инструменты, и я впервые проехал в лифте один, без взрослых, и загордился собой.
– А где папа? – спросила мать.
– Работает! – выдохнул я и полез в стенной шкаф, кажется, за плоскогубцами. Там, внизу, не раскручивалась какая-то проволока.
…Теперь слышится, что бесплатный труд аморален, что нас, подневольных скотов, беззастенчиво пользовали большевики, но что понимают эти частники в мистерии общего труда?
Субботники исчезли одними из первых. Слава дачникам. Те, кто не имел участка, разом лишились и земли, и молитвы, и исступленной весенней пахоты на оживляемой тверди.
Этот праздник, называвшийся длинно «Ленинский коммунистический…» – «почин», никак для ребенка не связанный с «починкой» каких-то там заслуженных революционных паровозов, – вымер вместе с тем народом.
Никто, никогда, никакие экологи и работники сферы ЖКХ больше не смогут вывести столько людей на улицы даже в самые погожие дни: для этого нужна вера, идея, страсть.
В те далекие годы, когда за нас еще не работали таджики, мы, взрослые и дети, отчетливо понимали, что работаем на самих себя и ради себя самих.
Мое первое изнасилованиеОдиннадцать лет – «козлиный возраст». Пробовать хочется все: курить, пить. И конечно, насиловать, причем всех без разбора. Кто попадется.
Я был воспитан пуританином. Два первых жестоких удара по моей морали были нанесены:
а) негативом пленки, найденной в овраге (некие размытые изображения, вероятно, перепечатки легких журналов, а то и просто рисунки), и
б) весьма легкомысленным журналом «Кавалер» (пиратская версия «Пентхауса»), печатавшимся то ли в Польше, то ли в Чехии и содержавшим изображения девиц в бикини и без оных, просмотренным у Жэса в пору отсутствия его матери дома.
Так совпало, что во время этих печальных событий козлиным разговорам в школе не было конца. Школьное общество довольно стойко свихнулось на теме половых взаимоотношений, словно прорвалась какая-то высоченная плотина и вылетевшими из нее бревнами в щепки разбивались чинные постройки на берегу. Любые продолговатые предметы большого размера вызывали уважительное «о-о-о-о!», маленького – пренебрежительные смешки. И т. п., не говоря о предметах, содержащих вырезы и отверстия. Каменный век настал повсюду. Начались изнасилования.
Мы с Жэсом ходили по болоту, выискивая, кого бы изнасиловать. Не думаю, что мы были в состоянии, но мечталось о многом. Десятиклассницы, с хохотом валившиеся с мотоциклов в траву, были патронируемы волосато-усатыми десятиклассниками, гнавшими нас кулаками и пенделями подальше от капищ любви. На них при осмотре всегда зеленела бутылка ритуального портвейна, валялись крупные гильзы «Любительских» папирос, от которых (журнал «Фитиль», 1978 год) отваливались ноги – просто превращались в струйки дыма.
Данилюк и Лизова, рано созревшие и налившиеся «бэшницы», появились в овраге к восьми вечера. Было закатно и ало. Остров Мумии, место наших войнушек, далеко вдававшийся в Куликово болото, ныне зарытый вместе с рекой Чертановкой, звенел кузнечиками.
– Лизова, иди сюда! – заорал Жэс.
– Пошел в ж…! – бойко ответили тащившиеся впереди нас по бурьяну девушки, призывно оборачивающиеся на нас и преувеличенно звонко хохочущие.
– Лизова, ты дура! – воскликнул юноша.
– Сам такой! – оглянулось шествие.
Мы не поверили словам. Мы побежали.
Девицы взвизгнули и помчались по лугу. Изнасилование началось.
– Бери Данилюк… – прошептал задыхающийся Жэс и кинулся за петляющей рослой Лизовой. Я нагнал ее у Камня Жертвоприношений, громадного валуна посреди острова. Она попробовала проскочить, но проход в камышах был узок, и я сцапал ее за кисть.
Забуду ли? Персиковая щека, синий вырез олимпийки, бьющийся сосуд на высокой загорелой шее. Она была в обтягивающих синих трениках и резиновых сапогах. Мы стояли почти в кустах, опираясь на их пружинящие, как ринговые канаты, ветки и толкались, почти заваливаясь на землю и удерживаясь… Она не могла вырваться. Ноги ее разошлись, и я уперся в нее, почувствовав разом всю ее сквозь одежду – белую, нагую под резинками трусов, напружиненную, разгоряченную до расплавления пластмассовых молнийных бегунков. Эти маленькие женские кисти, то отчаянно сжимающиеся, то затихающие, словно разрешающие творить с ними, что вздумается! Их покорность просверливает сквозные дырки в сознании.
Я клекотал, как ястреб. Я держал ее за обе руки. И когда она стала подчиняться и обмякать, клониться ко мне, никак не мог выбрать места, куда вопьется мой потрескавшийся от солнца клюв. Она вдруг побледнела, как перед обмороком. Я увидел синющий умоляющий взгляд тонущей. Так, наверно, в былинах лиса или зайчиха просят добра молодца не убивать каленой стрелой, а отпустить. Идиоты – да, плюют на эту мольбу, истолковывают отказ как согласие, добиваются своего и… забывают. Это расплата за неумеренность.
Я не хотел забывать и – отпустил ее.
Она посмотрела скорее удивленно.
Губы ее произнесли ругательство.
Но – удивленно.
Но – тихо. По инерции погони.
Я смотрел ей в глаза и не мог ничего сказать.
Она хлюпнула болотной тиной и выскользнула на тропу, отбежала на безопасное расстояние и встала, ожидая товарку, засунув голые руки с белым пухом в рукава ветровки.
– Держишь? – проорал сверху Жэс.
Я не ответил. Слишком билось сердце. Мимо меня, напоминающая грацией Артемиду-охотницу, смотря уважительно и опасливо, пронеслась Лизова. Она бухнула мне в грудь обеими руками, но лишь ради подруги, на ее глазах, чтобы не думала, что между ними нет взаимовыручки. Это был чистый номинатив, и все мы трое, да нет – четверо, отнеслись к нему с должным пониманием.
Жэс скатился ко мне. Щека его свежела царапиной. «Лизова – ващще…» – прошептал упоенный сатир. Судя по всему, с ним тоже случилось то, невероятное.
Чуть погодя мы побежали пускать кораблики. Потому что кругом стояла весна, а мы вышли из дома именно за этим.
И второеВ восьмом классе я проходил зиму без шапки и присоединился к славному племени гайморитчиков, в первый и последний раз загремев в детскую Морозовскую на Серпуховке. Первая пункция избавила от головной боли, вторая и третья воспринимались с юмором и прошли незаметно.
Общество было элитным: по вечерам в столовой собирались картежники. Это была классическая картина советской зоны: верхний свет, решетки на окнах, снега на подоконнике, паханы с бицепсами вроде меня (принят я был сразу и с почетом), мелкие подвывалы, изгои, прочие. Главарей было трое: ажурный «повторник» Митя, огромный Дрон, потомственный рабочий, и я. Нам были ведомы тюремные игры – бура, стос, очко, козел, буркозел. «Дурак» и «пьяница» были недостойны нас. Резались до часу ночи, нас не тревожили. Игра шла на упаковки детского диетического кефира. Сорвавший банк великодушно делился им со всеми.
Дрону верные товарищи с воли передавали папиросы в окно ванноуборной, стоя на пожарной лестнице. Спалось хорошо: огромный дореволюционный подоконник был заставлен пакетами и авоськами с настоящим тогда, солоноватым «Боржомом» («Фанту» не пропускали), игрушками, за двойными рамами выла пурга… Телевизор работал только на звук: пел Боярский, заглушая утренний плач микродевчушек над манной кашей.
…Медсестра Люда нарвалась сама. Она считала, что у нас нет чувств. Поэтому не поддевала под халат платья. Халат же был узок, а формы ее – восхитительны. Дрон крякал, когда она проходила мимо. Я отводил жадный взор.
Дрон предпочел действовать в одиночку. Он что-то сказал медсестре Люде. Она рассмеялась. Это было объявление войны. Она не считала нас дееспособными. Она считала, что мы малыши.
Вечером на картежной сходке было решено действовать – жестоко и нагло, внезапно и предельно разрушительно.
С утра Люда ходила с уколами и таблеточными облатками. Я тихо встал с кровати, когда она склонилась над Дроновой задницей…
Хлоп!
Дрон стремительно перевернулся, звонко щелкнув резинкой треников.
– Че ты там, Люд, говорила? – спросил Дрон страшным, осипшим от желания басом.
– Лег как надо, быстро, – ответствовала она, напрягаясь.
– А вчера?
– …
Я подступил сзади и легонько толкнул Люду в задок. Она взвизгнула и опрокинулась на Дрона. Его могучие руки сошлись на ее белой спине…
– Люд, а ты чего платья не носишь? – спросил Дрон.
– Пустил быстро! Недомерок, сопля паршивая.
Она не могла вырваться. Дронова рука зажимала ей рот. Я намотал короткие полы халатика на кулак, сел на Дронову кровать и заглянул в ее испуганные глаза.
– Люд, а Люд, – спросил Дрон, чуть расслабляя хватку. На нас с любопытством, приподняв взъерошенные головы, через решетки кроватей смотрели малолетки. – Вечером придешь? – Голос его снова сел, но уже от победы.
– Пал Петрович придет. Лично. С во-о-от таким шприцем. Если бешеный, кастрировать будем. Как кота, – шипела усмиренная сестра.
Имя грозного хирурга подействовало гипнотически. Мы поставили Люду на место. Она оправила халат и со злобным звоном вытолкнула тележку из палаты.
На следующий день на ней было платье. Под халатом.
А в наших трениках было свежо и спокойно.
Запах напалмаПо выходным у нас с отцом была особая традиция: приходила воскресная газета, более толстая, чем в будни, и мы с удовольствием смотрели ее от корки до корки.
Тогда-то, в один из далеких дней, нам и попалось сообщение ТАСС о том, что американские войска применяют во Вьетнаме некое адское оружие под названием «напалм».
– А что такое напалм? – спросил я отца.
– Это такая специальная смесь горючих веществ. Если попадает на тело, не отдерешь, так и прогорает до костей.
– А зачем?
– Ну, а как ты сам думаешь?
– Чтобы убивать? – с ужасом произнес я.
– Да. Американское изобретение. Они это любят, изобретать. Химики, – заключил папа и перелистнул страницу.
– Папа, а чем он пахнет?
– Кто?
– Напалм.
– Бензином. Простым бензином, – нетерпеливо отмахнулся отец.
Теперь мне кажется, что сверху, чуть ли не из космоса, и нашу страну полили каким-то таким напалмом.
Ведь ничего не осталось. Ничего.
Все сгорело.
Часть II
Экзамен
Подгруппа стояла у Дубовой аудитории.
Обшитая светлыми панелями на сверкающих, хирургического вида винтах, с двумя пластиковыми колпаками в потолке вместо окон, она видела немало студенческих слез. Казалось, они текли между штативов и горелок бескрайнего академического стола, прожженного реактивами и покрытого двуслойным цветным пластиком, а по ночам легонько стучались в двустворчатые двери, дабы вдоволь поплавать по коридорам.
– Готов?
– Глаза видишь?
– А я вырубился полвторого. Все равно…
– Идет!
Академик Традесканский, крохотный изящный карлик со старомосковской дикцией, скользнул в Дубовую и затворился.
Скрипкин представил адское зрелище: вспархивающий на возвышение (почему-то в темноте) академик, злорадно потираемые ладони, треугольная улыбка демона.
– Заходите. Рассаживайтесь.
– Здравствуйте…
– Ну-с, готовы?
– А-а-а…
– Ясно. Берите билет.
– Номер семнадцать.
– Шестой.
– Четыре.
– Двадцать восемь.
– Берите листочки.
Традесканский откинулся на спинку и с сардонической усмешкой пробежал «Спорт-экспресс». Про его теннис было известно только то, что он не проигрывает мужчинам.
Скрипкин оглянулся на Обладаева. Их взгляды метнули по молнии отчаяния, и их суперпозиция, чуть протрещав в мокром воздухе, задела академический пиджак, отчего Монстр Горной Химии пошевелился на стуле.
– Списывать не стоит.
– А как же? – вырвалось у Скрипкина.
– Думайте. Кто готов, идите отвечать. Время не ограничено.
«Не ограничено!» – прошептал впавший в безумие Скрипкин. Вопрос в билете списку не соответствовал. Уравнение было диким, с семью членами, неизвестными оксидами, которых он не видел даже в учебнике. «Перепутал билеты. Это вопросы с Олимпиады. Надо сказать», – подумал Скрипкин и вместо этого предпринял вторую попытку уравнять бор с кислородом. Когда стало понятно, что уравнивать не по чему, он тоже откинулся на спинку стула и воспарил к переэкзаменовке, теряя стипендию по рублю в секунду.
– Готовы? – улыбнулся Палач.
Скрипкин неожиданно поднялся и пошел к столу, не обращая внимания на шиканье тех, кому придется следовать за ним с меньшей дистанцией.
– Так, что тут у нас…
– Слабодиссоциированные полиметаллические процессы в магматических средах.
– Слушаю.
– Слабодиссоциированные полиметаллические процессы в магматических средах… имеют ряд особенностей, – выдавилось из Скрипкина раздельно, почти по слогам. Он не знал, что говорить дальше.
– Несомненно, – приободрил погибавшего академик.
– В частности, ионный прессинг должен развивать большую активность слоев, в то же время…
– Должен или развивает?
– Развивает.
– Так.
– Одновременно с этим… слои нагрева образуют нерасторжимые комплексы коры пленок с коэффициентом больше ста пятидесяти единиц…
– Ну-у-у… – с сомнением покачал головой Традесканский.
– Так… в книжке.
– В книжке! – вскинулся академик. – Вы представляете себе, что значит полторы сотни? Магний, марганец, кобальт в лаборатории – одно, но там-то давление!
– Да! – закричал Скрипкин. – Давление! Превышающее по сумме тысячу, поверхностное распределение происходит по эквимолекулярной модели! – Эта фраза втемяшилась ему на какой-то давней лекции.
– Ага-а-а… Помните. Ну, расписывайте модель.
Скрипкин сжал ручку и продавил листок насквозь.
– Модель!.. – шептал он, рисуя слои, уснащенные миллионом черточек фактуры. – Постадийное перемешивание…
Он рисовал, бумага рвалась и расползалась. Академик следил за трясущимися руками.
– Так, и что? Здесь перемешивается почему?
– Равновалентные связи имеют особенности, – пробормотал Скрипкин. Мысль опередила речь.
– А в середине? По краям понятно, а в середине? Идите к штативу.
Он встал и пошел мимо всего.
– Разлейте реагент. Включайте мешалку. Теперь потенциометр. График куда идет?
– Прямая.
– Добавьте кислотного балансатора – куда идет процесс?
– Влево.
– Почему?
– Среда… реагирует.
– Почему?
Скрипкин терял сознание. По нему текло. Он всматривался в колбу с кипящим оранжевым осадком, бросающимся на стекла праздничным салютом.
– Атомарное обособление создает автономные среды с пониженным диссоциативным окружением, – умирал он на подрагивающей левой ноге.
– И?
– Полиметаллические процессы характерны неперемешиванием фракций, обособленно извлекаемых при остывании.
– Уравнение.
– Тут…
– Да. А почему по бору? Он лишний. Не смотрите в учебник, он лжет. Давайте сначала: видите калий?
– По калию?
– Нет, зачем же. Видите еще что-нибудь?
– Золото. И сульфиды серебра.
– И?
– Ион.
– Что он?
– Мешает уравнивать.
– Куда он тянет процесс?
Скрипкин уже понял, что вправо, и не ответил. Яростно начертив стрелу, он ставил шестерки всем оксидам, отчего сульфиды раздувались по двенадцати, и у золотого, наверняка радиоактивного слитка насчитал сорок восемь. Перевернул и протянул Традесканскому.
– Ну во-о-от. А вы тут мне по бороводороду, к чему он нам… Зачетку…
Скрипкин побежал в туалет и достал вонючую «Астру», спутницу ночных бдений и корпений. Небрежнейший почерк академика гласил об «отле».
Душа студента понеслась к желтому казенному потолку и рассыпалась в искрах подступавшего полдня.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































