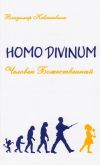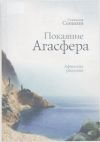Читать книгу "Дорога Сурена"

Автор книги: Сергей Авакян-Ржевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Бесконечный пеший путь домой продолжается мимо одноэтажного здания банка, с большими зарешеченными окнами. Вправо уходит улица 50 лет ВЛКСМ, с двухэтажным частным долгостроем на углу (дом учительницы математики). Сразу за его забором начинается «короткий путь» – ведущая в центр поселка тропинка. На нее Сурен и сворачивает, доставая телефон с фонариком.
Оторвавшись от асфальта, тропинка тут же упирается в Л-образную опору линии электропередачи. Одним ответвлением она ныряет ей между ног, другим (суеверным) обходит стороной. Потом вновь сливается воедино и далее несколько метров тянется параллельно улице Старикова, мимо скелета нерожденного одноэтажного здания, подпирающего небо дюжиной бетонных столбов, в ночи напоминающих перевернутого вверх ногами жука. Это могла бы быть прекрасная отвратительная копия разрушенного храма Юпитера, с его несгибаемыми колоннами и рассыпанными поблизости каменными фрагментами, если бы жизнь имела хоть толику сарказма.
Прыгая с кочки на кочку, тропинка огибает «храм Юпитера» и устремляется вниз по склону через пустырь, пока ее бег не прерывает неглубокая и неширокая дождевая канава, прижавшаяся к несбалансированной, как клюшка, улице. Здесь тропинка теряется и находится несколькими метрами ниже с обратной стороны. Тут она начинает свой вольный бег в полную силу, скользя через изогнутую, как дно ложки, лужайку, опасно минуя угол здания электрической подстанции, оставляя с правой стороны пустырь в несколько соток, с одиноко растущим у его края молодым орешником, сейчас, мартовской ночью, торчащим из земли инородно и безжизненно. За пустырем начинается заветренная парковка, прилегающая к заднему фасаду Дома быта, половина помещений которого давно пустуют.
Сразу за Домом быта располагается центр поселка, с фонарями и фонариками, перекрестком (без светофора), вывесками продуктовых магазинчиков. Одна из стоящих строем вдоль проспекта елей (крайняя, у автобусной остановки, у парковки бывшего универмага) до сих пор украшена остатками новогодних украшений, как придорожный куст в мусорных фантиках. Опыт прошлых лет практически гарантирует ей достоять в этих ошметках праздника до следующего Нового года.
Сопровождаемый своей неплотной тенью, любопытно тянущейся по сторонам, Сурен по диагонали идет через перекресток. Плюет в тень и попадает. Осторожно оглядывается по сторонам – никого, мертвая тишина.
Сразу за проспектом стоит его дом. Вечный вопрос, как подойти к подъезду: спуститься ниже и пройти вдоль двора или пойти параллельно дому по аллее Ветеранов между статуй двух львов, а потом спуститься по аллее прямо к подъезду. Расстояние одинаковое, но каждый раз выбор как будто зависит от настроения.
Идет ко львам. Они даже не симметричные, а одинаковые, что делает их максимально фальшивыми и неуместными. Но сейчас, наверно, стало лучше, чем раньше, когда на этом месте стоял крытый базарчик, на котором в любую погоду бабки торговали семечками и иногда местные фермеры торговали молочными продуктами и свежим мясом. Переделали тут все буквально пару лет назад.
В доме напротив, на балконе, курит женщина. Далеко впереди, у отделения МВД, автомобиль с включенными фарами. Полгода назад там застрелили полицейского. Убийца прятался в кроне елок, плотной, как женская юбка. Его так и не поймали, но после этого елки оголили на два метра над землей.
Поворачивает направо. Семь ступеней вниз. Двор темный и грязный. Газоны заезжены колесами припаркованных автомобилей. На этом месте, ровно под своим балконом, он и сам часто парковался, но два года назад перестал, после того как машину дважды пытались то ли угнать, то ограбить. Красть в ней нечего (нет даже магнитофона), а угнать было невозможно, потому что стоял замок на педали. Собственно, после второго случая, когда старший сын ночью выскочил и стал избивать грабителей, а Сурен увидел это из окна и побежал ему на помощь… После второго случая и перестал оставлять машину на ночь.
Из грязи – в гравий, насыпанный соседом по случаю свадьбы дочери. Цель была победить вечные лужи, которые не всегда успевали просохнуть даже в летние дни. В результате гравий так смешался с грязью и мелкие камни так разнеслись по округе, что двор стал похож на строительную площадку. Ночь к лицу этому двору. Гравий скрипит под ногами, как песок на зубах.
Подъезд. Из подвала тянет сыростью и теплом. Узкие лестничные пролеты на первом этаже скупо освещены меченной краской лампочкой. Хватаясь левой рукой за перила и придавая инерцию свободной правой рукой, он буквально влетает на каждую из следующих девятиступенчатых лестниц. Поворот, перехват руки, на вдохе – ух! – второй этаж. Здесь и на третьем этаже света, как правило, не бывает. Проблема не в том, что соседям жалко лампочек, а в проводке. Несколько лет некому вызвать электрика. Последний пролет. Перехват руки, на вдохе, с шагом через две ступеньки, – раз, два, три. Выдох. Четвертый этаж. Квартира номер двадцать девять. Достает связку ключей, отделяет тот, что от квартиры, как можно тише вставляет его в личинку и проворачивает. Два оборота. Жена всегда закрывает на два оборота, думая, что так безопасней.
Глава 2. Ночь
Осторожно открыть дверь и впустить в квартиру дохлый свет 20-ваттной подъездной лампочки занимает не больше пяти секунд, но этого достаточно, чтобы Кики, в какой бы поздний час он ни пришел и в какой бы комнате та до этого ни находилась, непостижимым образом успела добежать до кресла, вскочить на него, поставив передние лапы на коричневый лакированный подлокотник, и быть готовой ко встрече. Он много раз думал о том, что такое возможно, только если она начинает бежать прежде, чем он вставляет ключ в замок. Например, слышит шаги в подъезде (неужели узнает?) или звон связки ключей (в этом случае у нее есть дополнительные пара секунд). Так или иначе, но по ночам Кики встречает его всегда.
Вот и сейчас Сурен открывает дверь, а она уже на месте, щурит спросонья глаза.
Он тихо закрывает за собой дверь. Включает свет. По квартире разлит запах еды – главный компонент уюта. Дверь в зал открыта, в темной глубине комнаты в стекле часов блестит отраженный свет. Оттуда же слышно глубокое дыхание жены.
Кладет связку ключей на столик, под зеркало, придерживая пальцами, чтобы не звенели. Бросает взгляд на свое отражение и вдруг замирает. Показалось, что увидел другого человека. Померещилось, что их движения – с тем, в отражении, – были не синхронны: он поднял глаза снизу вверх, а тот повел слева направо.
Это усталость. Вздыхает. Максимально широко себе улыбается, так, что усы растягиваются, как меха гармошки, а по краям глаз прорезаются десятки мелких морщин. Отпускает улыбку. Делает максимально безучастное выражение. Смотрит на себя.
Что-то незнакомое появилось во внешнем виде. Как будто бы сейчас видит себя впервые за долгое время. Наклоняется ближе, присматривается. И седина в усах, и эти морщины – каждый день видит их по нескольку раз. Но все-таки появилось что-то чужое. Лицо стало слишком… старым, что ли. Нет, не то слово. Оно как-то потяжелело.
Отклоняется назад. Делает полоборота в одну и другую стороны, ловя свет под разным углом. Гладит себя по щекам, и тактильные чувства пальцев совпадают с видимым в зеркале прикосновением.
Кики едва слышно мяукает. Точнее, издает скрипучий звук, как старая дверца шкафчика (она так и не научилась мяукать): зевает своей маленькой звериной пастью.
Сурен отвлекается от отражения. Расстегивает куртку, снимает ее и вешает. Сгибает колено, расстегивает молнию на внутренней стороне ботинка. Сгибает второе колено, расстегивает вторую молнию. Цепляясь носком противоположной ноги за пятку, по очереди снимает оба ботинка, убирает их на полку. Расстегивает браслет часов и кладет их на тумбочку возле кресла. Под тумбочкой подбирает край провода и ставит телефон на зарядку. И только теперь берет ждущую его кошку под передние лапы и размашистым движением плюхает ее спиной на изгиб локтя, прижимает к себе. Кики тут же начинает урчать. Он выключает в коридоре свет и, касаясь локтем стены, проходит сквозь темноту на кухню, где опять включает свет.
На столе, поверх соломенной корзинки, тканевая салфетка – там должен быть нарезанный хлеб. Рядом блюдце с щепоткой мелко нарезанной зелени. Тут же пустая стеклянная салатница – подсказка жены, что в нее что-то можно положить. На плите казан, накрытый полотенцем. Пальцами свободной руки Сурен зажимает через полотенце ручку его крышки и приподнимает, стараясь не допустить загиба края, чтобы не испачкать полотенце или не замочить конденсатом. Внутри соус: в пузырчатом желтоватом бульоне смесь крупных картофельных кусочков и жирного мяса. Блюдо еще теплое, но приготовлено было больше часа назад. Следя за краями свисающего полотенца, он аккуратно возвращает крышку на место.
Без десяти полночь. Хочется и есть, и спать, но усталость такая, что не хочется ни накладывать в тарелку, ни идти в спальню. Садится на стул, облокачивается на край стола и начинает просто гладить кошку. Еженощный ритуал. Кики его ждала. Она требует ласки. Ее тело – сплошная эрогенная зона. Он ее гладит грубо, а ей только это и нужно. На каждое движение взрывается новой волной урчания, и стоит только остановиться, как она открывает глаза, скрипо-мяукает (продолжай!) и с силой трется вибриссами о ладони и пальцы.
Кики появилась в доме около четырех лет назад. Против их с женой воли ее принес старший сын. С лотком и запасом корма на ближайшую неделю. Она стала жертвой разбитых романтических отношений. Про таких можно сказать: кошка сложной судьбы. Сначала маленьким котенком была подобрана у помойки. Потом несколько месяцев наблюдала короткую историю любви хозяев. А после их расставания быстро стала неудобным сожителем холостяка.
Они с женой были против кошки и много раз об этом сыну говорили. Это было связано с давней историей про другую кошку – Мурку, которую, после того как она стала бесконтрольно гадить на мягкую мебель в квартире, на семейном совете было решено отнести к теще в сарай, где она в первый же день и пропала, а скорее просто погибла. Жена тогда (и теперь) сильно переживала по этому поводу. Долго корила себя. Это была настоящая семейная трагедия.
Сурен навсегда запомнил, как нес Мурку от автомобиля до сарая, как та орала натурально детским голосом, отчаянно пыталась вцепиться в него когтями, разодрав ему и свитер, и руки, как уже у ворот, которые были закрыты, потому что он пришел днем, а тесть с тещей там бывают утром и вечером, он смог взять ее за грудную клетку мордой от себя, передние лапы она беспомощно вытянула вперед, растопырив когти, а задними все пыталась зацепиться за его рукава, как он размахнулся и просто перебросил ее через ворота, и она летела, безнадежно цепляясь за небо. Услышал, как Мурка упала с той стороны, и быстро пошел прочь, чтобы не увязалась следом, потому что могла вылезти в щель под воротами.
Мурка, как и Кики, была подобрана на улице – но жила исключительно домашней жизнью. Так совпало, что и порода у них была одна – европейская короткошерстная. По крайней мере, цвет был такой. Но мордочка у Мурки была светлей, и характер более ласковый. Про нее в семье стараются не вспоминать, но каждый раз, когда это случается, жена обязательно скажет: «Я себе этого никогда не прощу».
Наконец Кики насыщается лаской и спрыгивает с рук. Сурен поднимается и идет по коридору к кладовке в дальнем углу, где вдоль стены стоит разложенная гладильная доска, которую он использует в качестве вешалки. Прямо напротив двери в зал, у шкафа с большим зеркалом, перед которым жена обычно красится, скрипучая половица. Ее никак не обойти, потому что проход ограничен креслом. Сурен знает про неотвратимость ее стекольного хруста, но каждый раз пытается его избежать. И в этот раз, проходя мимо, замедляет шаг, пытается ногу ставить мягко, без резкого нажима. Но половица работает безотказно. Однако этот скрип, несмотря на его резкость, даже в такой тихий час уже давно стал таким же естественным, как громкий ход секундной стрелки часов в зале. Слух его фиксирует, но мозг игнорирует. Сурен прислушивается к дыханию жены – нет, не разбудил.
Свет не включает – хватает того, что добивает из кухни. Снимает свитер, футболку, брюки. Брюки с наглаженными на века стрелками вешает особенно аккуратно, чтобы не перевернуть карманы, потому что в правом хранит деньги. Надевает футболку и трико (бирка неудачно срезана под самый корешок, поэтому долго ищет перед).
Через скрипучую половицу возвращается к свету, заходит ванную. Золотой перстень кладет на край раковины. Долго и тщательно намыливает руки, потом так же долго их моет. Поднимает взгляд на свое отражение. Лицо действительно как будто чужое, но неясно, что изменилось. И главное – когда. Когда в последний раз он смотрел на себя оценивающе? Может, утром, когда брился? Или пару недель назад в парикмахерской? Может, никогда?
Несколько раз набирает полные ладони воды и плещет на лицо. Тщательно умывается. Снова поднимает на себя глаза. Прежняя гордость – пышные усы – обтрепались, как старая щетка для обуви. Поредели и побелели. Волос стал грубым и непослушным. Гладит усы привычным жестом – большим и указательным пальцами – и всё не то.
Возвращается на кухню. Первым делом накладывает соус. Он еще теплый, поэтому решает не подогревать. Добавляет добрую щепотку зелени. Открывает холодильник, на переднем крае стоит банка квашеной капусты. Достает ее, холодную. Снимает тугую пластиковую крышку. Втыкает в капусту вилку и кладет, сколько зацепилось, в салатницу. Убирает банку обратно. С нижней полки дверцы достает початую бутылку водки. Достает из шкафчика над столешницей зажатую пачками макарон ребристую рюмку, на короткой тонкой ножке, стойкую, как оловянный солдатик. Рюмка из тех, что давно осталась одна на белом свете, но ввиду своей оригинальности в ровный строй новобранцев не попала, и все же, пользуясь положением старослужащего, особенно любима и часто используема. И живет здесь – на кухне, на передовой. А не как остальные – в серванте в зале.
Рюмка пятидесятиграммовая. Наливает ее до краев, стоя, держа бутылку на вытянутой руке. Берет двумя пальцами (мизинец в сторону) и с удовольствием выливает содержимое в себя. Медленно, через рот, выдыхает. По груди разливается тепло. Вкуса спирта во рту почти нет – залил так, что язык не намочил. Наливает вторую. Берет, опрокидывает, выдыхает. В этот раз горькая, но опять не закусывает – для усиления вкуса. Ополаскивает рюмку, убирает к макаронам. Убирает и бутылку.
Принимается за соус. На голодный желудок, да еще после горькой водки это просто пища богов. Добавляет молотый перец. Кусает хлеб. Пробует квашеную капусту. Снова подносит ложку соуса. Делает так, чтобы во рту одновременно были и картошка, и мясо, и хлеб, и капуста. Капуста, хлеб, соус. Соус, хлеб, капуста.
Утолив первый голодный позыв, успокаивается. Обращает внимание на Кики. Она по обыкновению села у миски спиной к хозяйскому столу. Всем своим видом, какой-то придавленностью и согбенностью, в том числе прижатыми ушами, она изображает из себя несчастную и обездоленную. Актриса!
«М-м-м», – мычит ей Сурен.
Кики поворачивает голову, заглядывает ему в глаза и, прищурившись, открывает пасть. Это была попытка мяукнуть, но даже для «скрипа» ей не хватает давления в легких. И тут же, следом, выразительно зевает.
Сурен смеется.
– Тебя здесь не кормят, что ли?
Достает из шкафчика пакетик кошачьего корма, отрывает верхний край и выдавливает содержимое в миску. Приходится даже прерваться, чтобы оттолкнуть кошку в сторону, и затем выдавливает остальное. Кики набрасывается на еду.
Сурен вспоминает про зайца. Не мог тот не покалечиться. Скорей всего, в состоянии аффекта добежал до ближайшего куста и теперь лежит немощный, ждет смерти. Возможно, насильственной, ведь лисиц вдоль дороги полно. В этом году попробовать зайчатину, видимо, уже не удастся: весна началась, скоро в полях будет достаточно корма, чтобы не рисковать жизнью и не выбегать на дорогу.
Кстати, муж учительницы – как ее? Терещенко! – из соседнего подъезда – охотник ведь. Возможно, сейчас где-то в поле. Идет в ночи в тяжелых сапогах. С ружьем. Вглядывается в темноту. Прислушивается. Дует ветер. Холодно. Луна ни черта не светит.
Задумывается, видел ли он когда-нибудь соседа с ружьем. Нет, не видел. В охотничьем костюме – да. С ружьем – никогда. И собаки охотничьей у него нет. А как же тогда можно охотиться на зайца в марте, ведь нужна либо собака, либо следы на снегу. Интересно, охотятся ли на зайцев в это время года?
Последние кусочки капусты никак не удается зацепить вилкой. Он собирает их хлебным мякишем и отправляет его в рот. Облизывает пальцы.
Удивительное дело, думает Сурен, но ни разу в жизни не ходил на охоту. Как-то не пришлось. А ведь было бы замечательно упахаться на работе, а в выходные плюнуть на все и укатить с мужиками с ночевкой. Пойти по следу, ружья наперевес. Молчком, чтобы дичь не спугнуть. Присматриваясь, прислушиваясь. Даже не столько ради добычи поехать, и не ради стрельбы, а чтобы просто побыть наедине с природой. А потом, после охоты – плевать, удачной или неудачной – где-нибудь на перевале, у воды или на поляне в лесополосе развести костер, сесть к нему поближе, выпить-закусить и смотреть на небо, или на огонь, или на деревья. Все равно куда смотреть. Ни разу не был на охоте, а ведь это замечательное, должно быть, хобби. Кстати, Альбертыч (старый минводский таксист) тоже охотник. Завтра нужно будет обязательно с ним переговорить. Без ружья пошел бы.
К этому моменту Сурен заканчивает ужин. Наливает в стакан воду из чайника (кипяченая, чистая, невкусная) и выпивает. Ставит стакан в раковину. Собирает тарелки со стола и тоже складывает в раковину – жена завтра помоет.
Возвращается в ванную. Так устал, что и не пошел бы сейчас в душ, но знает, что если не освежиться, то можно остаться без сна. Лезет ногами в холодную ванну. Включает воду. Волос не мочит. Температуру постоянно поправляет, потому что каждые полминуты вода становится все горячей. А потом горячую выключает вовсе и ополаскивается ледяной. Тянется за полотенцем, предвкушает, как сейчас рухнет на холодную простыню и накроется едва весомым одеялом. Но еще зубы…
Выдавливает белую зубную пасту в мелких мятных точках на ровные, не то что его усы, щетинки зубной щетки. Чистит без излишней старательности. Чтобы прополоскать рот, набирает воду через руку, подставленную под кран, – привычка из детства. Такая же, как облизывать палец, чтобы перелистнуть страницу, или закусывать нижнюю губу при смехе, или держать в руке съеденную шахматную фигуру соперника, или отращивать длинные ногти на мизинцах. Как вчера помнит Сурен то холодное прикосновение щеки к ржавой уличной колонке во дворе школы, и воду настолько студеную, что ломило зубы, но необыкновенно вкусную.
Все это время он продолжает смотреть на себя незнакомого в зеркало то с одного ракурса, то с другого. Убирает на место щетку, возвращает на палец перстень. И вдруг обращает внимание на тот фрагмент кожи, что много лет живет под перстнем, без света и свежего воздуха, в золотом панцире. Она здесь удивительно нежная и белая, и из нее инородно торчат длинные неприятные шесть – семь! – черные волосков. Сравнивает с кожей на других пальцах, на других частях руки. Подносит к щеке. Сравнивает на глаз. Касается губой, и даже языком. Так странно.
Когда у него была такая нежная кожа? В двадцать? Вряд ли, в двадцать он вернулся из армии с раздавленными и огрубевшими руками механика-танкиста. Такая кожа была у него до армии. «Такой кожи, – трогает свое грубое обветренное лицо, – больше у тебя не будет никогда»…
Возвращает перстень на место и идет спать.
Сурен уже решил, что к жене не пойдет. Так повелось почти сразу после отъезда младшего сына, что если он возвращается ночью, когда она уже спит, то идет спать в детскую. Иначе и ее разбудит, и сам будет мучиться бессонницей, слушая ее дыхание и боясь лишний раз пошевелиться.
В полной темноте движется по квартире. Для ориентира касается левой рукой угла стены, затем дверной рамы. Через плотные занавески в зал едва сочится уличный свет. Правее окна – едко-красный индикатор телевизора. Дальше – шкаф, с неплотно прилегающей дверцей. К шкафу нужно проходить как можно ближе, потому что напротив него кресло, о ножку которого можно удариться. Скрипучая половица, гори она в огне. Правой рукой касается противоположной стены, делает несколько шагов, и рука проваливается в пустоту – это спальня (детская). Комната, едва наполненная пепельным светом улицы, припорошившим фрагменты мебели и пол. Здесь свежо, потому что форточка открыта. Подходит к ближайшей из двух кроватей, скидывает одежду на пол и ложится.
И только он успевает принять горизонтальное положение, только голова касается подушки, а прохладные ткани постельного белья обволакивают с женской нежностью, как по всему телу разливается сладостная нега, которая погружает в двоякое состояние: с одной стороны, это воздушная невесомость, возносящая в блаженный эмпирей, с другой – чудовищная тяжесть, лишающая малейшей возможности пошевелиться. Фантомными болями отзываются конечности, потерявшие связь с телом. Сурен жадно ловит каждое чувство, давая ему раскрыться в полном объеме, позволяя утащить себя в сон. В темном космосе закрытых глаз вспыхивают миллиарды фосфенов, рисуя бессмысленный цветной калейдоскоп. Узоры появляются хаотично, кружатся и петляют. То низвергаются в центр своего космоса, то извергаются из него. Зацепиться взглядом за эту карусель или хотя бы за ее фрагмент нет никакой возможности, но сама попытка вызывает легкое головокружение, и вот уже Сурену кажется, что он несется по спирали воронки, или по узкому туннелю, или кружится в центрифуге. Так продолжается снова и снова, пока он не начинает чувствовать перенапряжение в глазах и легкое кружение в голове. Не без усилий он открывает – едва ли не раздирает – глаза.
Если бы не край темного ковра, контрастно обрывающийся почти под самым потолком, и не плита такого же темного шифоньера, с могильной молчаливостью возвышающаяся над кроватью, то сизый потолок вполне мог бы сойти за фрагмент неба, в котором он только что левитировал. Пытается проморгаться, расслабить глазные яблоки, расслабить мышцы лица. Все вокруг по-прежнему вязкое и сонное. И он тут же предпринимает вторую попытку провалиться в темное никуда… на самое дно… в мягкий ил… в липкий сон…
Когда слоновой кости ворота Морфея наконец-то открываются перед Суреном, ему в ноги прыгает Кики, и ворота тут же захлопываются. Пытаясь отчаянно цепляться за мир потусторонний, Сурен продолжает неподвижно лежать, ровно дышать и ни о чем не думать. Но действительность неумолимо кристаллизуется в осязаемые детали. Он чувствует, как Кики осторожно ступает по одеялу, нащупывая удобное место, и ложится между ног. Через пару секунд звуковой вакуум ночи наполняется урчанием. Еще через мгновение Кики принимается цепляться когтями за одеяло. Сознание фокусируется на кошке все больше. Он чувствует ее сердцебиение. Чувствует, как она вдруг начинает тянуть одеяло все сильней и сильнее, пытаясь сорвать зацепку, а когда ей это удается – раздается легкий щелчок и одеяло опадает.
Чем более четким становится сознание, тем менее удобной становится принятая поза. В конце концов Сурен отталкивает Кики и переворачивается на бок. Еще через пару минут с глубоким вздохом признает, что с наскока прыгнуть в забытье не удалось. Это досадно, но предсказуемо, потому что он уже не первый месяц сожительствует с легкой формой бессонницы. И даже на Кики не сердится, потому что не уверен, что то состояние, из которого она его вызволила, было именно сном. Наоборот, он рад, что этой ночью Кики пришла спать к нему, потому что ее присутствие его успокаивает.
Лежит на левом боку в позе эмбриона. Руки под подушкой. Одеяло на плечах. Голенью чувствует Кики. Думает о том, что находится в идеальном состоянии, чтобы заснуть, – сытый и уставший. Однако сознание, как своевольного ребенка, никак не удается подчинить. Оно принимается в случайном порядке перебирать события дня и как-то их анализировать. Сурен гонит эти мысли прочь, старается следить за дыханием, чтобы забыться под гипнозом монотонности. Какое-то время у него получается сохранять контроль, но потом теряет концентрацию, и вот уже перед глазами предстает газовый котел, с которым завтра нужно разобраться, почему он тухнет. Возможно, как-то повредился обратный клапан, который сдерживает давление воздуха снаружи. Или засорилась дымоходная труба. Хоть бы не труба, чтобы не пришлось лезть на крышу. Стоп!
Делает глубокий вдох и опять пробует вернуться к дыханию. Проходит какое-то время, и он замечает любопытную вещь: вдох и выдох делаются не с одинаковой скоростью. Вдох взлетает к своему пику и тут же бросается вниз. Выдох же проваливается в пустоту, и проходит несколько заметных долей секунды, прежде чем он обернется вдохом. Этот маленький кусочек кожи спрятался от внешних неприятностей в золото и сегодня выглядит здоровым и молодым. Так богач может оградить себя от неблагоприятных воздействий и в свои пятьдесят выглядеть на сорок, а не на шестьдесят, и умереть в девяносто, а не в семьдесят. Сколько нужно иметь денег, чтобы свое тело сохранить в таком же состоянии, как кожа у этого баловня? Миллион в месяц? В день? Но у него нет семьи, нет судьбы, он безгрешен. Он несчастный затворник, обреченный… Стоп!
Вздыхает. Максимально расслабляет мышцы лица. Обращает внимание, что не заметил, когда Кики перестала урчать. Спрашивает свое тело, удобно ли ему лежать. Да, ему удобно. И воздух свеж. И время уже, наверное, около часа. Спать, спать, спать. Вновь принимается следить за дыханием. За этими качелями: вдох – выдох, вверх – вниз. Взлетел – упал. Поднялся – опустился. Заработал – потратил. Сегодня есть клиент – два дня нет. А двести километров на дорогу, хочешь не хочешь, оплати. Час туда – час обратно. Там слоняешься от рейса к рейсу, с утра до вечера, изо дня в день, из года в год. А в чем измерять результат? Из достижений только прожитые годы…
Через закрытые веки замечает свет. Открывает глаза – в углу дальней от окна части потолка хилый луч света трапециевидной формы медленно набирает форму. Это свет фар автомобиля, ползущего задними дворами к дому. Если прислушаться, то можно различить работу двигателя. Сначала свет тянется медленно, но достигнув середины комнаты (люстры), делает два резких прыжка: к окну и вправо – и исчезает. Сурен внимательно прислушивается. Звук двигателя плавно угасает: значит, во двор не повернул, а поехал дальше. Это либо автомобиль вневедомственной охраны, либо полиции. Если посигналит, то полиции, потому что проезд заканчивается воротами РОВД. Открытая парковка охраны находится чуть раньше. Слушает. Двигатель уже работает так тихо, что Сурен не уверен, слышит его или уже нет. Тишина затягивается. Значит – охрана. Но короткий сигнал все-таки раздается.
С грустью Сурен замечает, что сосредоточиться на дыхании вновь не получилось. Аккуратно, помня о Кики, переворачивается на живот. Подушку подминает под себя, ложась на нее грудью. Вспоминает, как лет десять назад, стоило ему только вернуться с работы, старший сын брал до утра автомобиль. А поскольку у автомобиля был уникальный сигнал («Крестный отец»), а возраст у сына был амбициозный (двадцать два года, только вернулся из армии), то он до полуночи слышал сигнал из разных концов поселка. Не ругал, относился с пониманием.
Раз прием с дыханием не получается, он переходит ко второму приему – мысленной реконструкции маршрутов. Иногда помогает. По крайней мере, это лучше, чем оставить мозг без присмотра, потому что в этом случае мозг будет себя истязать до рассвета. Маршруты по поселку «исходил» вдоль и поперек так, что они наскучили. Бывало, пробовал улицы Лермонтова, но из-за нелюбви к этому городу перестал. Прошлой ночью отключился на воспроизведении своей воинской части: казарма, танковый бокс… Много важных ее деталей потеряны безвозвратно. Например, так и не вспомнил, как выглядела столовая, как будто ее и не было.
Вдруг перед глазами видит лесной пейзаж. Мимо янтарных, в закатном свете, стволов лиственницы бежит утоптанная тропа. В нескольких десятках метров впереди она скрывается за большим каменным валуном, лежащим на краю склона. Еще дальше, в низине, в полукилометре от точки обзора, поднимается густая стена таких же острых лиственниц, покрывающих следующую сопку, с проплешиной на левом боку. Эта тропа есть часть секретного маршрута к месту их браконьерского промысла. Одно мимолетное воспоминание о тех школьных лиходействах, и Сурен явственно слышит и шум ледяной речки, и обоняет пропахший рыбой мешок, и чувствует его тяжесть и текстуру, и вновь ощущает то бесконечно счастливое состояние жадно пьющего каждый день жизни мальчишки.
Поворачивает голову направо. Поудобней устраивается на подушке. Он готов добровольно утонуть в каждой детали того благословенного времени. Начнет прямо от реки, от поляны, на которой еще дымится кострище, обложенное почерневшими от сажи камнями. Их несколько человек: он, братья, соседские мальчишки. Каждый из них поднимает по два неполных мешка, связанные между собой тряпками и перекинутые через шею, и отправляются в путь. Сначала крутой подъем от реки. Берег здесь более-менее утоптан, прочные части дерна выступают заменой ступенек. Если оступиться, то нога поедет, поэтому идут след в след. Поднявшись наверх, нужно все время следовать на запад. Перед глазами проплывают виды возвышающихся в отдалении сопок, которые служат ориентиром движения. Некоторые из них и сами становятся частью маршрута, потому что их приходится обходить то справа, то слева. Сурен помнит каждое поваленное дерево, каждый куст, за которым мерещился медведь, каждую поляну, на которой они делали привалы, каждый родник.
Этот маршрут выведет на тропу грибников не раньше чем через десять километров, но до нее еще нужно добраться. По пересеченной местности, под грузом негабаритной ноши и с отекшими плечами, они добираются до тропы уже ближе к закату, уставшие и изможденные настолько, что не остается сил на разговоры. Впереди еще несколько километров, в том числе тот крутой подъем, с вершины которого угрожающе нависает каменный валун. Сколько мальчишек мечтало столкнуть его вниз! Тропа узкая. Идут друг за другом. Сурен видит ноги впереди идущего. Не разглядеть, как ни старайся, во что он обут. Мешки бьются о колени и время от времени вынуждают оступиться. Сильно пахнет рыбой. Пару дней от этого запаха не отмыться. Мешки сырые: чем дольше несешь, тем они тяжелее, а чем ближе к вечеру, тем они холодней.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!