Текст книги "Филологические сюжеты"
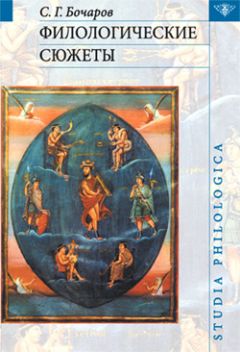
Автор книги: Сергей Бочаров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Одно из очень интересных мест «перехода действительно—стей» в композиции «Евгения Онегина» – знаменитое заявление (неожиданное после картины слияния в «дружбе») про разность между Онегиным и мной:
Чтобы насмешливый читатель
Или какой—нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.
По первой видимости, здесь речь идёт о психологическом различии между приятелями, их разном взгляде на деревенскую жизнь: повод для этого размышления. Но постепенно, строка за строкой, оно смещается из плоскости жизни в плоскость отношения литературы и жизни, автора и героя: Писать поэмы о другом.
В этом ином повороте понятия о разности и о другом имеют уже иное значение. Речь идет об особой проблеме «другого» – о собственно литературной проблеме. Имя Байрона – это отметка об эволюции Пушкина, столь стремительной, после романтических первых поэм, где автор не мог помыслить другого иначе, как только другое «я»: было именно невозможно писать поэмы о другом.
В строках о разности этот другой уже не рядом со «мной», но я обратился в другого. Два субъекта эти нельзя уже сопоставить как двух людей, нельзя их сличить. Поэтическое я переходит в объективность романа, обращается, становится ею и пребывает в этом другом объективном мире уже совершенно иначе, в качестве автора, нежели в практическом мире это я присутствует человеком. Позиция автора в мире романа принципиально несопоставима с какой угодно человеческой позицией в мире практическом; позиция автора истинно объективная, позиция целого. Автор равен целому созданного им мира, но не может быть равен целому мира, кто бы он ни был, один человек и, соответственно, не равен целому мира романа какой угодно его герой, Онегин не равен автору. В этом смысл размышления о разности, в процессе которого отношение двух друзей переходит в отношение автора с самим собой как с другим, не равным ему субъектом, бесплотным, рождённым в его голове другим человеком. И в этом смысл называния Байрона, ибо, в отличие от романа, в байронической поэме автор был равен герою, а герой был равен целому всей поэмы.
Об объективности и «протеизме» Пушкина писали множество раз, начиная с Киреевского и Гнедича; позже, в 40–е годы уже, об объективности Пушкина особенно ясно сказал Гоголь: «Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина её нет. Что схватишь из его сочинений о нём самом? Поди, улови его характер, как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящий отклика». Для Гоголя объективность Пушкина – уникальная, идеальное поэтическое сознание: «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше.».[39]39
Гоголь. Т. VIII. С. 382, 381.
[Закрыть]
Как заметно расходятся эти характеристики с оценками близких друзей—литераторов в 20–е годы, в ходе возникновения «Онегина», по прочтении той или иной главы! Катенин и Вяземский, мы помним, замечали прежде всего самого Пушкина, «его характер, как человека», его разговор и весёлость. Они были близко и к Пушкину самому, и к его на глазах возникающему «созданию»: они ещё не имели целого и видели отдельные стихи или, самое большее, главы. Гоголь судит о Пушкине в целом с большой дистанции и временной и личной, ибо и личное его отношение совершенно другое, нет для него эмпирического житейского Пушкина, а есть «русской человек в его развитии» и есть «сам поэт».
Так роман в стихах по—разному воспринимается «слишком близко» и «на расстоянии», подобно тому как смотрится живописное полотно. Необходима дистанция, чтобы мазки превратились в формы, и необходима дистанция (чувство дистанции, которая есть объективно в романе, распределяет его отношения в плане), чтобы в полном объёме раскрылся основной в композиции всеобъемлющий образ я, который ступенями переходит от приятеля или частного Пушкина к сознанию автора, ставшему объективным миром романа, равному целой жизни. Этими переходами нам представлено удивительное явление – объективность поэтического сознания, его особая человеческая природа: ибо оно громадно перерастает и превосходит отдельное я поэта.
Поэтому в «Онегине» – разные измерения я. То и дело является частное я, единица большого мира: В сем омуте, где с вами я / Купаюсь, милые друзья!; Иль просто будет добрый малый, / Как вы да я, как целый свет? Своего рода масштабом может служить фигура в нескольких строфах первой главы – мы уже говорили о ней. Сам Александр Сергеич Пушкин / C мосьё Онегиным стоит. Здесь образ я наиболее воплощён, вошёл в сюжет Онегина действующим лицом, из голоса обратился в тело. Здесь я вполне в той же самой действительности и в одном размере с героем романа; но этот я, наиболее воплощённый, наиболее отчуждён, ограничен, связан, условен, фиктивен. Он только озлоблен и всеми чертами Онегину равен; их разность начисто в строфах о «дружбе» забыта. Он даже «меньше» чуть—чуть своего приятеля, смотрит несколько, как ученик, снизу вверх: Сперва Онегина язык / Меня смущал; но я привык… Этим я—персонажем, словно масштабом, можно измерить соотношения планов в композиции романа в стихах. Сам Александр Сергеич Пушкин в широких границах я всего более далёк от настоящего Пушкина.[40]40
«Пушкин также не любил слыть в обществе стихотворцем и сочинителем. Таковым охотно являлся он в кабинете Жуковского или Крылова. Но в обществе хотел он быть принимаем как Александр Сергеевич Пушкин» (П. А. Вяземский. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина // Полн. собр. соч. Т. II. СПб., 1879. С. 349; Он же. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 305–306).
[Закрыть] Вот почему нам кажется лишь относительно верным следующее замечание Г. Гуковского: «автор в „Евгении Онегине“ – не демиург мира, а лишь наблюдатель и комментатор событий, стоящий рядом с героями и не поглощающий их. Он равен им в качестве такого же объективного лица.».[41]41
Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гослитиздат, 1957. С. 144.
[Закрыть] Но это лишь малое я, и видеть в качестве «образа автора» только его – значит рассматривать слишком близко «живопись» пушкинского романа.
Пушкин наполнил роман в стихах отражениями своей биографии; но он в то же время советовал не жалеть о потере записок Байрона (в письме Вяземскому): «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». В знаменитых стихах он показал поэта как житейское существо:
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Л. Гинзбург замечает об этом стихотворении, что, напечатанное в «Московском Вестнике», журнале русских шеллингианцев—романтиков, оно расходилось принципиально с их образом поэта, их представлением о тождестве жизни поэта с его поэзией и непричастности бытовой эмпирической жизни. «В своем „Поэте“ Пушкин, напротив того, изобразил человека двойного бы—тия.».[42]42
Лидия Гинзбург. О лирике. Л., 1964. С. 197.
[Закрыть]
Замечу кстати: все поэты – / Любви мечтательной друзья, – автор в «Онегине» рассказывает о своей поэтической эволюции. Он был прежде таким поэтом, как «все поэты», и сейчас вступил в другую эпоху. Бывало, милые предметы снились ему, их после Муза оживила: Так я, беспечен, воспевал / И деву гор, мой идеал, / И пленниц берегов Салгира. Опыты жизни (любовь) и поэзия слиты и представляют нечто тождественное: воспеваются под девой гор свои сугубо личные впечатления, переодетые и непосредственно возведённые в идеал воспоминания о милых предметах. Таковы все поэты: это в романе героев Ленский.
Теперь отношение личных опытов с творчеством совершенно иное. Они разделяются и даже противоречат друг другу. Но я, любя, был глуп и нем. Поэзия – не сублимация личных эмоций, и поэт свободен, не замкнутый в «человеке»:
Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился тёмный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.
В другое время русской литературы и жизни Блок скажет в докладе о кризисе русского символизма: «Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком».[43]43
А. Блок. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 436.
[Закрыть] Это кредо поэта восходит в традиции нашей литературы к Пушкину как к началу.
В «Онегине» художник дан в жизни простым человеком. Сознанию я это собственное простое «я» представляется на дистанции, в ряду персонажей романа и с ними встречается, даже смешивается в этой сфере сознания. Образ я ступенями переходит от простого человека в непростое сознание, способное обратиться и стать другим, другим объективным миром, воссозданным в творческой композиции из эмпирических материалов этого мира, в котором «я» эмпирически существует.
Итак, композиция пушкинского романа – это противоречие автора с человеком в единстве я: живое противоречие, как мы говорили. Субъективное «я» человека переходит в объективность сознания автора, «жизнь» романа героев; но роман и герои – мои: в объективности сохраняется субъективная предпосылка, в авторе не угасает живой человек. В «Онегине» удивительный автор: в нем естественно и синкретно соединяются качества, какие в дальнейшем развитии русской повествовательной литературы уже, как правило, вытесняют друг друга. В повествовательной прозе растёт конфликт эпического автора и рассказчика: либо всезнающий автор присутствует идеально, безлично, либо потребность в мотивировке рассказа человеческим личным присутствием и свидетельством ведёт к замещению идеального автора реальным лицом рассказчика с неизбежно относительным и ограниченным «человеческим» кругозором. Если искать примеры, то, вероятно, Толстой тяготел к абсолютному автору, Тургенев – к рассказчику – «человеку» (близкому человеческой личности самого автора). Б. Эйхенбаум, исследуя раннего Толстого, показал, как Толстой находил постепенно «свою» позицию автора, как после «Набега» и «Рубки леса» с рассказчиком – действующим лицом, но сторонним наблюдателем и комментатором, в «Севастополе в мае» на место рассказчика явился автор и его голос, «голос уже не постороннего, а потустороннего существа»,[44]44
Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы. Л.:Прибой, 1928. С. 175.
[Закрыть] автор всезнающий и всевластный.
В «Онегине» подлинный, полноценный автор, сознание объективное, не замкнутое относительным «человеческим» кругозором. Это Пророк, в котором чудесно преобразованы человеческие способности:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Всё внял он, ни одного недоступного, тёмного уголка, по лестнице бытия от самого верха до самого низа, буквально от «А» до «Я»: теперь мы вспомним слово Белинского об «энциклопедии русской жизни», и мы почувствуем, сколь отвечает оно универсальной поэтической позиции Пушкина—автора. Также и Гоголь, чтобы сказать о Пушкине, обратился к понятию «лексикона».[45]45
«В нём, как будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка» (Гоголь. Т. VIII. С. 50).
[Закрыть]
Но, по замечанию Г. Винокура, в энциклопедии «Евгения Онегина» все отделы подписаны одним именем. Идеальный автор присутствует не безлично, он не «потустороннее существо», как автор Толстого. Формы его присутствия – местоимения я и мой: Пророк с его сверхъестественным даром сохранил, однако, естественный грешный язык, и празднословный, и лукавый: «Роман требует болтовни», как наставлял Пушкин Бестужева, – но только роман в стихах осуществит это требование, не послепуш—кинский прозаический роман с эпическим автором. В «Онегине» настоящий всеведущий автор, однако всегда в себе сохраняющий человеческого рассказчика; но этому рассказчику не присуща предельность, ограниченность позднейших рассказчиков в прозе; рассказчик – и он же творец, демиург; но творец—профессионал, к творчеству своему относящийся как к честному ремеслу; Пророк, по слову Гоголя, «сам поэт», сама объективность, и вместе с тем эмпирический человек с биографией: противоречий очень много, но они не обособились пока, не разрушили органического живого единства. Живое противоречие я, живая и субъективная объективность повествования – «со всею свободою разговора или письма» – этого тоже хотел от романа Пушкин. После в литературе подобный автор уже невозможен – Пушкин «неповторим».
3
По мысли М. Бахтина, роман отличает «особая (новая) зона построения художественного образа, зона контакта с незавершённой современностью (осознанный отказ от эпической и трагической дистанции). Эпическая память и предание начинают уступать место личному опыту (даже своеобразному эксперименту) и вымыслу».[46]46
М. М. Бахтин в контексте русской культуры ХХ века. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 135.
[Закрыть] Эта характеристика освещает особенность плана пушкинского «Онегина», самосознательного романа.
«Онегин» именно построен в «зоне контакта с незавершённой современностью» и поэтому построен как отождествлённый мир романа и жизни. Этот смешанный мир демонстрирует отказ от эпической дистанции, о чём говорит М. Бахтин. В творческой эволюции Пушкина это отказ от дистанции, которая содержалась в самом материале романтических южных поэм. Тема «Кавказского пленника» была целиком современной, но материал отодвигал её на дистанцию. В предисловии к первой главе «Евгения Онегина» автор предвидел, что «станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского Пленника». Современный этот характер в романе дан «без дистанции», создававшейся обстановкой Кавказа или цыганского табора.
Однако в этом изображении «без дистанции» заключена особая трудность искусства и его новое противоречие и проблема. Можно даже сказать, что с отказом от выраженной наглядно в самом материале дистанции и возникает проблема дистанции как осознанная задача искусства. Если современный характер – «антипоэтический», то дистанция, создававшаяся материалом Кавказа, делала его «поэтическим». В этом своём качестве герой становился равен поэтическому сознанию автора, речи его не изображались, но прямо произносились поэтом, объективность предмета сливалась с субъектом автора, или, что то же, объективная позиция автора была равна субъективной позиции героя поэмы. Обсуждая «Цыганов», Рылеев и Вяземский хотели большей дистанции для Алеко в его цыганской профессии, недовольные тем, что он ходит по сёлам с медведем: занятие Алеко само по себе должно было быть поэтическим. Такого рода дистанция от случайного, частного опыта, «прозы» сближала, до совпадения, тождества, всё частное и отдельное непосредственно с общим и целым. Специально поэтическая дистанция оборачивалась очень слабым её различением во внутреннем однородном пространстве поэмы.
Иная поэтика – внутренняя дистанция, выражающая отношение (всегда нетождественное) частного и отдельного к целому и всеобщему в мире произведения. А. Бестужев укорял Пушкина: «дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов?» (13, 149). Это критика с точки зрения «поэтической дистанции». С этой точки зрения Онегин дан без дистанции, эмпирически. Пушкин отвечал: «Твоё письмо очень умно, но всё—таки ты неправ, всё—таки ты смотришь на Онегина не с той точки, всё—таки он лучшее произведение моё» (13, 155). Пушкин осознанно созидает роман, «как мир», подобно целому миру, и этим определяется его новый образ дистанции.
У Пушкина роман представлен копией, калькой мира. Копию приводят к оригиналу и получают парадоксальную композицию мира. Пушкин извлекает эффект своей композиции из подобия «мира» миру; он изображает отношение реальности и картины, предмета и образа предмета; он сопоставляет, сближает и переходит границу, снимает дистанцию, отождествляет, сливает изображение и предмет. Что из этого получается, мы уже знаем. Именно смелость нарушить границу и снять дистанцию показывает сознательного художника, показывает понимание проблемы дистанции. Когда, по рассказу поэта в «Онегине», он воспевал деву гор, мой идеал, то дистанция этого образа с бытовыми милыми предметами была куда как огромна; однако как раз поэт наивно, без всякой дистанции, субъективно, возводил непосредственно в «идеал» биографические впечатления, «любовь»: таковы все поэты. Иное дело – «поэт действительности», как наименовал себя Пушкин: он работает на близкой дистанции и должен не утерять её. Он должен совладать с новой трудностью, которая позже в Европе перед Флобером встанет в наиболее острой форме как необходимость вчувствовать себя в другую и чуждую человеческую натуру, максимально близко к ней подойти и в неё войти и при этом остаться вне, сохранить дистанцию. «Очень трудно, – пишет Флобер, – как следует выразить то, чего сам не перечувствовал; нужна длительная подготовка, приходится чертовски ломать голову, чтобы не перейти границы и в то же время приблизиться к ней вплотную».[47]47
Г. Флобер. Собр. соч. Письма 1831–1854. М.; Л.: ГИХЛ, 1933.С. 281
[Закрыть] Так «поэт действительности» у себя и в читателе развивает чувство дистанции при «наибольшем сопротивлении». Его дистанция, не выраженная непосредственно в материале, должна быть в большей степени отношением к материалу; близкая дистанция должна быть наиболее сознательной и активной дистанцией. Такую и строит в «Онегине» Пушкин.
По мысли М. Бахтина, существенную роль в подготовке романа как жанра сыграли в европейской литературе пародии и травестии эпических жанров; пародийно—травестирующее творчество поздней античности и средних веков разрушало эпическую дистанцию и вовлекало традиционные образы в контакт с «незавершённой современностью». В творческой эволюции Пушкина аналогичную роль в подготовке романа в стихах, несомненно, играли такие поэмы, как «Руслан и Людмила» и «Гавриилиада».
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты право, обманулась:
Я не тебя, – Марию описал.
Но она обманулась недаром: в описание прелестей Девы еврейка может смотреться как в зеркало. Мария изображена «без дистанции»; одна еврейка перед другой – портрет и живая модель за рамой, перед картиной. Автор в этих строках показывает дистанцию между настоящей вдохновляющей его реальностью и переодетым повествованием. В самом деле, мадонна срисована с этой еврейки, что глядится сейчас в поэму; между ними нет традиционной дистанции, а есть дистанция образа и предмета, портрета и живой натуры, существующей вне обрамления.
Итак, дистанция между романом и миром изображена в композиции «Евгения Онегина». Роман героев охвачен миром как более общим контекстом; но поэтому нам дано почувствовать также более общую связь и за пределами пушкинского романа. В превосходной статье о «Менинах» Веласкеса М. Алпатов говорит об этом полотне: «Глядя на то, как в картине Веласкес пишет портрет Филиппа, мы можем догадаться, что Веласкеса, который пишет Филиппа, писал Веласкес настоящий. Мы как бы восходим ко все более высокой степени реальности, но никогда не достигаем абсолютного».[48]48
М. Алпатов. Этюды по истории западноевропейского искусства. М.: Изд—во Академии художеств СССР, 1963. С. 251.
[Закрыть] Подобным образом в «Онегине», наблюдая различные превращения я от приятеля и самого Александра Сергеича Пушкина до автора, который пишет этот роман, мы знаем, что этого автора, этого Пушкина писал настоящий Пушкин. Дистанция между изображением и реальностью входит в роман как образ. Роман – лишь с живой картины список бледный, говорит нам это чувство дистанции.
Но такова лишь относительная истина для Пушкина; дистанция между романом и жизнью не абсолютная, она относительна, и это также показано в композиции. Её смысл поэтому так искажает популярное объяснение в духе «обнажения приёма», демонстрации художественной условности, «технологии», «лаборатории творчества» и т. п. Таким объяснением обесценен роман героев, повествование об Онегине и Татьяне, он превра—щён в подопытный материал, литературную игру, развенчанную иллюзию, разобранную игрушку. Но Пушкин серьёзен к художественной иллюзии, он только хочет поставить её в объективное отношение с миром. Пушкин со стороны рассматривает роман, но не из литературной лаборатории только, а из большего целого, чем роман и чем действительность, которая в нем «отразилась». Что до лаборатории, она сама изображена внутри действительности романа вместе с сидящим в ней и сочиняющим рифму поэтом. Формалистское объяснение не охватывает как раз всей конструкции, всего здания пушкинского романа. «Роман о романе» – этот титул не совсем лишён оснований, только определяет он не специально «технологическую», но объективную, художественно—космическую пушкинскую позицию.
Мы помним: автор, герой, читатель рядом сошлись в несовместимой действительности. Несовместимость, однако, бросается нам в глаза, когда мы исходим из отношения «жизнь – роман». Но отношение это не абсолютно, и Пушкин не замкнут в нём. За границами этого отношения в изменившейся перспективе оправдан построенный Пушкиным смешанный мир. Недаром он так естествен для единого я романа – человека и автора вместе. Противоречие и единство романа и жизни одновременно даны в единстве сознания я. В этом духовном космосе Евгений Онегин имеет свою несомненную реальность, соизмеримую с реальностью «настоящих» живых существ. В самом деле роман продолжает жизнь, является прибавлением к ней. Онегин не повторяет никого из людей, этой личности в мире нет, Онегин, хотя и духовно, рождён. В отношении к любому возможному прототипу Онегин – другой. Он не тень реального человека, он ещё один человек, реальный по—своему. Пушкин предусмотрел популярную литературоведческую методологию, когда написал: Сличая здесь мои черты. Сличая черты, нельзя Онегина перевести целиком в какого—нибудь человека – «натуру»; литературный герой с как угодно «похожим» действительным типом помещается рядом, как прибавление к бытию. Поэтому совмещённая композиция пушкинского романа, где Онегин и сам Александр Сергеич Пушкин гуляют рядом в общем пространстве, изображает единство романа и жизни в составе целого бытия.
Так наивность отождествления мира и «мира», романа и жизни делается оправдана как универсальная перспектива, всеобъемлющее воззрение Пушкина, тот энциклопедизм его, который был угадан Белинским. В энциклопедии в общем ряду помещаются вещи из разных сфер, и, например, Дон Кихоту может быть посвящена отдельная статья, наравне с Сервантесом. В энциклопедическом пушкинском мире свободно встречаются не только автор с героем, но герой с бытовыми знакомыми Пушкина и даже с героем другого произведения другого поэта, другого Пушкина: мой брат двоюродный, Буянов из Василия Львовича Пушкина. В «Онегине» мы читаем: …уверен, / Что там уж ждёт его Каверин; К ней как—то Вяземский подсел. Современному глазу в этих строках заметно внедрение непретворённого, «голого» факта, реальной сырой детали в «художественную ткань»; это станет потом интересной и острой проблемой искусства и его особенной трудностью: «Нос „реальный“, а картина—то испорчена», – как скажет Чехов о том, что случится, если в лице на картине Крамского вырезать нос и вставить живой. Вторжение сырого материала из мира разрушительно для замкнутого «другого мира» картины. В XX веке её размыкают, в самом деле вставляя живые носы или хронику в кинофильм, таким образом организуя напряженный контакт «реальностей». Но то, что становится после так напряжённо, у Пушкина существует как будто бы без усилия, не составляя как будто проблемы, являясь первоначальной целостью взгляда. Замкнутый мир романа героев не замкнут в изображённом сознании автора, и сам роман Пушкина одновременно завершён и не замкнут, открыт. Смешанная реальность Пушкина содержит в себе противоречивые истины, по отдельности каждая лишь относительна и предполагает истину более полную. Относительно подобие романа и жизни; но относительно также и их различие: то и другое нам говорит синкретическая композиция Пушкина.
Мы говорили об образе пространства в «Онегине»; несколько слов о другом всеобщем измерении – времени. Оно так же неоднородно и двойственно. Пушкин писал в «Примечаниях»: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю». Исследователи составили календарь событий романа Онегина (1819–1825). Пушкин сочинял роман с 1823 по 1830 г.[49]49
Годом позже отдельно написано письмо Онегина Татьяне.
[Закрыть] Примерно столько же времени пишется роман, сколько он длится. В «Евгении Онегине» есть время романа героев и есть время написания романа (время автора), также изображённое здесь, включённое в пушкинский роман вместе со временем героев. В построенном Пушкиным совмещённом, сдвоенном мире время автора «продолжает» время героев: история рассказывается с близкой дистанции в несколько лет, идёт по следам. Но мир двоится, и времена соотносятся иначе. Они, как ни странно, «одновременны». Герои живут, их роман продолжается, пока он пишется автором, и столько же времени, сколько он пишется. Так как автор дан человеком, и время написания романа дано «человеческим» временем – биографическим временем я. Я, пока пишет, меняется, обретает зрелость, познаёт глас иных желаний, влечётся к суровой прозе и пр. Перемена личного тона в последних главах мотивируется летами: так объясняется в пятой главе решение очищаться от отступлений, и, таким образом, расстояние от первой до пятой главы (три года жизни Пушкина) измерено эволюцией «я» – человека. В финале веха, отмеряющая личное, прожитое писавшим автором время, – воспоминание о тех, кому он строфы первые читал… / Иных уж нет, а те далече… Так в роман включено и время автора в промежутках между писанием строф. Герои в рамках романа живут такое же время, как автор, пока он пишет о них, и автор живёт и «вместе с ними» меняется «на столько же времени» самым естественным образом.
Ужель и впрям, и в самом деле,
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
Так образ времени тоже являет в романе «незавершённую современность».[50]50
Ср. замечание Америко Кастро в статье «Воплощение в „Дон Кихоте“»: до романа Сервантеса «нереальное время повествования и современное время писателя были несовместимы» (Americo Castro. Incarnation in «Don Quixote» // Cervantes across the centuries… N. Y., 1947. Р. 138). «Дон Кихот» и «Евгений Онегин», при очевидных конкретных различиях, связаны через века «перекличкой» как два романа, стоящие в начале литературного цикла, поэтому романы структурно самосознательные, с особым синкретным художественно—теоретическим характером, обширным, «космическим» планом и сложно расчленённым составом; эти «первые» романы «больше» («шире») следующих за ними более «типичных» романов. Очень остро чувствовал это различие Флобер, который писал о Рабле и Сервантесе: «Эти книги буквально подавляют. По мере того как всматриваешься в них, они вырастают подобно пирамидам и в конце концов начинают пугать. Какими карликами кажутся в сравнении с Сервантесом другие. Господи, каким чувствуешь себя маленьким! Каким маленьким!» (Г. Флобер. Собр. соч. Письма 1831–1854. С. 281).
Пушкинский роман в стихах вырастает тоже, по мере того как всматриваешься в него.
[Закрыть]
Итак, «роман» в «Онегине» совсем не только лишь специально литературное дело, проблема романа гораздо больше литературной проблемы. Вспомним сюжет Онегина и Татьяны: проблема «романа и действительности» является жизненным делом их. Мы можем теперь, представив себе композицию «Евгения Онегина» на всех её этажах, заметить, что на разных уровнях повторяется, воспроизводится то же самое отношение.
Роман героев – «роман в романе», охвачен сознанием автора, действительностью автора, миром. Но если мы вступим в роман героев как в замкнутый мир, мы найдем, что здесь, в свою очередь, люди жизнью своей решают проблему «романа и жизни». В романе героев не только читают романы, но их «живут». Так живет Татьяна, и так она любит Онегина. Для нее Онегин – отождествлённый образ живого человека с милым героем. Реальность Онегина за романическими оболочками остаётся проблемой до самых последних страниц: проблемой не только сознания Татьяны, но жизни самого Онегина. Люди жизнью разбираются в себе и других как в действительных существах или же «персонажах». Проблема реальности выясняется во взаимосопоставлении замкнутых образов мира – сознаний, своего рода «романов», которые люди сооружают себе для жизни.
Отношение «жизнь – роман», таким образом, это внутреннее отношение и собственная проблема романа Онегина, мира героев. В свою очередь, этот последний представлен романом в романе, «миром» в реальном авторском мире. Но и этот авторский, настоящий мир оказывается ещё не последним целым в пушкинской композиции; в завершающих строках «Онегина» неожиданно ещё изменяется перспектива, и этот мир автора и людей рядом с ним, его друзей, которых иных уж нет в этом мире, – этот мир вдруг тоже оправлен в раму и созерцается тоже «романом»:
Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочёл Её романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
Такова завершающая ступень в ступенчатом построении романа «Евгений Онегин».
1965









































