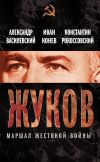Текст книги "Обреченность"

Автор книги: Сергей Герман
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
* * *
Вечером 26 октября 1941 года у деревни Княжицы к казакам явились трое перебежчиков из отряда майора Яснова. Об этом доложили дежурному офицеру. Последний немедленно связался со штабом батальона.
– Перебежчиков немедленно ко мне! – приказал Кононов.
Допросив перебежчиков, он решил уничтожить советский десант. Тут же был отдан приказ о выступлении. К вечеру батальон выдвинулся в район деревень Круглое и Тетерев. На рассвете следующего дня сотни заняли исходное положение для атаки. В 6.00 батальон атаковал. Для советских парашютистов эта атака стала полной неожиданностью. Казаки заняли села Мортяновичи, Глубокое и Шепелевичи. 1-я и 2-я сотни после короткого боя выбили «Штабную» группу из укрепленного лагеря и стали теснить ее в направлении Полесье. 4-я сотня атаковала Полесье. Командир сотни бывший капитан Тихонов, нанеся главный удар с юга, открыл противнику проход на северо-запад. Он сделал это для того, чтобы «Полесская» группа противника не смогла уйти на юг или юго-запад, где она могла бы соединиться со «Штабной» или «Лесной» группой.
«Полесская» группа погибла полностью. Вскоре была уничтожена и «Штабная» группа. Комиссар отряда был убит, командиру удалось скрыться.
С «Лесной» группой бой затянулся почти до 13.00, и в него к этому времени в бой ввели весь батальон, кроме конвойной сотни. К вечеру бой утих. Казачий батальон отошел в Шепелевичи и стал на ночевку. Более двадцати казаков эскадрона были убиты. На крестьянском гумне лежали в ряд – двадцать шесть человек. Кто-то разложил их по росту, тщательно расправил окровавленные и измазанные грязью шинели. Бросались в глаза мозоли на скрюченных руках, вывернутые подошвы сапог, потеки крови на телах и на лицах. На правом фланге лежал, щерясь окровавленным лицом, Иван Ткач. Рядом с ним отец и сын Зенцовы. Словно в удивлении распахнул мертвые глаза бывший сержант Василий Нарышев, потом два брата Васильевых и около них – неизвестный, совсем маленький, почти мальчишка с распоротым осколком животом.
Старый усатый казак, с крупным носом и вислыми усами, привезший трупы, перекрестился троекратно, покачал головой:
– Ну вот и все, отмаялись хлопцы. Теперича ничего им не нать, ни землицы, ни свободы.
Во дворе эскадронные лошади жевали сено. К гумну подходили казаки. Вытирали замокревшие глаза рукавами шинелей, словно стесняясь своей слабости, кривились и тут же отводили глаза.
Нелепо смотрелось яркое солнышко на блекло-синем небе.
Погибших сложили на покрытые грязью телеги. Рыжий широкогрудый жеребец, запряженный в головную подводу, все время всхрапывал, до отказа вытянув на недоуздке голову, вздрагивая и прядая ушами. Маленький белобрысый казак с безбровым детским лицом удерживал его за узду. На нем была короткая немецкая шинель, а на голове – мохнатая черная папаха.
В партизанском обозе нашли более ста комплектов немецкого обмундирования.
После ночлега, утром следующего дня казаки выступили в Могилев. Через три дня хоронили погибших. На площади развернутым фронтом выстроились две сотни. Тут же были и те, кто согласился служить в казачьем батальоне.
На земле стояли струганные сосновые гробы. Они были усыпаны венками и цветами, на каждый положили казачью папаху.
– Смирно! – скомандовал Мудров и, вскинув руку к козырьку, шагнул навстречу майору Кононову. Хотел отрапортовать по всей форме, но Кононов сказал негромко:
– Отставить!
Все ждали от него каких-то высоких, торжественных слов, но он, повернувшись к строю лицом, сказал просто и незамысловато:
– Родные мои… казаки!.. Братья! Я горжусь, что командую вами. Три дня назад двадцать шесть наших товарищев погибли в борьбе за светлое будущее нашей Отчизны. – Кононов прошелся вдоль строя, заглянул каждому казаку в глаза. Кажется, что заглянул в самую душу. – Двадцать шесть, – сказал с расстановкой, – двадцать шесть… И где-то на Дону, на Кубани, Тереке заломят руки матери, завоют жонки, заплачут дети. Но, несмотря на их гибель… – Было холодно, ветер перехватывал дыхание. Кононов закашлялся. – …несмотря на их гибель, мы не сдадимся. Мы не будем задавать себе и другим один и тот же вопрос, почему мы, русские, стреляем в русских. Потому что знаем, мы стреляем не в людей, мы стреляем в жестокую людоедскую систему, которая погубила наших отцов, пыталась сделать нас рабами.
Казаки слушали с напряженным вниманием.
– Пусть будет пролито еще много крови. Пусть мы будем терять боевых друзей, но рано или поздно знамя нашей победы взовьется над нашей Отчизной! У нас нет выбора! Но лучше погибнуть в бою, чем в сталинском лагере. Вечная память нашим погибшим друзьям! Мы не забудем их подвиг. Сегодняшний день 28 октября отныне будет считаться днем боевого крещения нашего казачьего батальона. Слава казакам!
В селе зазвонил тяжелый колокол.
– Бум-бум!
Вслед за ним зачастил легкий, тонкоголосый. Печальные медные вздохи разносились по округе.
Вышел местный батюшка. Под золотой ризой у него была надета телогрейка, и потому твердая риза сидела мешком. Священник перекрестился, перекрестил людей.
– Во имя отца и сына и святого духа.
Толпа поклонилась, вздохнула, замахала руками. Отпевание началось.
– Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.
Жители плакали, клали земные поклоны. Батюшка служил не торопясь, молитвы читал внятно, с чувством. Старики и старухи, стосковавшиеся по церкви, стояли довольные, с ласковыми, прояснившимися глазами. Скорбными, дрожащими вздохами падали в сердце толпы слова молитвы.
– И сотвори им в-е-е-чную па-а-а-а-мять!
Люди крестились, всхлипывали:
– Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.
Гробы поставили на телеги. Похоронная процессия тронулась. Скрипели колеса подвод. Неслись над Могилевом траурные звуки похоронных мелодий, взлетая ввысь и опадая щемящей тоской. Сверкала медь оркестра, блестела позолота на парчовой поповской ризе.
Возле деревянной церкви свернули на боковую улицу, с заборами из жердей и почерневшего от дождя штакетника. Улица была мглистая от осенней сырости, серая. На земле лежали грязные листья, раздавленные сапогами. Вскоре оказались на окраине. Здесь деревянные дома вросли в землю. Над крышами торчали черные от сажи печные трубы. К плачущим от дождя стеклам прижимались носы горожан. Тянулась серая, грязная дорога. Лошади с каждым шагом привычно качали мордами, точно думали вслух. Шедшие за ними казаки привычно и обреченно месили грязь. За огородами стояла небольшая березовая роща. Напротив – бугор кладбища.
Перед кладбищенскими воротами стояли две рябины с качающимися от ветра багряными гроздьями. Меж березовых стволов неброско мелькнули деревянные кресты, синичка, чистящая клювик о деревянный крест, на котором дожди и время стерли надпись.
Гулко застучали молотки, забивая гвозди в крышки гробов, намертво спаивая ее с основанием. Заскрипели веревки, и, покачиваясь из стороны в сторону, задевая за края могилы, гробы стали медленно опускаться на дно. Ямы, в которые опускали гробы, были полны воды, к крышкам гробов прилипли опавшие желтые листья.
Несколько комьев земли шлепнулись на крышки гробов.
Прогремел прощальный винтовочный залп.
Казаки крестились, выходя с кладбища. Покосившиеся кресты тянули им вслед свои деревянные руки, словно о чем-то просили живых людей.
* * *
Утро 22 июня 1941 года перевернуло устоявшийся мир.
Через несколько месяцев Сергея Муренцова призвали в армию. Странно, но он вроде как даже обрадовался этому. Муренцов скинул с себя личину чеховского интеллигента, сбрил бородку, и оказалось, что его руки по-прежнему помнят тяжесть винтовки, как и прежде, он с закрытыми глазами мог разобрать и собрать пулемет, подняться в атаку. После краткосрочной подготовки он получил звание младшего лейтенанта, и в конце июля 1942 года вновь сформированную дивизию бросили под Ржев.
Гудериановские танковые клинья рвали линию советской обороны. Части Красной армии, потеряв штабы управления, обозы и расстреляв боеприпасы, отчаянно пытались выбраться из котлов, не зная, что линия фронта с каждым днем все дальше и дальше откатывается на восток.
Горела выжженная солнцем земля, над колоннами бредущих войск нескончаемой армадой шли бомбардировщики с крестами на фюзеляжах.
По обочинам дорог тянулись ряды огромных воронок с ровными краями, будто их вырезали в земле. Погибших хоронили тут же. По приказу политрука бойцы собирали красноармейские книжки убитых, потом стаскивали мертвые тела в воронки и слегка присыпали их выжженной, сухой землей. Картины разгрома и разрушений нередко тянулись километров на десять-пятнадцать.
У какого-то села на их колонну опять налетели самолеты. В воздух полетели изувеченные тела и винтовки. После шквала огня сложно было разобрать, кто живой и кто мертвый. Контуженый, оглохший Муренцов долго лежал в воронке, присыпанный землей, сжимая руками звенящую чугунную голову. Полк, посчитав его погибшим, ушел дальше. Потом он очнулся, пополз. Инстинкт самосохранения, все рефлексы кричали, что нужно как можно скорее оказаться подальше от этого места, от воронок, от мертвых тел, убежать, уползти, неважно куда – в кромешную темноту, в неизвестность. Муренцов полз очень медленно, с перерывами. Сознание мутнело и покидало его, потом вновь возвращалось. У проселочной дороги он наткнулся на отступающих артиллеристов. Уцепившись за лафет пушки, побрел вместе с ними.
Лошади, тащившие пушки, были худы и измотаны. На острых хребтах и боках виднелись следы струпьев от ударов кнутов и палок. Усталые животные обреченно тащили орудия, хрипя и приседая на задние ноги. Иногда они останавливались, затравленно дыша и раздувая ввалившиеся бока. Удар кнута срывал их с места. Присев на задние ноги, кони срывали пушку с места и волокли ее за собой. Цепляясь со всех сторон за щитки орудий, брели усталые, изнуренные бойцы.
Сколько прошло времени, Муренцов не помнил. Пришел в себя от громкого крика одного из красноармейцев:
– Товарищи, распрягай коней! Бросаем пушки и уходим!
Все разбежались, и Муренцов остался один в чистом поле, у брошенных пушек. Кружилась голова. Дрожали ноги, и он лег на землю с одной мыслью:
– Один. Один… Что делать?
Он сам не знал ответа на свой вопрос. Мысли путались в голове, и он то впадал в забытье, то вновь приходил в себя.
Непонятный шум привлек его внимание. Привстав и оперевшись на локоть, Муренцов увидел бредущую по дороге лошадь, запряженную в бричку. Увидев человека, лошадь стала. Сергей кое-как добрался до повозки и завалился на ее дно. Немного постояв, лошадь сама тронулась с места.
Муренцов не помнил, сколько времени он трясся в гремящей повозке. Лошадь неторопливо брела по обочине дороги, иногда наклоняя голову и срывая губами пыльную траву.
Воздух дрожал от зноя, трещали кузнечики. Ночью пошел дождь, мелкий, противный. Муренцов озяб, тело била дрожь, губы посинели. Лошадь остановилась в какой-то деревне. Пахло коровником, дождем и полынью. Дождь пошел сильнее. Муренцов натянул на голову ворот шинели, забылся. Деревня будто вымерла. Очнулся он на рассвете, кто-то тормошил его. С трудом открыл глаза – над ним склонилась какая-то закутанная в платок женщина. Было не до разговоров и не до вопросов. И так все было ясно, красноармеец, окруженец. Женщина помогла ему дойти до избы, усадила на лавку у теплой печи, дала кружку воды. Вскоре в избу вошли еще несколько красноармейцев с оружием и без. Среди них было несколько раненых. Кому-то помогали идти, кто-то шел сам, опираясь на винтовку или палку.
Прошло немного времени, и раздался крик: «Немцы!»
Все, кто был способен двигаться, побежали огородами к лесу. Немцы начали стрелять по бегущим людям, раздался хохот, крики на немецком:
– Рус, рус, хальт!
Потом стрельба прекратилась, и в избу ворвались фашисты. С криками и шумом они обыскали раненых, собрали оставшееся оружие и уехали.
К вечеру в избу пришли хозяин с хозяйкой, принесли ведро картошки, сваренной в мундире. Кто-то спросил о судьбе бежавших красноармейцев. Хозяин опустил вниз глаза:
– Постреляли почти всех. Наши деревенские, кто помоложе, копают им могилу на околице.
Прошло два дня неизвестности. Раненых красноармейцев местные жители разобрали по своим избам. Муренцова поселили у Семеновых. Хозяева дома – старики, у них была дочь Вера. Это она остановила лошадь и помогла Муренцову дойти до хаты. Лет ей было около тридцати, муж погиб в финскую войну. Муренцов прожил у стариков около месяца. Кормили тем, что ели сами, – картошка, хлеб, молоко. На полях и в лесу паслось много раненых и брошенных коней. Их забивали, туши разрубали топором и на телегах увозили домой, делали солонину. Этот «приварок» хорошо поддержал силы ослабевшего Муренцова. Спал он на мешках, набитых соломой. Укрывался шинелью и всяким тряпьем.
Однажды Вера сообщила, что в селе появились полицаи, которые ходят по домам и ищут раненых красноармейцев. На двери бывшего сельсовета вывесили распоряжение местного старосты, строго предписывающее сообщить о том, у кого содержатся раненые. За неисполнение грозили расстрелом. Вера сказала Муренцову, что ему надо уходить. Рано или поздно полицаи прознают и будет беда.
То же самое вечером сказал и отец: «Уходи от греха».
Он стоял, прочно расставив ноги в тяжелых сапогах, в одной рубахе, без шапки, и смотрел на Муренцова жалостливо и брезгливо.
В разговор вмешалась Вера и сказала:
– Как же он пойдет, батя? День-деньской на дворе, а он ведь и ходить-то почти не может, даже убежать не сможет.
Старик цыкнул на дочь, но выстругал палку и принес ее Сергею. Вера собрала котомку с едой. Стиснув зубы, он побрел по дороге. Примерно через час вдали показались серые избы. Там в селе он и натолкнулся на немцев. Загорелые и жизнерадостные парни радостно гоготали, выливая друг на друга ведра колодезной воды. Из-за зарослей деревьев торчал закопченный хобот танковой пушки. Муренцов попятился, но в спину ему уперся ствол винтовки:
– Ну шо ты заупынився, пийшов вперед!
У человека, обутого в немецкие брезентовые сапоги и одетого в гимнастерку, было очень нехорошее лицо. Он передернул затвор винтовки, досылая патрон в патронник. Едва переставляя ноги, Муренцов побрел по селу, сопровождаемый рыжеусым селянином с винтовкой, неожиданно вынырнувшем из пожара его молодости.
Немецкие танкисты не обратили на него никакого внимания. Немолодой унтер, сидя на башне запыленного танка, извлекал из губной гармошки какую-то грустную мелодию, двое солдат, раздетых по пояс, обтирались полотенцами, радостно кряхтя и подставляя солнцу свои счастливые, жизнерадостные лица.
В середине села, у какого-то здания или сельской конторы, стояли грузовики с натянутым тентом, слышалась гортанная немецкая речь. «Штаб, наверное», – зачем-то отметил про себя Муренцов, шагая по безлюдной, вымершей улочке. Серое бревенчатое здание, куда его привели, оказалось сельской школой. Во дворе дымилась полевая кухня, у дверей стоял часовой с автоматом. Муренцова втолкнули в подвал, в котором раньше наверное хранился школьный инвентарь – сломанные парты, краска, метлы. Защемило сердце от неповторимого запаха мела, мокрой школьной тряпки. На раскиданной по земляному полу соломе сидело и лежало около двух десятков красноармейцев. Многие были без гимнастерок, в серых от пыли и грязи нательных рубашках. Попав в полутьму подвала после слепящего солнца, Муренцов на мгновение ослеп и споткнулся, зацепившись за чьи-то вытянутые ноги. Лежащий человек что-то пробормотал сонным голосом и захрапел, перевернувшись на другой бок. Привыкнув к темноте, Муренцов увидел несколько человек, сидевших в дальнем углу. Они передавали по кругу самокрутку. По подвалу потянуло запахом махорки.
Сергей подошел, присел рядом. Умолкнувший было с его появлением разговор возобновился с новой силой.
– Эти сказки про скорую победу оставьте своим политрукам. Я немца знаю с 15-го года, хороший солдат, храбрый, умелый, дисциплинированный. Они будут переть до конца, тем более что воевать им есть чем, считай, вся Европа на них работает. Смотрите сами, немцы пешком не ходят, кругом танки, грузовики, мотоциклы, даже велосипеды есть. У каждого солдата автомат или карабин, в каждой роте минометы, пулеметы, поддержка с земли и воздуха. Но самое главное, у немецкой армии отличная выучка и уже двухгодичный опыт войны. Они берут не грубой силой, а отличной организацией, взаимодействием войск, тактическими приемами. А что у нас? Старая трехлинейка, с которой я еще против Врангеля воевал, да и то одна на десять человек. Есть еще обмотки, солдатское терпение да извечное русское «авось».
Самокрутка дошла до говорившего. Огонек цигарки высветил заросшее щетиной лицо, впалые щеки, уверенные командирские жесты. Он сделал несколько аккуратных, экономных затяжек, с сожалением посмотрел на оставшийся окурок, передал его дальше. Потом продолжил как видно давно начатый разговор:
– А у нас ни оружия, ни умения воевать. Война войне рознь. Я вот воевал в империалистическую, потом в Гражданскую. Тогда все было по-другому: заседлали лошадок, сабельки в руки и айда махать ими. А сейчас все решает техника, танки, самолеты. Пусть у нас хоть вся армия будет состоять из Буденных, но против танков они сделать ничего не смогут. Но не об этом болит душа! У Советского Союза огромный потенциал. Пока армия будет отступать, не драпать, а отступать, цепляясь за каждый бугорок, за каждую высотку, русские бабы нарожают новых солдат. Эвакуированные заводы начнут работать, и всего у нас будет в достатке – и танков, и пулеметов. К тому времени, глядишь, и воевать научимся. Мне другое обидно, почему проспали начало войны? Почему кричали, что войны не будет, а она – вот она! Немцы, считай, уже всю Украину завоевали. А у нас командир полка перед самой войной на построении сказал, что скоро кровью ссать будем, если вместо боевой учебы на политзанятиях штаны просиживать будем, так его на следующий день и замели.
Кто-то из красноармейцев подал голос:
– А нам что теперь делать, товарищ командир?
– Прежде всего, постараться не только не сдохнуть, но и остаться человеком. Доля пленного солдата несладка, потому надо будет держаться друг друга и помнить о том, что надо победить любой ценой.
Ближе к вечеру, когда большинство пленных уснуло, Муренцов подошел к нему снова. Гимнастерки на том не было, но возраст, властные манеры, грамотная речь выдавали в нем командира. Сергей Сергеевич протянул ему свою руку.
– Младший лейтенант Муренцов. Сергей.
Командир отвлекся от своих мыслей, встал.
– Подполковник Калюжный, начальник штаба 131-го полка. Староваты вы вроде для младшего лейтенанта.
– Я из запаса. В прошлой жизни был поручиком.
– Ну а я из прапорщиков. Можете звать меня просто Михалыч. Прошу садиться.
Проговорили почти до утра. Калюжный воевал с 15-го года, в 1918 году сознательно пошел в Красную армию. В их биографиях оказалось много общего, нашлись и общие знакомые. Калюжный оказался человеком тертым и бывалым, хотя и не сделавшим себе карьеры в Красной армии, но зато уцелевшим в период чисток и реорганизации армии. Муренцов не питал особых иллюзий по поводу своей судьбы.
– Понимаешь, Михалыч! – шептал он в темноте. – Я не хочу говорить это пацанам, но в любом случае и при любом раскладе наше дело дрянь. Сталин заявил, что бойцы Красной армии в плен не сдаются. Так что если нам даже удастся сорваться от немцев, придется потом объясняться с особистами. А там уж как получится, в лучшем случае разжалуют и на фронт, в худшем – лагерь или стенка. Хотя могут и так: сначала фронт, а потом, если выживем, – лагерь. Все тогда припомнят, и царскую службу, и плен.
– А что ты предлагаешь? Подыхать здесь? – отвечал Калюжный. – Деваться некуда. Надо выжидать момент, чтобы бежать и снова воевать. А там будь что будет.
Ночью несколько раз слышалась стрельба, под утро в подвал загнали еще человек 20–30 пленных. Муренцов тогда удивился, почему в подвале нет ни одного тяжелораненого. Калюжный пояснил, что тяжело раненных в плен не берут, таких добивают на месте.
– Нас здесь вечно держать не будут, не сегодня завтра отправят в какой-нибудь лагерь. Чтобы не доставлять себе хлопот в дороге, берут только здоровых, остальных добивают и бросают.
В подвале их держали несколько дней. Раз в сутки, обычно с утра, приносили ведро картошки, сваренной в кожуре. Однажды подняли рано утром, построили и погнали по серой пыльной дороге куда-то на запад. Колонна военнопленных двигалась нескончаемым людским потоком. Муренцов шел рядом с тяжело переводившими дыхание красноармейцами – усталыми, почерневшими. На некоторых серели запылившиеся повязки с пятнами засохшей крови. Кто-то опирался на палку, кто на плечо товарища. Люди шли с поникшими головами. Во всем чувствовалась обреченность.
Изредка взлаивали конвойные собаки, бдительно стерегущие несчастных усталых людей, мгновенно реагируя на отстающих или выпадающих из строя.
Охраняли колонну уже не те здоровые жизнерадостные парни, которых Муренцов видел в первый день, а пожилые солдаты, наверное, из каких-то тыловых частей.
Видно было, что и у Гитлера людские ресурсы не безграничны.
Их группу загнали в середину бредущих людей, и они тут же стали одной неразличимой массой.
* * *
Пленных, среди которых были Муренцов и Калюжный, загнали в полутемный барак, с щелястыми стенами, где на земляном полу кое-где была навалена солома, в углу валялись какие-то прелые матрасы и тряпки.
У противоположной от двери стены располагались нары из серых неструганых досок. В углу притулилась чугунная печка с ржавой трубой и без дверцы. Нар не хватало, и многие вынуждены были спать на земле. Холод заставлял людей спать вповалку друг на друге, в два слоя. В этом лежбище бурно размножались вши, свирепствовал тиф.
После первого построения комендант назначил старшего барака, капо. Был он среднего роста, очень крепкий, почти без шеи – бритая голова, как чугунная гиря, тяжело перекатывалась по плечам. Неподвижными оставались только глаза, холодные как у рыбы, пронизывающие человека насквозь, до дрожи всех внутренностей. На вид ему было слегка за сорок.
Многие командиры, попав в окружение, старались сбросить с себя хромовые сапоги и комсоставское обмундирование, чтобы затеряться среди красноармейцев. Но капо, напротив, щеголял в вызывающе хорошей гимнастерке серого габардина, почти достающей подолом до коленей.
– Кто такой? – в первый же день спросил Муренцов Калюжного, кивая в сторону капо.
Калюжный сплюнул:
– Х…р с бугра какой-то. Не знаю. Говорит, что интендант. Хотя по замашкам больше похож на политрука. Впрочем, разницы нет. Уже шашни с немцами крутит. Сука!
Два раза в день пленные, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, медленно подвигались к бочке с баландой. Над котлом с мутным варевом стоял щекочущий ноздри запах еды, и пленные, заросшие щетиной, оборванные и грязные, канючаще упрашивали баландера, такого же пленного в грязном сером фартуке, но с широкой красной мордой:
– Добавь, земеля! Добавь… ради Христа… черпни со дна… добавь!..
Баландер не отвлекался на разговоры. Сосредоточенно небрежно расплескивал баланду по котелкам, консервным банкам, вывернутым наизнанку пилоткам и захлопывал крышку полевой кухни. Усмехался:
– Все, мужики, на сегодня ресторан закрыт.
По толпе прокатывался гул возмущенных голосов:
– Не-ету баланды?! Суки! Жрать дайте! Жрать хотим!..
Кое-кто, не веря, пытался открыть котел полевой кухни, запустить туда консервную банку или котелок и хоть что-то ухватить для своего измученного, голодного желудка. Баландер взмахивал черпаком. Вылетал из ослабевших дрожащих пальцев смятый оцарапанный котелок, выливалась из него серая похлебка, и человек падал на заплеванную затоптанную землю. Не обращая внимания на побои, скреб переломанными черными ногтями место, оттаявшее от пролитой баланды. Набегали капо и лагерные полицейские.
– По баракам, суки! – кричали полицейские, размахивая палками и опуская их на головы других пленных.
Те, кому повезло, молча доедали баланду, не обращая внимания на удары и крики.
Уборной в бараке не было, умывальника с водопроводом тоже. В течение дня, до вечера, можно было пользоваться большой выгребной уборной и водой с сильным запахом хлорки в умывальнике.
С наступлением темноты часовые загоняли пленных в бараки. Здесь пленных выстраивали и проводили вечернюю поверку, после чего запрещалось выходить из барака. Право на выход из барака имел только капо. Каждый вечер после проверки он уходил с докладом к русскому коменданту лагеря.
В бараках стояли страшная духота и вонь от параши. С рассветом дверь барака открывали и снова выстраивали всех на поверку. Затем несколько пленных выносили парашу и на тележке везли ее к выгребной яме. Пленных выгоняли с вещами во двор, и начиналась уборка помещения.
В середине ноября на землю лег белый холодный пух первого снега. Его съели и слизали на всем пространстве этого проклятого квадрата! Покорно и молча ожидали советские солдаты неумолимой смерти от голода. Кем и за что они были прокляты? Почему, умирая в грязи и холоде за рядами колючей проволоки, они были лишены не только покаяния, но и глотка воды?
Капо нацепил на рукав повязку и горделиво расхаживал по бараку, вкрадчиво перебирая короткими ногами в хромовых сапогах, обшаривая цепкими и липкими глазками лежащих и сидевших на корточках людей. Пленных бесконечно сгоняли с нар, выгоняли из барака, выстраивали, переписывали, заставляли стоять в строю. В перерывах между построениями они топили печку какими-то щепками, досками, оторванными от нар. Печка дымила и медленно разгоралась. От нее шло неуверенное, пахнущее дымом и угаром, душное тепло. Под нарами лежали самые обессилевшие и измученные голодом люди, потерявшие всякую надежду на спасение. Бесправный лагерный быт, каждодневно ломающий волю и убивающий слабых, будил в человеке все самое мерзкое и подлое, поднимая из глубины его души волны мерзости и ненависти. Вот и в свите капо уже через несколько дней крутилось человек десять таких же, как он, наглых, пронырливых, злобных. Они бесцеремонно сталкивали с нар своих бывших товарищей, отгоняли от печки. Пинками и тумаками выгоняли людей на построение, на холод и дождь.
Муренцов как-то вечером сцепился с капо прямо в бараке. Вступился за доходягу, которого толкнул капо. Тот в ответ ударил его ногой в пах. Тут же налетели шестерки. Сбили с ног, стали бить ногами. Скатившийся с нар Калюжный еле оттащил Муренцова в сторону.
– Это – плен, Сережа. Тут каждый сам за себя… За себя…
Муренцов сплюнул на пол кровавый сгусток.
– А как же остаться человеком, товарищ подполковник?
Калюжный лишь махнул рукой.
Но через несколько дней капо недосчитались на утренней проверке. Его шестерки обыскали весь лагерь, перевернули верх дном весь барак. Потом кто-то из них догадался поднять доски над отхожей ямой. Тело в длинной диагоналевой гимнастерке плавало в желтой вонючей жиже.
На допросе пленные показали, что узнали в капо бывшего батальонного комиссара и якобы он сам утопился в дерьме от страха перед разоблачением.
Переводчик, услышав эту версию, онемел, но дословно озвучил ее начальнику лагеря, попутно добавив подробностей из жизни этого дикого народа.
Комендант пожевал губами. Покивал головой:
– O-ooo! Ja, ja. Ich weiß! Russland ist das barbarische Land.
* * *
Однажды декабрьским зимним утром в лагере военнопленных начался переполох.
Ближе к обеду всех выстроили на поляне перед бараками. За спиной начальника лагеря стояла группа офицеров в форме вермахта, но с широкими красными лампасами на бриджах. На головах у некоторых были папахи и кубанки. Муренцов с каким-то болезненным щемящим любопытством всматривался в их лица. Словно угадав его мысли, черноморский моряк Семен Потуга прохрипел:
– Это что за масть такая? Я почти год воевал, а ни разу такой формы не видел.
Калюжный толкнул Муренцова в бок:
– Я так думаю, что это казаки, вот и мы им для какой-то цели понадобились. Давай смотри внимательно, может быть, кого из старых знакомых узнаешь.
– Уже узнал, – ответил Муренцов.
Справа от чрезвычайно полного, тяжело дышащего начальника лагеря стоял офицер в высокой фуражке, в начищенных с твердыми голенищами сапогах и стеком в руках. Это был бывший ротмистр Кречетов, сослуживец Муренцова по Добровольческой армии. На его плечах серебрились погоны немецкого полковника. Форма и погоны делали его лицо неузнаваемым, и если бы не косой сабельный шрам на его лице, Муренцов мог бы подумать, что ошибся. Слишком невероятным казалось, что Сашка, воевавший с немцами с 15-го года, ненавидевший все иноземное, бивший себя в грудь и кричавший: «Я русский офицер и умру за матушку-Русь!» – надел мундир вражеской армии.
Кречетов вопросительно глянул на начальника лагеря и, уловив его согласие, откашлялся и шагнул вперед:
– Соотечественники! Русские воины! Казаки! Братья! – Его голос был по-прежнему густым и властным. – Всю свою жизнь я посвятил защите нашей матери-России. Не моя и не ваша вина, что больше двадцати лет нашу отчизну насилуют грузины, жиды-комиссары, латыши, китайцы и прочая безродная сволочь, ненавидящая русский народ. Ленин и Сталин уничтожили десятки, сотни тысяч и миллионы русских людей, отобрали землю и загнали в кабалу крестьянина, разрушили храмы, заставили брата поднять оружие на брата. Русская земля стонет и вопиет об отмщении, она говорит, русский солдат – защити свою отчизну-мать. Я вижу вас – голодных, раздетых, разутых, обманутых, и сердце мое обливается кровью. Красные комиссары бросили вас на произвол судьбы и назвали предателями. Вы не нужны Советскому Союзу, но вы нужны России. Русские генералы Краснов и Власов объявили смертный бой большевизму. И те из вас, кто захочет поквитаться с большевиками за нашу поруганную Отчизну, может вступить в казачий дивизион. Вместе с нашими союзниками, немецкой и румынской армией, мы будем сражаться против нашего общего врага, пока не раздавим, не уничтожим красную заразу. А потом будем строить новую Россию!
Сейчас вас разведут по баракам. Хорошо подумайте, прежде чем принять решение, что вам ближе, большевистско-жидовские идеалы или матушка-Русь. Через час комендант снова построит лагерь. Патриоты, желающие воевать против Сталина, становятся отдельно, напротив общего строя, все остальные остаются на том же месте.
Полковник Кречетов достал из кармана большой клетчатый платок, вытер вспотевшее лицо, махнул рукой.
Майор Штольц, начальник лагеря, бросил отрывистую команду, закричали капо, рыкнули овчарки. Серая масса узников всколыхнулась, повинуясь команде, повернулась направо, двинулась в бараки. Время двигалось неумолимо, пленные разбились на кучки, обсуждая услышанное. Муренцов сидел на корточках. Калюжный стоял рядом, подпирая спиной стену.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?