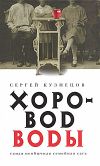Текст книги "Нет"

Автор книги: Сергей Кузнецов
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 29
«ничего себе у тебя новости
ну то есть – ничего себе
я даже не знаю, как изложить такую эмоцию на письме
ночью по комму тебе изложу
но —
ничего себе!
Ай-йя!
послушай
можно я пока не буду верить?
я просто вот в тот момент, когда прочитала у тебя: «два месяца», поняла, что сейчас сойду с ума
тихо и откровенно
потому что я так этого хочу, что не могу позволить себе этого ждать
ты понимаешь?
я буду писать тебе, как всегда
говорить с тобой, как всегда
я не увижу тебя два месяца
ну что же
будем считать, что ты в долгой командировке
я, конечно, умру за эти два месяца
но останусь живой
а потом ты приедешь обратно в Москву из незнаючегокудавыедете и напишешь мне:
«Ну что, девочка. Я прилетаю в пятницу и остаюсь. Ты меня впустишь?»
и вот тогда я уж точно, однозначно умру
лис
лис лис лис лис лис
мне трудно подолгу не произносить твое имя
я обязательно напишу тебе когда-нибудь письмо такого содержания:
лис
лис лис лис лис лис
лис лис лис лис лис
лис лис лис лис лис
лис
лис
лис
ты не расставляй в нем интонации, если я его напишу
это не зов и не упрек, и не еще что-нибудь, это просто я скучаю по тебе, по тебе, по возможности шептать тебе в ухо: «лис лис лис лис лис», по возможности слышать, как ты смеешься, говоришь: щекотно
послушай, я сейчас о серьезном
пожалуйста, береги себя. Я знаю, я говорю это каждый раз, но сейчас я очень серьезно говорю: Лис, ради бога и ради меня, береги себя, пожалуйста, береги себя. Я знаю все твои песенки: Россия – совершенно европейская страна, да. Только ты предупреждаешь меня, что откуда-нибудь у тебя может не быть никакой связи, кроме интернета. Я спросила на работе, есть ли у нас старый интернет, показала то, что ты прислал про протоколы. Они говорят: да, есть, мы тебе покажем где, но только ты учти – это какая-то дикая система, что, другого способа нет? Говорят: откуда он тебе пишет, из Бирмы? Нет, говорю, из совершенно европейской страны
не сердись
я просто волнуюсь
прости меня послушай
я хочу тебя совершенно невыносимо я хочу, чтобы ты медленно в меня входил медленно, по сухому
чтобы я чувствовала, как ты пробираешься во мне с трудом
и понимала, что вот так я впускаю тебя в себя, в свое тело
в свою жизнь
медленно и трудно
но с любовью и с желанием
всего
я боюсь, что у тебя ничего не получится
в смысле, по сухому
я мокрая даже сейчас
когда просто представляю себе
я люблю тебя».
Глава 30
На той вывеске, которая у них видна с улицы, под надписью «Big Tits Pub» сиськи выпирают в виде двух довольно больших арбузов, зато под надписью непосредственно над баром они выглядят двумя остренькими горками. Просто не состыковали чего или нам пытаются намекнуть на разнообразие больших сисек в этом прекрасном месте? У официантки между тем груди маленькие – очень маленькие, совершенно незаметные под обтягивающим черным платьем и белым наколотым фартучком. Зачем-то они тут пытаются воссоздать атмосферу девяностых прошлого века – можно подумать, девяностые выглядели так. Сделали бы себе обычный паб, паб как паб, и просто повесили бы на стену табличку «Никакой политкорректности!» – сюда ходили бы те же толпы, что и сегодня, но при этом обстановка не пахла бы таким лобовым, таким скучным китчем. Мне тут почему-то неприятно – может, из-за того, что этот паб напоминает рассказы деда о прадеде: как в годы молодости, где-то в шестидесятых, прадед и его друзья подняли большую бучу, тут, в Калифорнии, двести с чем-то миль к северу, в Ю-Си Беркли. Тогда еще большинство американцев были белыми, и мой прадед, который, как ни странно, тоже был белый, даже натуральный блондин, и они вместе с друганами стали требовать равных прав для всех – для азиатов, для черных, для женщин, геев – всех на свете. Они захватили небольшой парк рядом со своим университетом и демонстративно начали там трахаться, все вместе, без различия цвета кожи. А потом их разогнала полиция, потому что, объяснял мне дед, тогда было незаконно, если, скажем, китаец – с негритянкой, прямо как сейчас незаконно трахать детей. И прадеда, и всех его друганов отпиздили, кого-то убили даже, но он все равно вспоминал об этом как о лучших днях своей жизни.
–Бо? Ау? Ты со мной? Ну, давай, говори, что не так? У тебя на лице было такое же выражение, когда я принес тебе «Мехико». Что тебе сейчас не нравится?
–Все хорошо, Йонги, я слушаю; так, припомнил семейные басни.
–У тебя в семье были афроамериканцы?
Нет, я про другое. Дед, кстати, говорил, что прадед лично знал человека, который придумал это слово. Большой политкорректор был мой прадед, юрист, в комитеты входил, выступал в судах, боролся, а к старости прадед полюбил места вроде этого «Big Tits Pub», ну, только во Флориде, естественно. Водил деда в заведение, которое называлось «Yellow Face», и там в самом деле была неплохая пекинская кухня, все официантки кланялись, когда приносили чай, и можно было кричать им «Эй, пиздоглазая, пошевеливайся!», и все, конечно, кричали, даже китайцы и китаянки, которые туда в основном и ходили. Дед говорил – сидит, в руке палочки, в другой – вилка, пьет весеннее сливовое и плачет. Сынок, говорит, мы же сами сделали все это говно, мы же хотели как лучше, ты веришь? Я верил, да и понимал, что он чувствует себя идиотом, нельзя было так палку перегибать.
– А ты сам при всем этом не хочешь ставить свое имя на «Белой смерти»? Ты же все равно деньги на фильм даешь – что вдруг за стыдливость?
Луч лазера играет на сиськах над барной стойкой, перекрашивая их из розовых – в голубые, а потом – в фиолетовые Ни черных, ни желтых, ни белых. В самом деле – какая разница. Крикнуть официантке: «Бэйби, еще пива!»
–Интересно, если ей крикнуть «пиздоглазая», она поймет, что я имею в виду?
–Я боюсь, Йонги, что ее поколение просто не знает английского – ну, кроме того, разве, который на коробках с порно. Традиция, то-се, – вот они и знают двадцать слов – «большой, горячий, сиськи» – ну и еще что-то. Ладно, возвращаясь к теме, – я просто думаю, какими благими намерениями вымощен путь туда, куда мы пришли. Политкорректность, да; код AFA, морфов не снимать, худых не снимать, толстых не снимать, белых с белыми не снимать, того не снимать, сего не снимать – политкорректность.
–Это, дорогой товарищ, еще не превращает сами намерения в ничто. Ты же понимаешь тоже, что мои фильмы – об этом, об этом, именно об этом! Особенно —«Смерть» будет об этом! Ну чего ж ты уперся, а?
А почему ему, собственно, так важно, так необходимо видеть мое имя в титрах? Я кладу деньги – чего еще ему надо? Почему же он уже битый час надрывается, пытаясь убедить меня считаться продюсером его картины – как всегда? Он хочет, чтобы я его хвалил. Он хочет, чтобы я им восхищался. Он видел бы в моем согласии легитимацию, признание правильности его идей, мою готовность открыто стоять на его стороне. В какой-то мере я предаю его се годня; я чувствую, что его несет, что он начинает касаться тем, которых ему не стоило бы касаться, что где-то есть предел даже его пресловутому «праву художника» на раскапывание человеческих язв. Он думает: будет ли восхищаться мной человек, будет ли хотя бы поддерживать меня человек, откровенно говорящий, что не хочет упоминаний своего имени в связи с моим новым проектом? Особенно если этот человек создал меня, сделал меня, выходил, вы кормил, давал деньги, давал аппаратуру и площадки, давал актеров и советы с того самого момента, как я начал зани маться этим странным делом? Ты должен перестать об этом думать, Йонги, мальчик; ты должен наконец сказать себе, что ты – художник, ты не можешь просто себе позволить думать о других, о том, что твой старый друг-отец-настав ник брезгливо морщится, когда ты рассказываешь, о чем будет твой следующий фильм. Ты должен думать о деньгах и фильме – и больше ни о чем не думать. И я дам тебе денег, чтобы ты больше не думал ни о чем, кроме фильма А я еще долго буду себя мучить – что именно не смог переступить в себе? Чего испугался? Почему именно этот мальчик, не нашего поколения уже, делает то, за что нас, «брейкеров», ненавидели и гоняли двадцать лет назад, а именно – херит чужую брезгливость и чужие правила ради возможности сделать фильм таким, как ему приспичило.
– Мне это очень жаль, Бо. Очень. Ты прости за пафос, но когда я тебя указываю как продюсера – я же чуть ли не сыновним долгом руковожусь.
– Оставь, Йонги. Ты меня тоже прости за пафос, да, но что бы ты ни делал – я тобой горжусь и восхищаюсь. Ты с годами становился все смелей, я наблюдал за этим не без опасений, но всегда был за Сейчас я тоже понимаю, что ты наверняка сделаешь гениальный фильм. Я и им готов гордиться и восхищаться. Я могу наврать тебе – мол, в этот раз, мне кажется, ты переходишь черту, мол, есть святые темы, мол, то, мол, се.. Но дело, видимо, в том, что этой черты… ну, я сам туда не хочу Я дам денег, это без вопросов. Но свое имя через черту не потащу. Ну извини меня. И ты же понимаешь, я надеюсь, – я не ответственности боюсь или чего-то такого, – я спонсировал пять твоих фильмов, неужели ты думаешь, что для кого-то останется тайной, кто именно спонсировал шестой9 Просто для меня это вопрос, что ли, личной совести. Даже если это по– ванильному очень. Я готов быть ванильным, когда речь заходит о таких темах. Моего имени в этом проекте не будет. Извини меня. Ты понял?
Он кривится, но молчит. У меня есть еще один вопрос:
– Скажи мне, пожалуйста, ты выбрал эту тему только ради эпатажа?
– Нет.
–Тогда зачем?
–Потому что люди всегда люди, Бо. Всегда.
Глава 31
Это город забытых игрушек
Это город забытых игрушек
Это город забытых игрушек
Здесь не встретишь веселых гостей.
Мы поставим вас всех на колени.
Не будите минувшего тени
Уходите отсюда скорей.
Этот город гораздо страшнее. Это город ненужных игрушек. Их хозяева нынче в могилах, их потомки живут здесь кротами, превращают усадьбы в пещеры, заколачивают комнаты, в роскошных пересохших джакузи держат картошку, в фонтаны складывают рассаду, приспосабливают солярии под отопительные приборы, в розариях устраивают огуречные теплицы. Щ приезжает сюда и пытается проскочить, проскользнуть не глядя мимо соседских обиталищ, – страшно глядеть на то, как роскошные дачи превращаются в какие-то жуткие коммуналки. Шестьдесят лет назад здесь было лихое место, дед рассказывал о тех, кто строил эти дома, и о том, что в них творилось «Новые русские» это называлось, и дед клянется, что на соседней с нашей даче, на той, что слева и ниже, держали живого слона, катали на нем голых девок, поили его шампанским из канистры, и слон, подвыпивший, медленно плясал пируэты, а потом, с похмелья, трубил под окнами, будя весь поселок, – просил рассолу. Еще рассказывал, что в выходные здесь проливалось много крови, – дачи строились не для семейного отдыха, детей сюда воздухом подышать не вывозили, а остальные все были привычными, – выходили в двери двое, несли на себе третьего, совсем не пьяного, а только волокущего ноги, качающего головой, без должной почтительности уминали его в машину, увозили, возвращались через час и лезли опять в баньку париться, отдыхать после стресса Дачу, возле ворот которой Щ сейчас возится с замком, строил дед, тоже лихой чувак, как внук его понял довольно поздно, – лет до двадцати не задавался вопросом, каким образом дача благообразного папиного папы, спортсмена и банкира, оказалась в этом некогда бандитском поселке. Потом, взрослого уже, мысль о дедовском лихачестве не угнетала Щ, но наоборот – как-то умиляла, обаяла, как если бы дед был, скажем, пиратом или шпионом – захватывающая романтика преступности, к которой он сам, Щ, фактически не имеет отношения. Сталкинг – это разве преступность? Ну, поймают, ну, посадят на полгода. Миксы, ради которых и таскается Щ все чаще в такую даль, аж за Пятое кольцо, – разве это преступность? Ну, поедешь умом, ну, получишь отходняк на три недели. Сравнится ли это с тем, как в старых фильмах Лунгина люди входили к тебе в дом и отрубали палец за пальцем или расстреливали у тебя на глазах твоего ребенка – правая рука, левая рука, правая нога… Возмущаться бы надо прадедом, отворачиваться брезгливо, – но Щ почему-то испытывает тихую сентиментальную грусть. Были, были люди в то время.
И весь поселок для него, Щ, – земля детства (отец возил его сюда много и часто, тут все уже было очень чинно, очень буржуазно в те времена – и, как теперь опять-таки понимает Щ, – бедно, очень бедно в сравнении с роскошью дедовских времен, но все еще достойно: укроп на клумбах не сажали, из спален не продавали зеркальные потолки). И поэтому страшно видеть соседей, ничего не сохранивших из этого чинного достоинства, превративших такие, в общем-то, смешные, напыщенные, расфуфыренные – и такие трогательные (престарелый клоун, вот что!) дворцы очень старых нынче «новых русских» в жилища на пару комнаток, отделенных от длинных пустых анфилад плотно запертой дверью. Сам Щ, если честно говорить, если не врать самому себе, тоже фактически сократил жилое пространство дедовской красавицы до одного этажа, – наверх ходить старается пореже, слишком остро начинает чувствоваться близость запустения. Впрочем, запустения-то Щ как раз и не допускает, – раз в неделю, вне зависимости от того, ездил ли сам Щ на дачу или не ездил, собирается ли приехать или не собирается, здесь появляется садовник, приводит в порядок дом, подстригает кусты, поливает розы.
Больше всего на свете хотелось залезть в старую-старую джакузи, размокнуть и размякнуть, подготовиться духовно и физически к записи нового микса, дождаться рассасывания в желудке двух энзимных капсул. Но Щ все-таки пошел первым делом в кабинет и проверил аппаратуру. Все было хорошо и все было на месте, но почему-то казалось, что нарушена идеальная гармония расстановки приборов. Щ кинуло в дрожь, и он панически забегал глазами от одной серебряной коробки к другой. Все было на месте, да, но теперь – измена, измена, и не слезть с этой измены, пока каким-нибудь образом не убедишь себя, что тут никого не было, что незачем тут кому-нибудь быть – стал бы вор все трогать и ничего не брать? – нет, все в порядке. Но все-таки метнулся к тумбе, где лежали готовые миксы, быстро перебрал: все на месте, и не похоже, что кто-нибудь касался. Немного – но не сильно – полегчало. Попытался расслабиться, подумать о горячей воде, о предстоящем сеансе, о двух привезенных с собой смешных бионах – сильного ливня и рыбы, плывущей в воде, о том, как дивно должно все это сочетаться, но вечер уже был испорчен, трясло. Можно было сходить к соседу, окна выходят на его дачу, если кто-то лез бы – Витька бы, может быть, увидел; успокоиться это не поможет, но не сходить к соседу – так эта мысль вообще тебя загрызет. Щ с отвращением вернулся в холл, натянул кроссовки. Никогда не запирал ворота, если к соседу или до магазина, – а сейчас запер и дом, и ворота тоже. От этого стало еще хуже. Он поплелся к Витьке.
Витька, хоть и такой же тридцатипятилетний, как сам Щ, был уже совсем, совсем лыс. Блистательно лыс и бесповоротно. Щ подозревал, что, когда Витька начал лысеть, он просто стал брить голову напрочь, но каждый раз вспоминал, что Витька начал лысеть едва ли не в шестнадцать и ничего, конечно, тогда не брил. Некоторое время Щ разглядывал Витьку через ворота. Витька был странным вариантом дачника для здешних мест: не прозябал в былой роскоши и не растил две грядки огурцов на шестистах сотках участка, но устроил вполне настоящее сельское хозяйство, большое: три сезона у него что-нибудь росло, и даже зимой умудрялся снимать урожай рябины и чего-то из парников и загонять куда-то. Дача Витькина была жуткая и от этого еще более трогательная, чем его, Щ; на этой были резные наличники и полосы белого кирпича вдоль красных стен, а верх венчали вполне кремлевские зубцы, из-под которых глядели пустыми зенками две пулеметных амбразуры, – из одной, клялся Витька, убили самого Тотика Араджекяна, но Щ не очень верил. Пижон был Витька и хвастун.
Щ позвонил. Витька вылез из крытого стеклом тепличного домика, лысый, бородатый, с серьгой в мягком белом ухе, радостно заполошился, обнял Щ бабскими, неожиданно сильными при такой пухлости руками. Потрепались о том о сем, пока Витька вел Щ к себе, в стеклянный домик, показывать какие-то невероятные помиперцы, и Щ спросил: Витька, ко мне никто не лез, не приходил, а? Витька, вечно дрожащий за свое хозяйство, аж встрепенулся:
–Пропало чего?
–Да нет, просто чувство, что в доме был кто-то.
–Не видел, не видел. Твои окна, знаешь, мог еще пропустить, но у меня ж с тобой монитор ворот общий, заметил бы. Нет, не видел. И тихо было. Может, глюк?
–Глюк, – вяло ответил Щ; уже жалел сейчас, что пошел, теперь проваландается полчаса, а вода в джакузи наберется и остынет, а бионы… ну, не протухнут, но тут хочется какое-нибудь слово, от которого проваландаться полчаса будет еще обиднее. Вдоль помиперцев надо было ходить осторожно, тропинки были узкие, широкобедрый Витька легко мотался туда-сюда, а худой Щ с трудом лавировал, все боялся оступиться. Под потолком оранжереи еще видны были красивые черные шары – большей частью облупившиеся или побитые. Дед Витькин, большой академик, спец по русской литературе, купил эту дачку, когда все слегка поутихло, у какого-то новорусса и осуществил свою мечту, создав павильон бабочек. Витька рассказывал, что в детстве он павильон этот люто ненавидел, бабочек боялся и – как только дед умер – всю это «гнусную моль» просто разогнал. Открыл, говорит, крышу, бегал вокруг с полотенцем и орал: «Вооон! Вооон!» Мать, как узнала, билась в истерике: мало что память о деде, так там еще редкие были, коллекционные, за бешеные бабки можно было продать, говорил Витька, только мне, знаешь, было все равно. Я даже бабок не хотел, так я бабочек не хотел. Так я бабочек не хотел, что никакие бабочки были мне не нужны, сечешь? – и хохотал, помахивая пухлыми руками. Помиперцы кончились, пошли огурцы и какие-то травки, и вдруг из дальнего угла оранжереи раздалось бешеное заливистое тявканье, от которого Щ подскочил.
– Это что?
– А, развалюха, старый американский робот, еще бабка купила, нравился ей. Сейчас ничего уже не может, ни бегать толком, ничего, но плата с нюхом – зверь! Пятьдесят лет прошло – а работает. Я его здесь держу, в оранжерее, он червяков унюхивает и голос подает, слышал, да? Пиздец сколько здесь червяков, от этих блядских бабочек остались, личинки и все такое, ненавижу. А эта херня их чует, чует. А больше уже ничего не может, еле волочится.
Возле третьей грядки, почти у выхода, сидел механический пес. Небольшой, Щ до лодыжки. Одного глаза не было, второй еще светился красным. Умильная конструкция, робособачка, не скрывающая, что она «робо»: только тогда таких и делали, мода была на электронные игрушки, не хотели, чтобы было похоже на собаку по-настоящему, или даже не умели, наверное. Пес пошел к ним, вернее, пополз, колесом ставя широкие синие передние лапы, задние волоча за собой; еще раз издал тот же пронзительный, несколько саднящий к концу лай и слепо ткнулся Щ в ноги.
Кто мог знать, что бывает такая странная, такая захватывающая нежность, кто мог знать, что я так умею, я никогда не умел так ни с женщинами, ни с матерью, ни с друзьями, а тут вот – электрическая собачка, нелепая старая игрушка, да что со мной, черт, такое?
Витька, Витька, продай мне эту собачку. – Зачем она тебе? – Не знаю, прикольно. – Так ведь рухлядь! – Починю. Продай, Витька. – Да забирай так, больше электричества жрет, чем пользы от нее. – Нет, так не могу, неловко. – Да забирай, забирай, не парься. Будет тебе дом сторожить, скажи, а? Чтоб не дергался больше. А, Гришка? Будет она тебе дом сторожить?
Да говно вопрос.
Глава 32
Обидели Кшисю. Не дали участвовать в операции. Сказали: милая, сбрендила ты, что ли? Не хватало еще тебя там,, не приведи господь, догадается кто из них, кто ты на самом деле, – да ты получишь пулю в свой детский лобик прежде, чем кто-нибудь из наших успеет хоть обернуться. Сказали: милая, сиди тихонько в своей норке, ты свое дело cделала, теперь будь спокойна, предоставь нам грязную часть работы, а тебе там торчать не надо; будьте, сказали Кшисе, сержант, в отделе к половине шестого, капитан Скозелли доложит о результатах боевой операции, тогда уж и приобщитесь. Злыдни, плохие люди, гнусный Дада, любит играть в доброго папашку, надо же именно мне иметь педофила в начальниках! А отдохнуть все равно невозможно было: весь день трясло, как в ознобе, и казалось – кончится плохо, а еще казалось – спорола глупость, ничего не окажется там – так, пустышка. Вдруг они действительно такие прекрасные человеки, поговорят с мальчиком да отпустят… Веришь ты в эту версию хоть на полсекунды? Нет, не верю. Но тогда – тогда все еще хуже, думалось: вдруг опоздают наши? Десять, девять, восемь.
С четырех часов сидела в отделе, у Зухраба на голове, паниковала, ныла, действовала на нервы и довела его, бедного, до того, что не выдержал и рявкнул: «Немедленно возьми себя в руки, или я тебя выпорю!» Разрядка была такая, что от хохота Кшися расходилась и перевернула кадку с какой-то белой растенией, растения выпала и помялась. Зухраб посмотрел на сержанта Лунь таким прозрачным взглядом, что захотелось исчезнуть, слинять, плюнув на доклад капитана Скозелли, и больше никогда в отделе не появляться. Было это в половине пятого.
Зато в половине шестого – без четверти, скорее, а если совсем честно – без пяти даже, когда наконец явился Скозелли, Зухи в кабинете Скиннера держал меня за ручку, как малого ребенка, и так этим тронул, что хоть плачь.
…Они вошли в двенадцать сорок три, когда мальчик стоял уже весь потный, ошалевший и полуголый, с торчащим членом, хватался за сиськи двух великовозрастных теток. Все с самого начала шло плохо, плохо, хуже некуда. Не удалось установить, что за мальчик, чтобы заранее, за остававшиеся двадцать с чем-то часов, с ним связаться. Утром ловили его на трех остановках, от которых, гипотетически, он мог идти к углу того и сего, где Аннабель назначила, – хотели приставить к нему нашего, второго мальчика, в качестве друга, увязавшегося на пробы вместе с нашим деткой, – не поймали, не узнали по данному Кши фотороботу, или просто он добирался иначе, это потом станет ясно – то есть через пару дней. Потом выяснилось, что Аннабель везет ребенка не в студию, где уж все было наготове и только сигнала ждали, а в какое-то совершенно неведомое место, в какой-то розовый в рюшах блядский мотельчик, как в плохом старом кино, и пришлось все делать заново, переносить силы, строить агентов, нервничать, что не успеют. Потом опять стало плохо: слышимость из подвала была нулевая, видимости не было вообще, тепловые сенсоры смазывали пятна из-за толщины стен; двадцать минут (заметим про себя: двадцать минут, когда мальчик уже был внутри!) советовались со Скиннером, рискнуть ли ворваться слишком рано и не застать с поличным, заслать ли внутрь кого-то, кто сможет докладывать обстановку (рискуя быть обнаруженным и все сорвать) или выждать еще некоторое время и потом вломиться, если мальчик к этому моменту не выйдет обратно. Сошлись на первом, потому что Скозелли настоял: да кто его будет там долго мурыжить? да у них что – время лишнее? да тут отстреляться и прогнать ребеночка взашей. Они вошли в двенадцать сорок три, и мальчик потом рыдал, потому что было стыдно, и говорил, что пришел на пробы, и от мысли о собственной глупости рыдал еще пуще.
Задержали на месте троих: оператора, двух баб-актрис и распорядителя. Хави не было, и через пять минут буквально, когда дали команду брать студию, Хави обнаружили совершенно спокойно беседующим с женой по комму у себя в кабинете. Изобразил, сука, полнейшее неведение, и Аннабель, под стать мужу, морщила на экране нежный лобик, в ужасе возмущалась: какой ужас! какое самоуправство! кто мог предположить, что наши сотрудники окажутся такими подонками – заманить у нас за спиной маленького мальчика, вы только подумайте! Хави арестовали на месте, адвокат его уже через десять минут бегал по каталажке весь в мыле и орал о полной невиновности своего подопечного: да он не знал! да он не ведал! В студии из отдельного тайника, обнаруженного при сканировании помещения, изъяли два готовых сета, предположительно – 100% REAL, на одном два мальчика, на другом – мальчик и девочка, все – лет одиннадцати-тринадцати; от третьего сета только бион.
Суд начнется шестнадцатого, вы, сержант Лунь, свидетельствуете двадцать пятого. Зайдите, пожалуйста, завтра, нам надо побеседовать о вашем будущем.
Обидели Кшисю. Не дали участвовать в операции. Сказали: милая, там будет страшно, мало ли что увидим, зачем тебе это? А оказалось – привели мальчика потрахаться, и он, судя по скозеллевской улыбочке, весь сиял там и светился, и гордился до ужаса тем, что две голые тетки танцуют вокруг него кругами, две настоящие тетки, а не писюшки лет десяти, – все как у больших – две жопы, пять грудей. Вот вам и весь снафф, вот вам и все заманивание, и вся преступность: привели ребеночка, осчастливили, дали возможность всем одноклассникам тыкать в нос: да я пробовался на чилли, только мне денег предложили мало, так я их похерил. Зухраб говорит потом: знаешь, я скажу, наверное, ну, дурное, но понимаешь – я бы предпочел, чтобы его нашли там избитым и прикованным к батарее. У меня бы хоть было чувство, что моя часть отдела занимается чем-нибудь полезным. Это довольно мучительно, понимаешь, – сознавать, что ты ищешь, ну, неизвестно, существующий ли предмет. Скажи мне, Кши, вот между нами: ты сама веришь, что снафф существует? А?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?