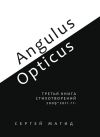Текст книги "Рефлексии и деревья. Стихотворения 1963–1990 гг."

Автор книги: Сергей Магид
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
«Скорбящая сестра и матерь-дева…»
Скорбящая сестра и матерь-дева,
две женщины, две горлицы, во тьме
оставшиеся, тело взяв несмело,
несут его, покорные судьбе.
Несут его, как мы несём любимых, —
сквозь царство плоти – в царствие теней,
сквозь череду апостолов ревнивых,
сквозь тишину осиротевших дней.
Сестра и мать, сестра и мать, и больше
нет никого, – ни друга, ни жены,
а в спину им глядят гора и площадь,
молчанием небес окружены…
1980
«Разночинная ересь»
Разночинная ересь.
Дымок папирос горьковатый.
Тепловатый мерзавец,
к нему на закуску конфета.
Да в молчании кашель
и снова басок сипловатый.
За окном то ли ночь,
то ли бестолочь ночью одета.
А у нас разговор.
До утра, до постылой побудки.
Всё о том же:
о судьбах, о смерти, о водке, о воле.
Там страна за окном
нам кивает слепой незабудкой.
Здесь усталые губы
родную житуху мусолят.
Разночинная ересь.
Опять – говорение речи.
Ни основ, ни устоев, ни почвы,
ни грозного неба.
Только шёпот сквозь сон:
человече, скажи, человече,
ты взаправду ли был,
ну а может и вовсе ты не был?
И плывет к потолку
пустотелая куколка слова,
и парит в облаках
папиросного горького дыма,
на отшибе души,
на скате российского крова
небывалые планы…
О жизнь, как ты невосполнима,
как захожены в прах
наши старые стёжки-дорожки…
Разночинная речь.
Ты лишь ересь, а ересь не догма,
потому и сегодня тебя
жовто-блакитные дрожки[2]2
В 1980-е гг. милицейские газики в Ленинграде были цвета украинского флага, – желтые с синей каймой посредине, на которой белыми буквами было написано «милиция».
[Закрыть]
соберут и в ментовку
и дальше, всё дальше от дома…
1980
Плач языческой Литвы
I.
Боги костра и дерева,
панове нашей крови,
боги обличья Зверева
с громом сдвигают брови.
Молнией жизнь проверена,
ею светлы дороги,
там, где Литва отмерена,
боги мудры и строги.
Смерти кабанья косточка,
времени волчья стая, —
в небо уходит тропочка,
скрытая меж кустами.
Зимы, снега, скитания,
реки, леса, болота,
учимся выживанию,
слушая вайделота[3]3
Vaideliotas (лит.) – жрец в языческие времена у балтских племен.
[Закрыть].
II.
Боги воды и берега,
летних гроз,
боги луны и вереска,
чистых рос,
боги дубов и тёмного
зла секир,
боги погоста сонного,
предков мир
да сохраняют! Б памяти
держат речь,
чтоб, неискусен в грамоте,
мог сберечь
малец по избам копотным
слова звук
силою сердца, опытом
слабых рук!
III.
Боги котла и олова,
боги любви-забавы,
боги ужа и борова
на рубежах державы,
прадеды наши, – пасынки
веры чужой и новой.
Жрицы, – орлицы, ластоньки,
с неба упав, подковой
гнутые, после рыцарей
Бога с шестью глазами
приступа, – чья водицею
кровь потекла меж нами?
Чей пролился над Неманом
жизни осенний ливень,
чтобы в Тракай за стенами
нового Бога чтили?
IV.
Боги охот и пастбища,
малых птах,
боги, родное капище —
тлен и прах!
Скачут, чернокрестовы,
звери дня,
белые псы христовы,
псы огня.
Богово имя катится
им вослед.
Слова чужого тянется
чёрный след.
Крепость, – язык над крышами
наших плеч,
стой до конца, услышавши
Божью речь!
V.
Долы, дороги, пажити,
запах сосны и стога.
Родину потом нажили
да проглядели Бога.
Трудятся Божьи плотники
ради души, – не хлеба:
виселицы угольником
меряют наше небо.
Истовый труд и спорится
ради овцы заблудшей, —
тело сжигая, молятся,
чтоб уцелели души!
Рыцарь, купец, ремесленник
наших подворий гости, —
а на задворках песенник
слов подбирает кости.
VI.
Боги вина и голода,
гнутых спин,
наша земля расколота, —
Бог – един.
Бьет матерей бесплодие,
Смерть – сынов.
Тесною стала родина
для богов.
Боги дрожат от холода,
пьют дожди.
Наша душа расколота,
крест в груди!
Наша судьба – заложница
в мире снов.
Боги лежат у звонницы
кучей дров…
1980
«Не видеть бы мне и не слышать…»
Не видеть бы мне и не слышать,
и бедное сердце
совсем исключить из биения нынешней жизни,
и не вымучивать больше ни взгляд, ни кивок, ни коленцо,
просто в глаза посмотреть уходящей отчизне,
просто в молчании с ней, дорогой, попрощаться,
чтоб не винить, не корить
и не клясть напоследок,
и, проводив её в путь, сиротою остаться
в доме, где жить начинал мой исчезнувший предок.
В доме, который Земля,
а не племя, не город,
в доме, где каждый за каждого угол стола занимает,
где на любом языке одинаковы жажда и голод
и одинакова боль,
и жизнь одинаково тает.
Ночью над крышей висит одинокое небо.
Тощие мысли мои, о чем говорить одиноким?
Поговори, отвечают, о том, что когда-то ты не был,
ныне же братом идешь по небесной дороге…
1981
«Дождь стоянкой стал над миром…»
Дождь стоянкой стал над миром,
травы брызжут под ногой,
пахнет дном и перегной
чавкает протухшим сыром,
и весь ливень и весь лес
полны предчувствием знакомым,
распознанием чудес,
каждый раз иным и новым,
предощущением минут
блаженных, не минут, – событий,
вот они, уже идут,
и очумелый от открытий,
теряешь плоть, теряешь дух
теряешь путь к жене и сыну,
и вот ты монстр наполовину
и лишь стихи бормочешь вслух.
Комарове1981
Ленинградский пейзаж
Иду, глотая ветер на Фонтанке,
и вижу кровь на Инженерном замке
и площадь старую, где был на небо вход,
и всё теперь совсем наоборот,
и дом доходный, что напротив сада,
и сад… Бот порыжевшая ограда
и белый, – в ночь июньскую, – асфальт
и двор-колодец, и поющий альт
на кухне, за стеной, в девичьих пальцах,
проклятый альт взамен иглы и пяльцев,
тоскующий, танцующий, зовущий
забыть о ветре, пролитой крови,
о площади, где вместо храма – яма,
о коммуналке в пятом этаже,
где старый друг ебал мою любовь,
и об ограде выцветшего сада,
в котором я играл когда-то в мяч,
и об асфальте… – Ибо все страданья,
все муки, поражения и все
уходы начинались почему-то
на белом, пыльном и сухом асфальте
и во дворах-колодцах… – И, увы,
я снова здесь… – И тихо плачет альт
там снова из окна под самой крышей,
и снова белый, в трещинах асфальт,
и сада вечно ржавая ограда,
и этот страшный дом напротив сада,
и место, где метро теперь и вход,
который никуда не приведёт…
1981
Монолог соседа, старого большевика товарища Каца, во дворе дома по 4-й Советской улице
(В СКОБКАХ – ПРОИЗНЕСЕННОЕ ШЁПОТОМ)
«Я подошел вплотную наконец,
совсем вплотную, даже без зазора,
к тому, что называется конец
(и чуждо нам как тема разговора).
Но Бы тут рядом, да, – и потому,
пока ещё я голосом владею,
я в трех словах… как сыну…
(почему
я третью ночь от мыслей холодею…)
От мыслей, не от страха, – в этом соль.
Какой там страх, когда на вдох – все силы.
И не живот,
(а душу гложет боль, —
что я найду, что встречу за могилой?)
Пора ложиться, чувствую, – пора.
И сердце в яму ухает с размаха.
А во дворе играет детвора,
не ведая ни горечи, ни страха,
(а во дворе опять чертополох
вцепился корнем в тощие газоны…)
А что за городом! Б канавах лезет мох,
брусничные одолевая склоны!
Но вот внизу, – кто знает, кто поймёт,
что подо мхом, что под чертополохом?
(Земля и черви, – или узкий вход
на небеса, устроенные Богом?)
Я Вам скажу, – мне в общем все равно,
что пеплом стать, что вырасти травою,
(но вот что жить совсем не суждено,
я понимаю только головою…)
А сердце хочет, —
(друг ты мой, пойми,
как сердце хочет вечного спасенья!
Что если души, бывшие людьми,
на землю сходят в праздник Воскресенья?)
Но я не верю. Не могу. (Хоть плачь.)
Не в том ли смысл труда освобожденья,
что никогда Божественный трубач
нам не подаст сигнала к пробужденью?
(Как страшно превращаться в перегной,
как тяжело не верить в Бога, Боже!)
А птицы над моею головой…
(уже давно на ангелов похожи…)»
1981
Посещение любимых родителей
Щека сухая,
неживая,
на прощанье.
Четыре яблока, клюква в упаковке,
два лимона, уксус… – Надо же,
откуда?
Глаза, в которых ожиданье чуда
послеинфарктного.
Жизнь всё ещё подобна заготовке.
Жизнь всё ещё сплошное обещанье.
Но
жизнь
уже
сплошное
об —
нищанье.
Четыре яблока протягивает мать
для сына сына.
Где ей душу взять?
Чем залатать прореху
в мужестве и чести?
Чем заменить
отказ от крови?
О втрое скрученная нить
из вашей нелюбови!
А на потеху, —
как по ржавой жести
крыш крадется полуночный вор, —
пройтись по кухне дребезжащей,
по осколкам детства,
где взрослых страшное наследство,
замученных детишек сор,
невыметенный до сих пор,
во всех углах лежащий…
1981
«Покорная овца…»
Покорная овца,
пасущаяся плоть,
ты тоже дочь Творца,
но молчалив Господь.
Не спишь, жуёшь всю ночь
протухший кислород,
отвергнутая дочь,
гниющий Богов плод.
А утром щель в лице
душа найдет тайком
и воспарит в Отце
бесплотным мотыльком.
И ты – молекул ряд
меж пламенем свечей,
отправишься на склад,
всеобщий и ничей.
Но вечно будет дух,
твой ключик заводной,
искать единство двух,
летая над страной.
1981
«На окраине Бога…»
На окраине Бога,
в глуши галактической, сонной,
пролегает дорога,
обочины, пни, мураши.
Звёзд зелёные вши
в голове копошатся огромной
и Земля лепестком притулилась
у пятки Его сапога.
Но и этот лоскут,
эта тьмутараканская жизнь
нам с тобой дорога.
Пусть наше время погибло,
но скудельный сосуд,
кровеносный, родной, мясокостный,
красногубый и головоострый,
вновь наполнив собой, понесут
хитроглазые дети.
В сквозняковой щели мирозданья
снова души на свет прорастут
и пойдут по забытому краю,
по обочине мира пойдут,
по окраине Бога,
где народ позабытый живет,
где ни ада, ни рая, —
просто жизнь от рожденья идёт
да мерцает дорога…
1981
Окраина
Вторая книга стихотворений
1981–1983
Авиационная
утром потоп начался у подножия дома
вздулся фундамент
чрева лоджий провисли
ввалился живот этажей
крыша обмякла
танцующий червь дымохода
в сером просвете взвился
в муть водянистого неба
встали глаза без зрачков
скомканный лоб
оперенье сутаны
смертника длинный наряд
рвущийся в клочья
дерюга слепца
плащ совратителя
сумасшедший халат
пелерина чиновника
остов писца
в сквозняке межреберном
и сверху
пала вода —
голова расслоилась
подернулась рябью
исчезла
заколебался окурок
над утонувшим лицом
ноев ковчег воскресенья
в небесной воде
вторничной жизни
1981
Ленсовета
Пустоглазый ветер окраин
колотит в жесть.
Ветки в предсмертном танце.
Обвал во дворах.
Вечер набух как грудь
перед рожденьем дождя.
Сына
теплые пальцы
держат жизнь за рукав.
Человечек шагает по трупам
осени.
Щупает город,
смотрит,
рот приоткрыв, в пространство,
слушает время, —
дробно
стучат подковы, асфальт
подрагивает,
кобыла, бледная как туман,
в город въезжает,
всадник тосклив,
дождь
блестит на металле, —
глаза изумленные: «Папа,
кто это так стучит?»
1981
Дворцовая
Одинокая площадь.
Лобное место прощаний.
Средоточие бывших надежд.
Призрак чужих возвращений.
Мука для памяти.
Ночью
ангел тяжелым крестом
мертвый асфальт осеняет.
Видят сухие глаза
как ты лежала в крови
под ногами бессчетными,
криком
материнским кричала,
теряя детей неразумных.
Ныне
лежишь в тишине,
одинокая площадь,
всех пережившая,
ждешь,
готовишься к новым потерям…
1981
Пять набросков к библейской истории
I.
Страна
без имени.
Судьба в пасти шакала, в зрачке змеи,
время
длиной в полёт копья.
Слова как клёкот,
звуки рвут гортань,
язык ещё не вскормлен духом.
Сердце
уже полно утрат.
II.
Торжище в горах,
где целое берут за часть:
дано
существование.
В обмен
приносим верность.
Пространство умещается в ладонь
Неназываемого.
Время
висит на именах вождей.
Любое племя
есть только пища.
Жажда перемен
рождает бренность.
Жертвенный огонь
пасёт людей.
III.
Ковчег святыни,
поднятый с трудом
на плечи,
уплывает в бесконечность.
Цвета пустыни:
охра, сурик, сера.
Во рту прогоркло,
песок на языке,
под бородой свербит
расчёсанная кожа,
гортань в шершавом кулаке,
дыханье с судорогой схоже,
речь раздирает горло.
Цвет неба: Вечность.
Ковчег святыни,
на плечи поднятый с трудом,
вновь уплывает в бесконечность
базальта и песка.
Оазис редок.
Один набор созвучий
хрипит в словах «источник» и «тоска».
Запах внутренностей едок
при всесожжении.
Но случай
уже отвергнут в выборе пути.
Ковчег святыни,
поднятый с трудом,
плывёт над головами
прочь от обугленных костей.
Надо вновь идти.
И охру, сурик, серу
съедает ночь.
Но света нет над нами
и о молочном Ханаане
Ревнующий
не подаёт вестей.
IV.
Земля в беспамятстве, а небеса молчат.
Слепые бродят по равнине.
Сад
ещё под снегом
и гора пуста,
и на её вершине
ни человека, ни креста.
Но иудейской глине,
податливой и угловатой,
шишкоголовой, перемятой
в ладонях Бремени,
опять готовят печь
для обжига.
Гончарный круг Земли вращается быстрее
и можно лечь
и ухо приложить
к дороге, тонущей в пыли,
и гул тяжёлый уловить
в открытой небу Галилее.
V.
Господи, мы так Тебя любили,
так Тебя от смерти берегли,
что легли белее белой пыли
на путях обещанной земли.
Господи, Ты жив, пока мы живы,
и любим, пока ревнуешь нас,
небо и земля текут в заливы
человеческих и Божьих глаз.
Всё осенено Твоим касаньем,
всё заведено Твоей рукой,
но тепло от нашего дыханья
согревает этот круг земной.
Наши ноги пробуют дорогу,
по которой Ты идёшь, Господь.
Вниз лицом у Твоего порога
падает обманутая плоть.
А душа, душа, – куда ей деться,
чем согреться, чем напиться ей
там, где человеческое сердце —
лишь навоз для будущих корней.
1981
Казаков спускается в ад
I.
Был жуткий дуб в ту мартовскую ночь.
В Некрасовском саду хрустела слякоть.
Промёрзшей жизни трепетная мякоть,
душа, дыша в ладони, вышла прочь
и повернулась, бедная, спиной
к тому, на что глядела дни и ночи
и за её спиной простой рабочий
остался, одинокий и пустой.
Остался без себя, без своего,
без тёпленького, – маечка да брюки, —
тоска и смерть, две старые подруги,
уже входили медленно в него, —
когда душе он закричал: вернись!
вернись, бля буду, волоса не трону,
так он кричал, но уподобясь стону,
слова его не подымались ввысь,
а падали в Некрасовском саду,
царапая губу, пусты и ржавы,
пока душа его в дистанциях Державы
мельчала и терялась на ходу.
II.
Путём земли, путём последней швали
она себе пошла до края суши
и от неё все больше отставали
в саду у рынка страждущие души.
Путём всея земли и бывшей плоти,
пройдя насквозь дымы горящих свалок,
оставив позади их гарь и копоть,
и бабий крик, и грай чернявых галок,
путём всея земли, родни, похмелья
она покорно двигала штанины
и с бодуна как на печи Емелю
несло её, везло её, и в спину
свистел ей Бог, когда она на склоне
застопорила перед той хибарой,
где не было во всем микрорайоне
ни одного, с кем раздавить на пару.
III.
Открыла дверь, спустилась вниз, согнувшись.
Был вид внутри заезжен как пластинка.
Она вошла в него, – и, содрогнувшись,
попала в садик у Некрасовского рынка.
Был жуткий дуб. Был колотун, что надо.
В саду у рынка отдыхал рабочий.
Он видел сон: к нему домой из ада
душа вернулась на исходе ночи.
1981
Сансара
(Венок сонетов)[4]4
Сансара (санскрит) – поток жизни, круговращение бытия, перевоплощение жизни в смерть, смерти в жизнь. Однако Будда сказал: «Сансара – это и есть нирвана».
[Закрыть]
Время – это ручей, в котором я ловлю рыбу.
Торо
I.
Яблоко солнца в сумятице крови древесной.
В камне, в песке, в каждом семени каждой погоды, —
яблоко плоти, несущее гены и коды,
свет продлевая и след на уступе отвесном.
Кажется, всё невпопад, наобум, ниоткуда
и в никуда, в препустейшее место, в безместье,
нет, это мы, мы живые и всё еще вместе
ждём друг от друга спасенья, продления, чуда.
В теле чужом, как в горячем песке раствориться
и растворить его телом, и плыть над рекою
света и воздуха. Над городами и днями
время начать и во времени остановиться,
и лишь к утру ощутить животом и щекою
рёбра камней и песок вперемешку с корнями.
II.
Рёбра камней и песок вперемешку с корнями,
сладкая гниль и зелёные пряди отлива,
смотрит земля в отраженья ночного залива,
вытянув шею реки с фонарей позвонками.
Мальчик лежит на песке и последнее лето
переливается ночью за кромку пространства,
белым течёт молоком, и судьбы постоянство
снится тому, кто плывёт в колыбели рассвета.
Спи, не вставай, то, что будет, покажется бредом:
корни в душе прорастут и она раздробится
в смехе друзей и в надменности женщин с сухими глазами.
Время затылком поймёшь, память бросится следом:
губы закроются, словно рубеж и граница…
Море осеннее, нитка дороги за нами…
III.
Море осеннее, нитка дороги за нами
вдоль побережья, по желтым шуршащим опилкам,
кожице летней, по крови засохшей, по жилкам
умерших душ, оживающих вновь под ногами,
все они шепчут своё, ту же жалобу павших,
бывших, вчерашних, любивших, любимых, зарытых,
всё понимавших и бесполезно рыдавших, —
место их занято, их нетерпенье забыто
нами в тот час, когда мы, касаясь желаньем
тела зовущего, душу свою не измучим
на побережье без слёз и дорогою пресной.
Два одиночества, связанных утром случайным,
нитку свою расплели, не заметив как в тучах
блещут зарницами ножницы пряхи небесной.
IV.
Блещут зарницами ножницы пряхи небесной,
в доме готовятся, моют полы, убирают,
острое прячут, кроватку в углу собирают,
яблоко солнца повисло над комнатой тесной.
Блещут зарницами ножницы… в доме смеются,
ночью не спят, на рассвете пелёнки стирают,
кормят, целуют, бегут, на ходу засыпают,
с милым на час как на целую жизнь расстаются.
Блещут зарницами… мальчик ползёт по дивану,
в комнате тихо и свет занавеской задёрнут,
ножницы спят, на столе валидол с кофемолкой.
Блещут… но мутный, подобный ночному туману,
Мир наплывающий в детских глазах перевёрнут…
Лето, рожденье, склоняется мать над иголкой…
V.
Лето, рожденье, склоняется мать над иголкой,
крики из черной тарелки, торжественны и одиноки,
Зеленогорск всё ещё называют Терйоки,
где-то в болотах отец пропадает с двустволкой.
Глохнет рояль, а гармоника плачет и бьётся,
улицы рваные штопает лето садами,
чьи-то игрушки лежат в кирпичах под домами,
чей-то Шекспир на толкучке ещё продаётся.
Плеши над рвами рыхлеют, ползут, оседают,
сладкая гниль, между хатами корчатся груши,
вишни чернеют, их съесть не смогли, не успели,
паводок грянет и кости вода раскидает,
руки не встретятся, может быть где-нибудь – души…
Дед – в земляной, внук лежит в полотняной постели.
VI.
Дед – в земляной, внук лежит в полотняной постели,
капельки тонут, всплывают в ревущем потоке,
выход и вдох – это устья впадают в истоки,
снова дыхание воздух солёный заселит,
вереск пахучий и пар над просохшей землёю,
жёлтую тучу, несущую ливень в подбрюшье…
Звук из гортани, в пору зимы и недужья
облачком вылетит, станет бедой и судьбою
сына, и сжатые в тесной утробе трамвая,
центром ползущего, скрежетом уши куроча,
мы содрогнёмся, будто внезапно прозрели:
чьё-то сознание, в наших телах возникая,
сможет понять и наших отчаяний ночи…
Мальчик и память о нём спят в одной колыбели.
VII.
Мальчик и память о нём спят в одной колыбели,
и домовой оживает, войдя в деревянное тело резное
хриплых часов, и шарканье бродит сквозное
спящей квартирой, где жить никогда не умели
по-человечески, где в коридоре мерцают
желтые лампочки днем, счётчики – словно иконы,
дети живут анатомией, женщины в битвах кухонных
делят пространство и время и возле плиты умирают.
Окна в колодец, где ночью сопит Берлиока,
ход на чердачную лестницу, где по перилам скатиться
необходимо в семь лет, а в семнадцать – давиться махоркой…
Сон – возвращение в воду того же потока, —
мать исчезает за дверью и свет на пороге ложится,
лучик спасенья, – он между Кощеем и девичьей створкой…
VIII.
Лучик спасенья, – он между Кощеем и девичьей створкой…
Утром проснуться и жить с тем, что ночью приснилось,
сон повторять и мусолить, пока не забылась
та одноклассница рядом, с нахальной мальчишеской челкой:
утро – как омут, но крови живая отмычка
сердце должна отворить, но сначала – как в омут,
значит за парту и рядом, и мысли потонут,
взгляды украдкой – толчок, столкновение, стычка, —
всё в немоте, нету слов, а коснёшься предплечья, —
лучше бы за тысячу вёрст, а потом чтоб искала…
Фартучка край, сумасшедшая эта причёска, —
вот уж не думал, что это застынет навечно.
Дома – Джек Лондон. Её ждет волненье спортзала.
Тренер – герой её чернового наброска.
IX.
Тренер – герой её чернового наброска.
В школу ходить и читать, и писать сразу стало ненужно.
Жизнь превратилась в пустяк, словно демоны дружно
створку захлопнули. Вечного света полоска,
та, что еще тут лежала вчера на старом паркете,
сгинула, словно и не была и в себе затворилась.
Тёмная горечь вошла и в мозгу поселилась,
в ухо дохнув: «Ты и не знаешь, как одиноко на свете…»
Все семь небес, все их духи, все их бетонные своды
Пали, собой придавив тяжелеющий ливнями город,
чтобы вселиться в него, чтобы в нём обернуться судьбою.
Взрослые были глухи, не слыша как в час непогоды
тихого мальчика, вдруг разорвавшего ворот,
ночь призывает к себе одинокой трубою.
X.
Ночь призывает к себе одинокой трубою
лодки детей несчастливых, плывущих по водам
смутных догадок к чужим берегам и восходам,
землю недетских обид оставив во сне за спиною.
В море лучи преломляются, – солнце сознанья
глубь освещает подводных течений пра-речи,
даром всплывающей, миг пробужденья и встречи
утром готовит, улов принося без названья.
Ты просыпаешься, мальчик, – готовый рождаться
снова и снова, только б запомнить мгновенье
сна и созвучия, песню, лишенную кожи, —
губы ей дать, в легких держать и держаться
всем существом за нее, чтобы слышать биенье:
музыка, пауза, слово – на пульс нитевидный похожи…
XI.
Музыка, пауза, слово – на пульс нитевидный похожи,
но и сродни улетающим медленным птицам
в пору, когда истончаются их вереницы
за морем, за небом, за ночью, – и неуклюже
мы начинаем вживаться в разлуку и осень,
ноту, молчание, фразу мы ищем ночами, —
звук пролетающей птицей плывёт за плечами,
в иглах, нахохлясь, сидит уже припорошенных сосен,
окна проходит насквозь и растёт в переулках
запахом первой метели, слетающей с неба,
в землю продетый, виток корневого отростка
тянет наружу, сплетает и в утренних улицах гулких
зёрна любви, прорастая как зёрнышки хлеба,
в сердце впечатают след раскаленного воска.
XII.
В сердце впечатают след раскаленного воска
Ночь на горе и рассвет в отсырелом подземье:
Камень отбросив и за ночь остылую землю,
С новой надеждой, так лёгок, подобен подростку,
В тень долины сошёл. Над быстриною потока
Остановился, задумался и обернулся, —
Краем постылым опять суховей потянулся
Краем любимым тянулась сухая дорога.
В небо взглянул, отвернулся, потёр подбородок,
В воду шагнул, засмеялся, – разбитые ступни
Оледенели, не чуя камней под водою, —
И ощутил как земля выгибается в родах,
Как в глубину уплывают побои и струпья,
Место и время становятся сами собою.
XIII.
Место и время становятся сами собою,
Дымкой реки, перемешанной с дымом заводов.
В тесте дыханий, дрожжами дождей и восходов
Поднятых к небу, и ты поплывёшь над землёю
Облачком пара, в пальто с отслоённой подкладкой,
В сбитых ботинках, с зонтом, перешедшим от деда,
Не оставляя, быть может, ни звука, ни следа,
И для ревнивых друзей не оставшись загадкой.
Но тишина – это след отзвучавших агоний,
Каждая плоть как невидимый корень небесный
В мир проникает и души на стебли похожи,
Яблоко солнца, у неба скатившись с ладони,
Падает в нашу и светит в обличье телесном
Капелькой жизни, набухшей под куполом кожи.
XIV.
Капелькой жизни, набухшей под куполом кожи,
Семя прольется, проденут усталые руки
Воздух в иголку и вечером взгляд близорукий
Пресную землю в усталый хрусталик положит.
В пору безденежья, в месяцы боли сердечной
Вновь прорастают в еще неуслышанном стоне
Лиц полукружия, на незнакомой ладони
След начинается сиюминутный и вечный.
Оторопь сердца, немая души остановка,
Ночь, за окном марсианские ливни мерцают
И проливаются в комнате старой и тесной.
Двинулось время, пускай тяжело и неловко,
Но посмотри – в нашем теле опять расцветает
Яблоко солнца в сумятице крови древесной.
XV.
Яблоко солнца в сумятице крови древесной.
Рёбра камней и песок вперемешку с корнями.
Море осеннее, нитка дороги за нами.
Блещут зарницами ножницы пряхи небесной.
Лето, рожденье, склоняется мать над иголкой.
Дед – в земляной, внук лежит в полотняной постели.
Мальчик и память о нем спят в одной колыбели.
Лучик спасенья – он между Кощеем и девичьей створкой…
Тренер – герой её чернового наброска.
Ночь призывает к себе одинокой трубою.
Музыка, пауза, слово – на пульс нитевидный похожи,
В сердце впечатают след раскаленного воска.
Место и время становятся сами собою,
Капелькой жизни, набухшей под куполом кожи.
26 февраля – 21 марта 1982 г.,Ленинград
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?