Текст книги "Денис Бушуев"
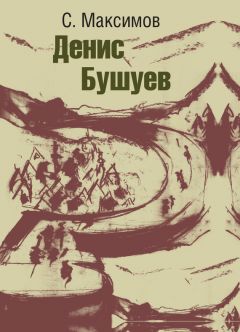
Автор книги: Сергей Максимов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
XXII
Нужда все сильнее и сильнее давила Анания Северьяныча. Скудная зарплата расходилась в несколько дней на уплату долгов, а они все росли и росли. Денису дали аванс – 60 рублей. Ананий Северьяныч тут же их отнес печнику Солнцеву за перекладку печи в кухне. Кирилл в каждом письме обещал прислать деньги, но не присылал.
– Хоть бы на содержание Настьки подкинул двадцатку, – ворчал старик, – сам уехал, а жену опять же мне на горб посадил. Не будет толку из Кирюшки, не будет. И не отделится сроду.
– Да ты дай сначала парню на ноги встать, – защищала сына Ульяновна.
– Нет, мать, не видишь ты ничего. Не задался у нас старшой, человека путного из него не выйдет, ума не хватает парню, мозгов мало. Да из Дениса тоже, должно, ни хрена не получится. Чудной какой-то. Книжки читает, а в техникум не попал. Не впрок, стало быть с конца на конец, ему чтение, впустую, стало быть… Псу под хвост… Мало детей нарожали, Ульяновна, мало. Что толку от двух уродов…
– Христос с тобой, Северьяныч, этих-то едва выносила да на ноги поставила, а ежели еще с голоду бы совсем померли.
– Да-а… – чесал спину Ананий Северьяныч, – теперь оно, конечно, поздновато думать… года не те.
Ульяновна испуганно крестилась и показывала мужу на иконы.
– Бога побойся! Бога побойся, старик!
Ананий Северьяныч косился на образа и еще сильнее чесал спину, забрасывая руку через плечо и двигая локтем, как паровоз шатуном.
– Помрем с голоду, помрем…
Не выдержал и пошел к отцу.
Дед Северьян, прекратив из-за спада воды ловлю казенных дров, занимался ловлей рыбы запрещенным способом – на шашковый перемет. Запрещался этот способ потому, что не столько ловилось рыбы, сколько калечилось. На длинную бечеву, опущенную на дно с грузом из камней, навязывались на лесках большие крючки, а возле них – пробки. Никакой приманки на крючок не насаживалось. Рыба, главным образом стерлядь, играя вокруг пробок, цеплялась за острый крючок либо брюшком, либо жабрами, либо глазом… Рванувшись от боли, она оставляла на крючке часть своего тела, уплывала и где-нибудь вскоре издыхала. Но некоторые оставались на крючке и благополучно вытаскивались ловцом из воды. Уголовный кодекс предусматривал сей немудреный способ ловли специальной статьей, карающей виновного тюремным заключением до трех лет. Дед Северьян вынимал и запускал перемет только по ночам, когда его не могли увидеть односельчане.
Ананий Северьяныч пришел к отцу поздно, часов в десять вечера. Дед уже собирался ехать на ловлю и при свете лампы чинил подсак, усевшись посредине пола на маленькую скамеечку.
– Здравствуйте, папаша.
– Здравствуй… – тихо ответил дед Северьян, не отрываясь от работы и не поднимая головы.
Ананий Северьяныч нерешительно мялся у порога, переступая босыми ногами с торчащими, как у курицы, в разные стороны пальцами.
– Проходи. Садись.
Бушуев прошлепал по крашеным половицам к столу, сел на табуретку, почесал легонько спину.
– На охотку, стало быть с конца на конец, едете, папаша? – вкрадчиво спросил он, поглаживая сивую бородку.
– Стало быть, еду…
– Гм… Хорошее дело, хорошее дело. Подсачек чините?
– Да вот, понимаешь, прошлой ночью стерлядочка на пуд весом попалась, и того… насилу вытащил… подсак порвала стерлядочка-то…
– На пуд? – притворно удивился Ананий Северьяныч, хотя знал, что такой рыбы отец сроду не ловил.
– Не мене.
– Что-то я в наших краях про таких рыб, папаша, и не слыхивал, – не удержался усомниться сын.
– Еще боле бывают… Надо места знать, где ловить.
– Ну, могет, могет, – охотно согласился Ананий Северьяныч, вспомнив, за чем пришел к отцу, – чего не знаю – того не знаю, спорить не хочу. Могет, и бывает. А что, папаша, корысть какая от этой охотки, стало быть с конца на конец, получается?
– Малая, Ананий, совсем малая.
– Так, так… Я полагаю, побольше корысти, чем мне от бакенов?
– Нет, Ананий, мене. Намного мене.
Помолчали. В курятнике заквохтали кем-то побеспокоенные куры. Дед Северьян встал, взял из горнушки клубок шпагата и сел на прежнее место.
– А я… того… опять этого, как его, следователя на днях встретил возле часовни, – сообщил сын.
Дед скривил изуродованную губу и нахмурился. Не отрываясь от работы, тихо спросил:
– Ну и что?
– Так… постояли… про вас спрашивал.
Старик молчал. Ананий Северьяныч помигал глазами, положил локоть на стол.
– Чего, говорит, Северьян Михалыч делает? Как здоровье?
– Ну это ты, положим, врешь! Про здоровье он ничего не спрашивал.
– А отколе же ты могешь знать, спрашивал он али не спрашивал?
– Я, брат, его, как и тебя, Ананий, насквозь вижу. Ты еще только думаешь, что сказать, а я уж знаю, об чем речь будет. Знаю, брат, зачем ты и ко мне пришел. Да только…
– Проведать, папаша, проведать, – торопливо перебил его Ананий Северьяныч, боясь, что отец назовет причину его визита.
– Проведать? Ну, пущай по-твоему будет. Только проведать-то меня ты заходишь в особливых случаях.
– А еще, папаша, спросил я его: не нашел ли он, стало быть с конца на конец, путев к убивству. Постоял, подумал. Нет, говорит, не нашел пока. Но, говорит, найду, и вскорости найду, и ой-е-ей как накажем убивцу, меньше, говорит, осьми годов тюрьмы не дадим, ежели дело, того… по злобе, а ежели по какой другой причине, скажем, по государственной причине, то и того… жизни, говорит, лишить могем… Вот оно, дельце-то как оборачивается, папаша, каруселью дельце-то оборачивается…
– А по мне, Ананий, какой бы оно каруселью ни поворачивалось – плевать. Так и запомни! – спокойно сказал старик.
– Да так-то оно так, но все же вы, папаша, на подозрении… оно и поосторожней надо. Я, папаша, вам это как сын, конечно, говорю. Мне-то что? Моя хата с краю. А вам как бы того… не оступиться на камушке…
– Ладно. Помолчи. Учить меня нечего. Мне уж, слава богу, восемьдесят годов на Рождество стукнет.
– А мне, папаша, скоро шестьдесят. Тоже срок не маленький. Пожил, посмотрел.
Он вздохнул, обвел стены тусклым взглядом, задержался недолго на черной горке с маленькими стеклами (знал, где хранил дед заветную шкатулку) и опустил глаза на корявые темные руки отца.
– Шпагат-от крепкий?
– Ничего. В аккурат по мне.
– А у меня, папаша, совсем здоровье стало того… хреновое. Харч убогий.
– Пить надо мене, Ананий. Когда нынче запивать думаешь?
– И в мыслях не держу про то, папаша.
– Срок придет – все одно запьешь! – знающе, твердо сказал дед.
– До срока моего еще далеко, папаша. Мой срок по осени, еще далеко. Да хочу в этот год перебороть себя, попробую. Да и пить-то будет не на что. На две-три недели запоя ой-е-ей как много денег надо. А нам и сейчас есть нечего. Одной картошкой питаемся, картошкой одной. На Дениску и смотреть не хочется, жалость берет, худой, белый.
– А ты его, Ананий, посылай почаще ко мне… ну, повечерять там али к обеду, – посоветовал дед Северьян.
– Спасибо, папаша, и на этом спасибо. Да ведь он, знаете, с норовом. «Чего, говорит, я у деда подкармливаться буду! Вот ежели б дед-то всей семье помог деньжонками, деньжонками-то всей семье помог»…
Дед Северьян опять усмехнулся. Дернул шпагат, оторвал ненужный конец.
– Вот опять врешь, Ананий. Так Денис не говорил.
– Ей-богу, так.
– Не божись зря – грех великий. Насчет денег он ничего не говорил.
Ананий Северьяныч, уличенный во лжи, заерзал на табуретке, втянул в плечи длинную, худую шею.
– Ну, могет, я его не понял. Он того… стал больно туманно говорить, как книжек-то начитался, туманно стал говорить… Тоже шалопай растет, определенно – шалопай.
– Дениска-то?
– Я про его и говорю, – объяснил Ананий Северьяныч, забрасывая руку через плечо и поеживаясь.
– Из Дениса, Ананий, толк будет. Зря не суди.
– Что-то не видно. Не видно что-то толку-то.
– А вот увидишь. Дай срок. Ежели ты его в конец не загубишь.
– Да по мне – шут с ним. Я за ним не больно и смотрю. Так вот и живем, папаша, говорю, картошку лопаем. Хоть сдохни. Могет, вы, папаша, того… стало быть с конца на конец, помогете? А? – набравшись духу, прямо спросил Ананий Северьяныч и от нервного ожидания зачесал вдруг спину с удвоенной энергией.
Дед Северьян встал, прислонил к косяку зачиненный подсак и снял с гвоздя ватный стеганый бушлат.
– Денег не дам, Ананий.
– Это почему? – плаксиво спросил сын.
– На свадьбу Кирюшке пятьсот дал – больше у меня нет.
– Да ведь того… есть они у вас, папаша. Есть они.
Дед застегнул бушлат и размашисто нахлобучил на голову картуз с помятым козырьком.
– Положим, есть. Маненько, скажем, есть. Не в таком ты еще положении, Ананий, чтобы я тебе последнее отдавал.
– Так, могет, когда меня на кладбище повезут, тогда ты и денег дашь? На похороны? – взвизгнул сын, вскакивая.
– Не шуми! – предупредил дед Северьян и встал у косяка, пропуская вперед сына и придерживая рукой дверь.
Ананий Северьяныч суетливо нырнул под руку отца, сбежал с крыльца и заковылял вверх по тропинке, не оглядываясь и спотыкаясь в темноте о камни. Последняя надежда рухнула.
– Вот лысый чёрт! Вот анафема! – проклинал он на ходу отца. – Ведь помрет скоро на своей мошне! Небось тысяч с пяток придерживает, дьявол долговязый. Ах ты, пропасть какая!
Дед Северьян постоял, посмотрел вслед сыну, покачал головой и, вытащив из-под крыльца тяжелые некрашеные весла, легко бросил их вместе с подсаком на плечо. Твердо ступая, пошел под гору, к берегу…
XXIII
Навстречу ему, вырастая из темноты, поднималась какая-то согбенная и унылая фигура. Заметив деда Северьяна, фигура быстро спряталась за толстый ствол березы.
Дед остановился, недовольно спросил:
– Кто там? Чего хоронишься?
– Это я-с, Северьян Михайлович, – робко сказал Гриша Банный, выходя из-за березы.
– A-а, ты, Гриша? – приветливо улыбнулся дед Северьян. – Чего ж ты хоронишься?
– Боюсь… я всего теперь боюсь…
– Меня тебе бояться нечего.
– А может быть, вы на меня сердитесь, Северьян Михайлович?
– За что ж, Гриша?
– Может быть, вы думаете, что я на вас какие-нибудь показания следователю давал… так я ни слова…
– Да что ты, Гриша! Господь с тобой. Ты тут ни при чем. Это я, брат, знаю.
– Я полагаю, Северьян Михайлович, следователь сами-с на вас подозрения имеют… так на первом допросе мне показалось. Они всё про вас спрашивали…
– Бог ему судья…
– А на втором допросе они необычайно настойчиво вникали в мою, сугубо интимную, жизнь. Праздное любопытство, доложу я вам, не имеющее к делу прямого отношения и не достойное серьезного человека…
– А ты, брат, больно робок. Эдак нельзя, жить трудно робкому-то… – перебил его дед Северьян.
– Знаю, Северьян Михайлович, но ничего с собой поделать не могу-с. Характер имею такой. И люди стали непомерно злобны, от тяжелой жизни, полагаю. Всякий пустяк их расстраивает. Вот хотя бы, например, меня не так давно чрезвычайно больно отколотил-c Алим Алимыч.
– Ахтыров? – сдвинул брови дед, ставя весла наземь.
– Они.
– Это за что же?
– За пустяк. Сущий пустяк. Как раз в день рождения супруги Алим Алимыч послал меня к сапожнику Ялику за новыми сапогами и велел к шести часам их принести. Я взял сапоги и пошел уже назад к Ахтыровым, но по дороге встретил Аксинью Тимофеевну и был задержан беседой с нею на очень короткое время, ибо я знал, что должен торопиться. Пришел к Ахтыровым в седьмом часу, минут десять седьмого. Алим Алимыч встретил меня на крыльце. Он был воистину страшен. Таким страшным я его еще никогда не видал. Лицо белое, глаза красные, губы дрожат… Как увидел он меня – вырвал сапоги из моих рук, повалил на траву и этими самыми новыми сапогами меня по лицу-с… и по голове-с… в кровь… Бил молча, сцепив зубы, без единого слова. Я лежал, закрывал голову руками и мысленно предполагал, чем все это может кончиться. Потом – то ли ему надоело, то ли он устал – бросил сапоги в кусты и побежал в одних портянках куда-то к Волге. Странный субъект, доложу я вам! – заключил Гриша, пожав худыми плечами.
Дед Северьян, несмотря на темноту, заметил на бледной физиономии Гриши следы сильных побоев.
– Впрочем, я не сержусь на Алима Алимыча, – добавил Гриша, – если вдуматься поглубже, то странного-то ничего и нет: он был очень рассержен небывалой катастрофой, которая в мое отсутствие произошла в доме. Их супруга в гневе разбила все, все до последней чашки-с…
– Слышал я, Гриша, про это безобразие. Слышал. А вот тебя Алим – зря побил. Не дружи ты с ним, Гриша, – тихо предложил дед Северьян, внимательно вглядываясь в лицо собеседника, словно он его видел в первый раз. Вздохнул.
Гриша опустил глаза.
– Эх, Гриша, человече ты Божий.
– Ну я пойду-с, Северьян Михайлович… – тронулся было Гриша.
– Постой! – остановил его старик. – Жить у тебя есть на что? Деньги есть?
Гриша замялся.
– Раньше Алим Алимыч с супругой поддерживали, а теперь… я боюсь обращаться к ним с подобной просьбой.
– Стой здесь и обожди меня! – приказал дед Северьян.
Он передал весла и подсак Грише и пошел назад к дому.
Гриша стоял позевывая и скучно посматривая по сторонам. Если бы старик вернулся только утром, то, вероятно, застал бы Гришу в той же позе, с тем же безразличным равнодушием во всей фигуре. Но дед Северьян вернулся очень быстро и протянул Грише сторублевую бумажку.
– На, возьми…
– Спасибо.
Гриша Банный сунул бумажку куда-то за пазуху, торопливо попрощался и боком, выбрасывая журавлиные ноги, покрался по обочине тропинки в гору.
XXIV
Ананий Северьяныч кое-как поправил дела: продал телка, большой отрез добротного сукна, купленный еще до революции, лет двадцать назад, и хранившийся в сундуке Ульяновны, да Кирилл прислал в конце сентября двести рублей. Денис регулярно отдавал свою зарплату отцу. Одним словом, Бушуев повеселел.
– Поскрипим еще, Ульяновна, стало быть с конца на конец, поскрипим еще, – говорил он, окрыленный надеждами и развивая в связи с этим невероятно кипучую деятельность. То он покупал в Татарской слободе смолу и перепродавал в Плёсе, где смола стоила почти вдвое дороже, то уходил в город на постройку шоссе и бил там щебень, честно принося весь заработок до копейки домой, то, наконец, походя воровал рыбу из чужих садков и продавал в городе. В дни его отлучек зажигали и тушили бакена либо Денис, либо Настя, если Денис вахтил на пристани. Ульяновна с утра до поздней ночи ткала новину.
Судьба два раза сталкивала Анания Северьяныча носом к носу со следователем Макаровым, которого Бушуев боялся, как огня. Один раз – на улице в Отважном. Об этой встрече Ананий Северьяныч рассказал отцу, когда ходил просить у него денег. Второй раз встретил он следователя в городе, возле здания Народного суда. Об этом Ананий Северьяныч счел нужным почему-то не говорить отцу, несмотря на то, что Макаров сказал довольно многозначительную фразу.
– Скоро, старичок, дельце-то выплывет на чистую воду.
Ананий Северьяныч мысленно перевел эти слова, как «скоро, старичок, папашу-то твоего того…», и испугался пуще прежнего.
– Меня еще запутают, окаянные, – думал он, возвращаясь из города в Отважное, – а ну их к шуту! Надо, стало быть с конца на конец, подальше держаться от всей этой анафемской истории.
И не сказал никому ни слова.
Однако угрозы следователя оставались только угрозами. Шел месяц за месяцем, а дело, в сущности, не трогалось с места. Макаров стал все реже и реже пугать людей допросами, а вскоре совсем перестал появляться и в Отважном, и в Татарской слободе.
Дело за № 1035 было, до поры до времени, положено в архив.
XXV
…Дул крепкий низовой ветер. По Волге ходили свинцовые волны с белыми, шипучими, как змеи, гребешками, шумно накатывались на приплеск, жадно щупая каждый камешек, каждую ямку. Стояла глубокая холодная осень. Давно улетели грачи; по утрам голые тополя стучали, словно зубами, обледенелыми ветками и на лугах жидким студнем качался туман. Еще несколько крепких заморозков – и вьюжная русская зима белым лебедем опустится на землю.
Окончив вахту на пристани, Денис шел берегом реки домой. Он сильно изменился за последние месяцы: вытянулся так, что перерос на голову отца, стал шире в плечах, карие глаза потемнели, стали глубже, непонятнее, задумчивее; длинные руки окрепли, и резко намечались круглые бицепсы; ломался голос и приобретал низкую мужскую окраску. В январе Денису исполнялось семнадцать лет.
Засунув руки в карманы расстегнутого короткого зипуна на бараньем меху, он шел тихо, вразвалку, любуясь бушующей Волгой. Над далеким луговым берегом, над серой полоской леса горизонт был светлее, чище, казалось, что где-то там еще сохранилось летнее тепло, но чем ближе к Отважному – тем небо становилось темнее, лохмаче, и над головой Дениса оно было мутное, сырое, с тяжелыми иссиня-черными тучами. Одинокая лодка под парусом ныряла в волнах и казалась ненужной, но дерзкой. Опрокинутые ветром, боком летали молчаливые чайки, не рискуя нырнуть в пену волн за добычей. Село Отважное, пришлепнутое к земле пудовыми тучами, тоже посерело, выцвело, примолкло…
Стужа. Ветер. Тоска.
Волны слизнули с берега непривязанный хозяином ботник и били его о груду мокрых камней. Денис вытащил его из воды, крепко привязал ржавой цепью, болтавшейся на носу ботника, к коряге и тронулся было дальше, но какие-то странные звуки за его спиной, напоминавшие не то хрип коростеля, не то поскуливание ушибленной собаки, заставили его обернуться. За пучком раскачиваемых ветром тальников, на каменистой тропинке, ведущей к колосовской бане, опутанной, как сетями, ветками безлистой бузины, сидел на земле Гриша Банный. Засаленная ватная поддевка пузырем вздулась на спине, на колени длинных, согнутых под острым углом ног он положил вытянутые руки с бессильно опущенными кистями, похожими на два желтых увядших листа. Лицо он ткнул меж рук, на лысом кочковатом затылке мотались из стороны в сторону остатки рыжеватых волос. Вздернутые брюки обнажали тощие синие ноги, засунутые в растоптанные и грязные брезентовые туфли. Рядом с ним валялось коромысло и стояли, грустно наклонясь, два полных ведра.
У Дениса сжалось сердце.
– Гриша!.. Григорий Григорьевич! – позвал он, приседая на корточки, – что с тобой?
Гриша Банный медленно поднял серое, как пыль, лицо, посмотрел мутными глазами на Дениса и перевел их на бушующую Волгу.
– Холодно, Денис Ананьевич… сердце замирает… в гору подняться не могу. Воду надо снести, а нет совсем сил-с… совсем нет.
– Так пойдем, я тебя домой отведу и воду поднесу.
– Благодарю, Денис Ананьевич. Но мне и встать-то сейчас будет тяжело… Посидеть надо, отдохнуть… Это ничего, пройдет… Посидеть надо.
– Ты плакал, Гриша? – спросил Денис, заметив следы слез на впалых щеках Банного.
– Нет-с… не плакал.
– А почему – слезы?
– Впрочем… я лгу… плакал…
– Зачем же ты?
– От бессилия… от слабости моей душевной, Денис Ананьевич. Странный ведь я человек: спустился на берег, зачерпнул воды, посмотрел на Волгу, на небо это и… заплакал. Взял и заплакал. Словно собака на луну. А тут еще сердце захолонуло, двинуться не могу…
– Значит, идти не можешь?
– Нет-с… Сейчас не могу.
– Тогда ты посиди, а я воду пока отнесу, – предложил Денис.
– Не трудись… я сам, – слабо запротестовал Гриша.
– Как это – сам? Вот еще! – строго сказал Денис и подошел к ведрам. – Куда их? К тебе в конуру?
– Нет, это не мне. Колосовы баню топят, мыться будут, так это для них. Им я воду носить нанялся, да только вот сил не хватает… – с горечью заключил Гриша, кладя опять голову на руки.
– Я за тебя поношу воду-то… Ты сиди, сиди. Ha-ко вот, укройся еще моим зипуном.
Денис быстро сбросил с себя зипун, накрыл им плечи Гриши и, легко подняв тяжелые ведра без коромысла, пошел по каменистой тропинке вверх. Тонкая сатиновая рубашка не защищала его от промозглого ветра, но он не чувствовал холода, он думал о Грише, перед глазами все еще маячила согбенная худая фигура. На горе́ шумно раскачивались могучие березы, а за ними, где-то еще выше, пьяненький отважинец тянул заливистым тенором:
…он близко к кладби-и-ищу подходит,
а там часы две-е-енадцать бьют…
И казалось, что певец находится высоко, очень высоко, под самыми тучами, и оттуда посылает на землю слова и звуки печальной песни.
…широко двери растворяет —
стои́т обиты-ый черный гроб…
Старая бревенчатая баня напоминала домик Бабы-яги. Теперь, осенью, она казалась еще запущеннее, еще ветше и еще страшней. Из кирпичной полуразвалившейся трубы поднимался и сразу же разгонялся ветром седой, едкий дым. Клочья этого дыма повисали безобразными комьями на сучьях берез. Баню топили.
Обогнув Гришин куток, Денис прошел мимо забрызганного грязью маленького желтого оконца и подошел к покосившейся, с рассохшимися досками, некрашеной двери. Замка́ не было. Дверь на полвершка отходила от косяка, следовательно, внутри кто-то был. Не выпуская ведер из рук, Денис носком сапога подковырнул снизу дверь, откинул ее и вошел в темный, пахнущий сыростью предбанник.
На широкой лавке сидела полураздетая Манефа. На ней была только одна старая клетчатая юбка, которую она еще не успела снять. Увидев Дениса, она легко вскрикнула и, схватив черную кофту, прикрыла ею смуглую грудь. И странным, совсем не испуганным, а скорее удивленным голосом она тихо спросила:
– Ты, Денис?.. Зачем ты здесь?
Денис, удивленный не меньше ее, растерянный, стоял перед ней и был не в силах оторвать глаз от полного круглого плеча, белевшего на фоне темной от сажи бревенчатой стены. Оно мучительно притягивало к себе, блестя гладкой шелковистой кожей. Он сразу вспомнил почему-то лето, покос и лежащую на спине Манефу с порезанной и кровоточащей ногой.
– Гриша меня попросил воду принести… Он не может, болен… сидит там на берегу… – едва слышно выдавил Денис.
Она поймала его взгляд, подвинула руку с кофтой выше и закрыла плечо. Сдавленным, неестественным голосом сказала:
– Проходи… Там в углу кадка с холодной водой стои́т, вылей ведра туда… – и сильным ударом голой ноги она распахнула дверь в баню.
Денис согнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку, перешагнул порог и прошел по гнилым скользким доскам к кадке. От духоты ли, наполнявшей баню, или от напряженно стучавшей в висках крови – на лбу его засверкали бусинки пота. Голова кружилась. Как в тумане, он вылил воду в кадку и, поставив ведра на пол возле раскаленной печки, вернулся в предбанник.
Манефа сидела все в том же положении, крепко прижав к груди черную кофту. Но в позе, в лице, в глазах она была совсем другая, чем несколько секунд назад, когда только что появился перед ней Денис. Это была не гордая, капризная и властная Манефа, а безвольная, расслабленная и покорная женщина. Как это случилось и почему? Почему – Денис? При чем тут Денис, чужой ее сердцу мальчишка, о котором она никогда не думала и которого даже не замечала? Она этого не понимала, не могла дать себе отчета в этом. Она понимала одно, что все то, что заботливо сберегалось ею долгое время, что было последней крепкой нитью, связывающей ее с чем-то большим, прочным, как земля под ногами, дающим ей право на гордость и власть, – вот эта-то крепкая нить и должна была сейчас оборваться, и, что самое главное, она знала, что наверное должна оборваться, и именно сейчас, через несколько мгновений. Нелепую, страшную ступень предстояло ей перешагнуть. Так, бывает, стои́т человек на мосту – и ему безумно хочется броситься вниз с головокружительной высоты, и его тянет, неуклонно и настойчиво тянет сделать это. Он шарахается в сторону, бежит, но его кто-то хватает за плечи и отбрасывает назад, и он чувствует, что с этим-то невидимым, сильным, неумолимым он бороться не может.
Она беспомощно, снизу вверх, смотрела на Дениса и просила его помутившимся взглядом не подходить, не прикасаться к ней… Это говорили глаза. Язык же сделался тяжелым, неповоротливым и не мог произнести ни слова. Руки дрожали, маленькие ступни ног, подвернутые под лавку, едва касались пальцами холодного пола и не чувствовали, что им холодно. С остановившимся дыханием и стучащим, как маятник, сердцем, Денис сделал еще шаг, стал, касаясь коленями колен Манефы, нерешительно протянул руку, коснулся ее щеки и тихо провел пальцами по горячей коже. Он тоже не отдавал себе отчета ни в чем: ни в мыслях, ни в поступках. Все рождалось само собой, все подчинялось кому-то третьему, невидимому, но присутствующему где-то рядом. Денис знал, определенно, точно знал и видел, что если он подойдет к Манефе, обнимет ее, поцелует, то она не сделает ни одного движения, чтобы помешать ему. А она все больше и больше притягивала его к себе какой-то чудовищной и властной силой, не покориться которой не было возможности. Да он и не хотел не покоряться, он хотел покориться этой силе, к этому-то и стремилось все его существо.
Денис наклонился, сжал ее плечи сильными юношескими руками и прижал пересохшие губы к полуоткрытому сочному рту Манефы. Позабыв о кофточке, упавшей на колени, она стремительно обвила рукой его крепкую шею и притянула его к себе.
– Крючок… – растерянно шепнули ее губы, когда глаза заметили неплотно прикрытую дверь предбанника.
Денис, шатаясь как пьяный, подошел к двери, хотел накинуть на петлю крючок, но резкий порыв ветра распахнул дверь настежь, бросил в предбанник ворох сухих листьев и пронзительно, как плакальщица, засвистел в дырявой крыше. И в облаке поднявшейся пыли Денис вдруг увидел в двадцати шагах от себя хрупкую маленькую фигурку, отчаянно защищавшуюся от ураганного ветра. Это была Финочка. Она шла в баню и несла на плече огромную корзину с бельем. Наклонив голову, она протирала свободной рукой засоренные песком глаза.
Денис беспомощно оглянулся на Манефу, хотел что-то сказать, но слова застряли в горле, и он, смутно понимая, что делает, перешагнул порог и прыгнул под откос в кусты бузины.
– Зачем?.. Не уходи! – слабо вскрикнула Манефа, вскакивая и бросаясь к дверям…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































