Текст книги "Люди из пригорода"
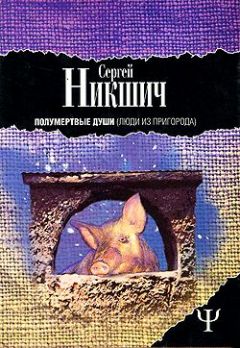
Автор книги: Сергей Никшич
Жанр: Юмористическая проза, Юмор
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Пока злобная парочка сражалась с сугробом, молодые наши бежали изо всех сил. Алексей держал Пашку за руку, радостно отмечая, что она руку у него не забирает и иногда посматривает на него восхищенно, как на героя, которым он, однако, себя не считал. Алексей, опасаясь, что Пашка в своих худых сапогах да тряпье может замерзнуть на ледяном ветру, который вдруг задумал обдуть Горенку со всех сторон, повел ее напрямую через кладбище. На недавно расчищенные дорожки уже успел нападать снежок, но идти было не трудно, да и белые дорожки словно указывали им путь. Они уже было почти прошли все кладбище, стараясь, правда, не смотреть по сторонам, как вдруг услышали детский лепет и смех. К их удивлению, на снегу перед ними они увидели младенчика в ползунках, который держал в руках нехитрую пластмассовую погремушку. Ветер и снег, как видно, ему не мешали, а увидев перед собой людей, он засмеялся еще более радостно и даже как бы кокетливо и чуть-чуть отполз в сторону от дорожки. Пашка было попыталась взять на руки дитятю эту, неизвестно как оказавшуюся в безлюдном месте ненастной ночью, но руки ее прошли через ребенка, как сквозь туман, а он в свете луны, лениво показавшейся в холодном ночном небе, вдруг как-то посерел и помрачнел и, подняв лицо, вдруг сказал, как говорят довольно уже большие дети:
– Вы себе идите, идите. Нечего вам тут, замерзнете.
– А ты как это? – только и смог выдавить из себя совершенно растерявшийся Алексей. – Ты-то как будешь?
– А мне-то что, – так же радостно ответил младенчик, – я-то мертвый, мне не холодно, но мы еще встретимся, может быть, я у вас рожусь, – и, сказав это, младенчик кокетливо, как кокетничают дети со взрослыми, рассмеялся от всей души м затряс свою погремушку, которая, однако, звуков не издавала, потому как и она, видать, была не от мира сего…
Пашку от холода и страха начала вдруг бить сильная дрожь, и Алексей, смекнув, что делать им тут и вправду нечего, потащил ее дальше за собой. Доброжелательный младенчик помахал им вдогонку пухлой ручкой и крикнул:
– До встречи!
Минут через десять они уже добежали до хаты Алексея. От холода и ветра по Пашкиному лицу текли крупные слезы. Матушка Алексея, увидев их, всплеснула в ладоши и тут же принялась греть чай, усадила Пашку на единственный диван и укутала ее толстым одеялом, не зная, чем еще помочь.
От тепла и чая со всякой домашней снедью Пашка сразу заснула, прямо сидя на диване, и темно-медные ее волосы разметались по дивану, как осенняя листва. Алексей заботливо ее укрыл и, избегая материнских глаз, ушел к себе.
– Она у нас будет жить? – только и осведомилась Варвара Федоровна.
– У нас, больше ей пока негде.
А утром Алексея ожидал сюрприз. Мать помогла Пашке вымыться и одела ее в свое девичье цветастое платье, которое удивительно шло к темно-бирюзовым бездонным Пашкиным глазам. Кстати, оказалось, что она вовсе никакая и не Пашка, а Евгения, Женя, а Пашкой, к тому же Запертой, нарекла ее злобная проходимица, свалившаяся на Женькину голову неизвестно откуда подобно тому, как коршун с небесной высоты набрасывается на беззащитного зайца. Одним словом, красоты она была неописуемой, и Алексей про себя ругал Панаса, который отказался от такой дочери, не защитил ее и тем самым отдал на поругание злым и жадным людям.
Глаза его жадно пили ее красоту, но он старался на нее не засматриваться, чтобы не смущать. А Женя как-то сразу расцвела у них дома, словно редкий цветок, попавший наконец в подходящие для него условия. К тому же оказалось, что она, незаметно для Алексея, прочитала почти все его книги да и его собственные стихи и рассказы. И может даже читать его стихи наизусть.
Бегство Жени пришлось на пятницу, и выходные они провели дома. Отдыхали, разговаривали о том, о сем, о книгах, планах Алексея на будущее, о том, что и Жене пора наверстывать упущенное, а также заняться делами – закончить школу, отобрать у проходимицы дом, но самое главное – решить, чем заниматься дальше. Что может быть лучше, чем быть молодыми и вместе строить планы на будущее? К тому же, если это будущее, быть может, будет общим…
Алексей, тот почти уже был уверен, что наконец встретил свою судьбу. Правда, он отдавал себе отчет, что Женя с ее медно-золотыми волосами, точеной фигурой и прехорошеньким личиком, на котором бирюзовые озера глаз казались двумя сверкающими драгоценными камнями, скорее напоминает французскую кинозвезду, чем жену начинающего журналиста, но молодость на то и молодость, что ничего не боится и ничего не берет в расчет. Да и младенчик, тот загадочный младенчик, обещал, что родится у них, он ведь так и сказал: «у вас рожусь». Эти рассуждения Алексея успокаивали, и он суетился, как мог, вокруг Жени, потому что та не то что была больна, но два года в мрачном сарае несколько подорвали ее здоровье, хотя, как ни удивительно, не озлобили и характер не испортили. Она так ласково улыбалась, когда смотрела на Алексея, что ему казалось, что это ласковое весеннее солнышко согревает его…
А на третий день пребывания Жени под их с маменькой крышей Алексей проснулся не от звонка будильника и не от кукареканья соседского петуха, горластого, как сорвавшая голос оперная дива, а от сильного чувства любви. Такого с ним не бывало даже тогда, когда он был влюблен в Алену. Любовь заполнила его изнутри всего целиком, и тело казалось ему почти невесомым. Он вскочил с постели и заглянул в гостиную, где на диване спала Женя. Алексея тянуло к ней как магнитом. Он больше не стал себя сдерживать, подошел к дивану, стал на колени и поцеловал ее, решив про себя – будь что будет. Женя открыла глаза, улыбнулась и вдруг обняла его и прижала к себе, и целый мир перестал на мгновение существовать в привычном для Алексея целостном виде, превратившись в пляску пульсирующих атомов и электронов, между которыми простреливали разноцветные молнии.
А на следующий день, прямо с утра, они отправились к Голове. Им было прекрасно известно, что с Головы все как с гуся вода и единственно верный путь – основательно припереть его к стенке и как следует напугать. Голова, видать, был уже предупрежден об их визите проходимицей, потому что, увидев их в окно, он забаррикадировался в кабинете, а Тоскливцу и Маринке приказал: «Пустите – уволю раз и навсегда!». И поэтому, когда Женя и Алексей наконец оказались в присутственном месте, которое было обставлено по-спартански и украшено одним только произведением искусства – бюстом бывшего вождя пролетариата, умильно пялившегося в вечность, перед ними предстали Тоскливец и нахмуренная, но при этом, как всегда, пышногрудая Маринка. Тоскливец, воспрянув в отсутствие всевидящего ока забаррикадировавшегося начальства, уверенно обнимал ее за талию, а та также уверенно делала вид, что ничего не замечает, и они вдвоем делали вид, что посетителям абсолютно незачем врываться в кабинет невидимого руководителя. Алексей, впрочем, к этому был заранее готов и без долгих разговоров вытащил удостоверение журналиста.
– Передайте Голове, – сказал он, – что если он через пять секунд не выползет из своего логова, то я уже завтра пропечатаю его в местной прессе так, что потом не то что сельсовет, а прокуратура его, вора и негодника, не примет. Шутка ли, у сироты вместе с приезжей прохиндейкой дом украл, ее в сарае запер и гуляет себе по селу, как гора сала! А документы ты, Тоскливец, делал, я знаю, так что и тебе несдобровать, поэтому беги к своему покровителю и донеси ему, что дело – швах и пора награбленное возвращать пока не поздно, потому что, если за ним придут люди в погонах, то не только Голову, но и тебя уведут они с собой, и хотя Бог нас миловал и Колымы у нас нету, но колонии строгого режима никак не напоминают в смысле уюта тот зад, к которому ты сейчас бесстыдно у всех на глазах норовишь подобраться…
Маринка фыркнула, как необъезженная лошадь, Тоскливей, побагровел и посинел, но по своему обыкновению промолчал, а на полусогнутых своих конечностях, и при этом держась, как всегда, очень прямо, прошествовал за кабинет Головы и стал там каким-то одним ему известным способом переговариваться и перестукиваться с Головой. Продолжалось это мельтешение целую вечность и кончилось тем, что багровый, как закат солнца перед ветреным днем, Голова вырвался из кабинета, как выпущенный на свободу бык, и завопил, явно не жалея голосовые связки:
– Пугать пришли? Меня, Голову, они пугать пришли? И кто, прости Господи?! Студент-недоучка и девица, к которой я сейчас вызову ее друзей в белых халатах, чтобы они позаботились о ее, скажем так, душевном спокойствии…
Алексей, однако, на провокацию не подался и скандалить не стал. Он только сжал сильнее руку Жени и четко, чеканя слова, сказал:
– Так до тебя еще не дошло, значит, что завтра утром про твои похождения будет знать вся область? И куда ты тогда денешься? Вместе с чертом будешь по зарослям туристов пугать? А как же покушать? Правду тебе говорю, не отдашь нам сейчас документы на ее дом – в казенном доме проведешь свою преждевременную старость…
– А чем докажите? – огрызнулся было Голова.
– Кому надо, те и докажут, – туманно ответил Алексей. – Даю пять минут, а потом еду писать статью.
Голова побагровел еще больше, и лицо его уже более всего напоминало по цвету, да и по форме тоже, распаренную в наваристом борще свеклу. Голова многозначительно поджал губы, грубо оттолкнул Тоскливца от Марины, к которой тот опять тихой сапой надумал было подобраться, и пригласил Алексея и Женю к себе в кабинет.
О чем они там судили-рядили, нам доподлинно не известно, но уже в эту ночь проходимица исчезла из села вместе со своим хахалем и больше ее в этих краях и духу не видывали. А на следующий день Голова радостно вручил Жене ключи от ее родного дома и причем обставил все так торжественно, словно он сам его построил и ей подарил. Бывают же еще на свете, читатель, такие бессовестные сельские готовы!
Но дело было сделано, и Женя, казалось, могла теперь вернуться в родные пенаты и с помощью Розалии Николаевны закончить школу, а дальше… Да кому известно, что могло быть дальше. Но Женя возвращаться домой наотрез отказалась.
– Все равно, что в тюрьму, – пояснила она Алексею. – Если я тебе не в тягость, позволь мне у тебя пока пожить.
Надо ли и говорить, что позволение она получила безо всякого труда, и вскоре Явдоха и Богомаз, Скрыпаль, Борода, Хорек с супружницей и всякий прочий честной люд основательно нагрузился по христианскому обычаю на свадьбе у Жени и Алексея.
И жизнь потекла дальше как-то незаметно, но уверенно. Дом Жени они продали и выкупили квартиру в Липках. Хата в Горенке превратилась просто в дачу, а роман, роман принес Алексею известность, и он стал богат и знаменит и даже основал собственную газету, но журналистов не тиранил, а обращался с ними, как с родными детьми. А злопыхатели, ведь всегда существуют злопыхатели, говорили, указывая на красавицу-Женьку:
– Выскочила за знаменитость, вот проныра!
И прошло двадцать лет. Так быстро и незаметно, словно двадцать новогодних праздников, двадцать застолий только, и на висках у Алексея показалась уже предательская седина, дети (у них с Женей родилось двое мальчиков) иногда звонили ему уже из заморских колледжей, в которые он отправил их набираться уму-разуму, и если бы не верная и преданная подруга, наверное, он страдал бы от одиночества.
А Женя, наша Женя, вот уж не зря говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, стала писать сказки для детей. Сначала их, вероятно, печатали потому, что она была женой Алексея, а потом уже потому, что это были ее сказки. Но работала она как-то незаметно, чтобы не ущемить самолюбие супруга, и всегда предпочитала оставаться на заднем фоне. И настолько они с Алексеем притерлись друг к другу, что тот и не представлял себе без нее своей жизни. А она без него…
А в тот вечер, морозный ноябрьский вечер, когда Женя пригласила его на презентацию своей новой, написанной тайком (она любила сюрпризы) книги, он задержался в редакции и чуть было не опоздал. Наверстывая время, он не поехал, как всегда, в машине, а водителя отпустил и, чтобы сэкономить время, побежал через подземный переход, тот, что в самом центре, под Майданом, стараясь изо всех сил не споткнуться и в то же время не сбить никого с ног. Но неожиданно в прокуренном воздухе, среди тусующейся молодежи, он услышал знакомый, как ему показалось, голос – небольшая группка то ли обтрепанных хиппи, то ли, наоборот, почти прилично одетых бомжей протяжно выла, изображая некогда популярную, но уже почти забытую им песню. Алексей подошел поближе, чтобы их рассмотреть, и, скажем так, в зрелой, но сохранившей остатки былой красоты, певице он узнал, к своему изумлению, Алену. Глаза их встретились, как в ночном небе встречаются молнии, и она тоже его узнала. А тут и песня закончилась, и она протянула к нему свою руку и почти ласково погладила по щеке:
– Я же тебе говорила, что ты талантливый, дурачинка!
Она придвинулась к нему еще ближе и уже было собралась обнять его обеими своими пухлыми и белыми руками, и тогда, кто знает, что произошло бы дальше, но Алексей вдруг внимательно взглянул на Аленину руку, которой она гладила его по щеке и, к своему ужасу, увидел, что вместо правой руки у нее – покрытая чешуей змея, которая беззвучно скалит свои желтые длинные зубы и норовит укусить его, взглянул на вторую руку – и та – змея. Холодный пот прошиб нашего писателя, да такой, что одежда на нем сразу взмокла, и когда Алена почти уже было подступила к нему и он вдохнул тот особый запах, который всегда доводил его сразу же до любовного беспамятства, он большим усилием воли сделал шаг назад и, не прощаясь, повернулся и неуклюже заковылял прочь на ватных, плохо слушающихся ногах.
– Куда же ты, дурачинка, – донесся ему вдогонку ее бархатистый голос, – подожди, попрощаемся.
Объективности ради, читатель, следует заметить, что голос ее почти полностью парализовал его, как укус змеи или медузы, и Алексей, как Одиссей, которого соблазняли голоса сирен, еще больше замедлил шаг и, почти теряя сознание от сигаретного дыма и душного воздуха, прислонился к стене, а она, уже чуя свою добычу, отделилась от мрачных личностей, уродовавших вместе с ней популярную при царе Горохе песню, и пружинисто, как пантера, направилась к нему. Но тут, когда всего только жалких два или три метра отделяли эту, как теперь понимал Алексей, ведьму от него самого, в голове у него вдруг раздался Женькин испуганный крик: «Нет!!!». И крик этот, как нашатырный спирт, прогнал отвратительную одурь, и он бросился к выходу из перехода, стараясь не оборачиваться, чтобы не встретиться глазами с глазами ведьмы, в которую превратилась Алена за эти годы.
Не прошло и трех минут, как он был уже в книжном магазине, в котором собравшаяся публика должна была приветствовать его супругу. Но вместо праздника и веселья он застал лишь смятение и растерянность – Женя лежала на полу в глубоком обмороке, а под левой грудью на блузке беззвучно расползалось кровавое пятно. Завыла сирена «скорой помощи», и к Жене бросились подоспевшие медики.
Магазин был тут же освобожден от посторонних, Женю уложили на кушетку в кабинете директора, дали кислорода, и она открыла глаза, тревожно, как сквозь туман, рассматривая обступившие ее лица. И только когда она увидела Алексея, она успокоилась и позволила себя осмотреть ничего не понимавшему доктору.
– Кожа напротив сердца кровоточит, – озадаченно сказал он, протирая очки. – Надо же…
Домой они уехали на «скорой помощи». Женя попросила ни на минуту не оставлять ее одну, и Алексей заботился о ней, и как нянька, и как мать родная, и при этом ни на мгновение не покидал ее из виду.
Через несколько дней она призналась ему, что вдруг явственно увидела, как кобра кусает его в голову, а при этом вторая змея пьет кровь прямо из ее сердца. Наваждение это было или явь, кто знает…
А еще в городе поговаривали о том, что какая-то бомжиха исчезла вдруг на глазах у досужей публики прямо в центральном переходе. Чего, впрочем, только не выдумают бездельники, шатающиеся там по ночам! А в Горенке, в свою очередь, болтливые кумушки разнесли по селу неслыханную новость – бабы, заблудившиеся в пургу в лесу, видели черта, и у того уже была не одна, а двое чертовок! Но все сходились на том, что это самые явные враки.
Вот, пожалуй, и все. Не знаю, что из услышанного мной как-то вечером в деревенском шинке правда, а что нет. Много всего, о читатель, происходит в подлунном мире. А в Горенке, в Горенке и подавно.
Дваждырожденный
Дваждырожденным Богдан назвал себя сам, а сельчане прозвали его просто Контуженным, хотя толком никто не знал, когда именно его контузили – в Афгане или во время Второй мировой войны, – настолько древним казался он под шапкой совсем седых волос, из-под которых виднелось пожелтевшее, в крупных морщинах лицо. Впрочем, никого в селе это якобы и не интересовало, потому что горенчане, хоть и были любопытны до крайности, но виду не показывали и сплетничать предпочитали за глаза. Один только Голова попытался добиться у Дваждырожденного истины в ответ на его требования о пособии и пайке. Но никаких документов у того не оказалось – украли или потерял, и Голова вынужден был заметить со свойственной ему прямотой:
– Тебя, братец, видать под магазином контузило…
Дваждырожденный стерпел и больше к Голове по данному вопросу не заходил и перебивался кое-как на ту пенсию, которую ему неизвестно откуда присылали, да на овощ со своего же огорода.
В селе уже мало кто помнил, почему он окрестил себя Дваждырожденный, хотя история эта была не из банальных. Сказывают, что, пока он носился по далекому Афгану, жители которого отнюдь не спешили с благодарностью принять «интернациональную помощь» и все норовили повесить или, по крайней мере, пристрелить того, кто ее предложил, в Горенку привезли гроб да документы на него, Богдана. Родители его к тому времени уже умерли, и Голова, хотя он и не любил вспоминать об этом, распорядился быстренько похоронить «интернационалиста» на кладбище, подписал все документы, и сопровождавшие гроб солдаты исчезли так же внезапно, как и появились. Голова уже всерьез стал подумывать о том, как бы приступиться к опустевшей хате, и уже было почти решил переписать ее на свою тещу, но тут откуда ни возьмись в селе появился Богдан. И с полным набором орденов, медалей и документов из военного госпиталя. У некоторых знавших его с младенчества старух при виде его чуть не сделался инфаркт, поскольку они уже успели его во всех смыслах похоронить. Но он оказался никаким не привидением и нахально поселился в собственной хате, которую Голова в глубине души уже считал почти своей.
И тогда по селу поползли слухи, что похоронили не его, Богдана, а он сам специально прислал сотоварищей, которые привезли в гробу множество мешков с отбитыми у моджахедов долларами и драгоценными камнями. Слухи эти ползли и ширились, и днем над ними все смеялись, но по ночам, и особенно в корчме, только и разговоров было о том, найдутся ли в селе смельчаки, которые выроют богатство до того, как комиссованный из-за контузии солдат окончательно придет в себя и сам до него доберется. И, сказывают, смельчаки нашлись, да такие, что потом все село хохотало до боли в животе, а у кладоискателей до конца их дней на головах отметина осталась – никто из них не уберег своей шевелюры – отправились они на кладбище парубки как парубки, а возвратились с лысыми как колено головами. Трудно даже сказать, правда это или нет, но один из очевидцев как-то поздней ночью и только после того, как основательно принял на душу прозрачного, как слеза, напитка, рассказал, что дело было вот как. Четверо друзей-крепышей, околачивавшихся без работы и денег и не желавших, как все, стоять в городе на базаре, чтобы хоть как-нибудь прокормиться, решились все-таки попытать счастья. Приготовили инструмент и в первую же темную ночь, а дело было в начале осени, отправились искать сокровище. Могилу нашли они без всякого труда, да и силы им было не занимать, и через полчаса добрались они уже было до своего, как они думали, сокровища. Раскрутили болты на цинковом гробу и уже было думали его открыть, как вдруг из него раздались автоматные очереди, а потом кто-то стал палить из гранатомета и шум поднялся такой, что ничего нельзя было разобрать, да к тому же еще и ураганный ветер пронесся над лесом и кладбищем, и утром селянам немало пришлось потрудиться, чтоб засыпать неизвестно откуда появившиеся воронки да расчистить дорожки от упавших искореженных сосен.
История эта наделала шума, над четверкой друзей потешались, как над ненормальными, и еще одна компания охочих до чужого добра искателей приключений отправилась по их стопам. Ходили даже слухи, что это сам Голова их подзадорил и даже бесплатно (вот добрая душа!) напоил их для храбрости за обещание, что они возьмут его в долю. Но и эти смельчаки едва унесли ноги, причем двое или трое из них даже получили ранения, и им пришлось долго краснеть в больнице и лгать, что их обстреляли из проезжавшей машины, а кто именно, они не знают, потому что, во-первых, они не могли признаться, что занимались гробокопательством, а во-вторых, никто бы и не поверил, что покойники умеют так ловко обращаться с детищем инженера Калашникова.
Могилу снова засыпали, правда, деревенские болтуны продолжали утверждать, что периодически прохожие слышат в углу кладбища шум боя, выстрелы и вопли умирающих, но со временем слухи эти как-то иссякли, да и люди предпочитали об этой истории не вспоминать. И только Дваждырожденный ходил как живое напоминание об ужасах войны. Дваждырожденный он нарек себя после того, как узнал, что один раз его уже похоронили.
Однако то, что с ним произошло, превратило его не в нытика и пессимиста, а в философа.
В то памятное для нас зимнее утро, когда Алексей и Запертая Пашка только-только покинули кабинет Головы, а сам он, еще задыхаясь, пытался наугад измерить себе давление, возле его кабинета показался Дваждырожденный. В кабинет он заходить не стал, а только заглянул и провещал, как всегда, четко и лаконично:
– Мы живем во времени, а оно в нас. Тот, кто познает, как выйти за его пределы, обретет бессмертие. Подумай над этим.
Голова очень хотел обрести бессмертие. Очень. Да и не удивительно, если его супруге без всяких фитнес-центров удалось помолодеть годков, этак, на тридцать, и хотя Голова к этой, как он выражался, впавшей в детство вертихвостке еще не подобрался, но надежды не оставлял. Натурально, бессмертие было ему необходимо как воздух, чтобы целую вечность наслаждаться юной Тапочкой и своей замечательной должностью. И поэтому он по простоте своей душевной весь день вместо того, чтобы подписывать всякие дурацкие и скучные документы, которые подобострастно подсовывали ему Тоскливец и Маринка, рассчитывавшие, что он пораньше уйдет домой и тогда они тут же прицепят на двери сельсовета табличку с сакраментальной и в то же время строгой надписью «Работает комиссия. Не беспокоить!», размышлял над словами Дваждырожденного. Причем так усердно, что к вечеру у него началась отчаянная мигрень. Даже Маринка была ему уже не мила, а Тоскливец, тот вообще представлялся вампиром, который тайно, каким-то одному ему известным образом, пьет его кровь.
Итак, кончилось все не бессмертием, а страшнейшей головной болью, да такой, что все вокруг него вдруг потемнело, словно песчаная буря налетела на Горенку из далекой Сахары. Голова посмотрел на часы – ровно полдень, и хотя зимой в Горенке смеркалось рано, но до темноты оставалось еще несколько часов. «Неужели нечистая сила?» – тревожно подумал Голова и для храбрости крикнул в сторону приемной: «Маринка! Чайку, да погорячее!». Надо сказать, что после того случая, когда призраки крестоносцев ворвались в его дом, Голова стал суеверным до крайности, непрерывно крестился и даже меньше стал красть. «Только бы никто больше не приходил, только бы никто…» – думал Голова и меланхолично рассматривал пушистые снежинки, которые сыпались на Горенку, как из рога изобилия, угрожая засыпать ее к утру по самые крыши. Но тут дверь со скрипом раскрылась – средства на ее смазку предусмотрены не были – и в сельсовет жизнерадостно ворвался Прыгучий Павлик. Увидев его, Маринка и Тоскливец сразу забились по углам, словно к ним пожаловал не плюгавый, загорелый, как цыган, шатен, а торжествующая чума. Впрочем, их можно было понять – репутация у Павлика была, прямо скажем, никакая. Он нигде не работал, разве что только числился в нескольких государственных учреждениях, в которых его принимали на работу только для того, чтобы уволить при первом же сокращении. И поэтому половина его жизненной энергии уходила на то, чтобы заводить все новые и новые трудовые книжки и нужные знакомства, чтобы оформляться на мизерные ставки, из которых он к тому же вынужден был выплачивать кому нужно известную мзду. Вторая половина его жизни припадала на воровство. Врожденная клептомания и необъяснимо пылкая любовь к самому себе сделали свое дело – Павлик крал все, что попадалось ему под руку. Поскольку числился он в государственных ведомствах и одевался солидно, то заподозрить этого солидного человечка в том, что он только что украл вилку или носовой платок, было нелегко. А когда его ловили за руку, он сразу же начинал хлопать глазами, как сова, которую вытащили на свет, и божиться, что пострадал из-за близорукости (хотя на самом деле зрение у него было, как у орла, и очков он никогда не носил) и собственной скромности, и нес при этом такую околесицу, что слушать его не было никакой возможности. В большинстве случаев его просто выталкивали взашей. В селе люди предпочитали с ним не здороваться, а в корчму пускали только тогда, когда он заранее оплачивал рюмку известного напитка с неизменными двумя кусочками зажаристой домашней колбаски. Одним словом, личность была такая темная, что даже Голова старался держаться от него подальше. Но сейчас, когда его застали «при исполнении», деваться Голове было некуда и он с тоской подумывал уже о том, какую порцию бреда, божбы и чепухи ему придется сейчас выслушать.
Павлик, однако же, никогда не замечал, что люди его сторонятся, и даже, напротив, считал себя душой общества, потому что еще в школе выучил несколько тошнотворных анекдотов и мог с важным видом и со знанием дела вставить в разговоре с базарной торговкой какое-нибудь новомодное словцо типа «веб-сайт».
– Привет, Голова, – развязно поздоровался он, словно был Голове ровня или дружок.
– Давай, покороче, – хмуро ответствовал Голова, на которого при виде Павлика мигрень, накликанная Дваждырожденным, сделала второй заход – на Голову опустились сумерки, виски сжал омерзительный обруч, а спасительный горячий чай с таблеткой пятирчатки превратился в недосягаемую мечту, поскольку Маринка была уверена, что Павлик наводит на нее порчу, и поэтому нельзя было надеяться на то, что она принесет чай, пока этот крохобор не уберется восвояси.
– Да вот на ужин хотел вас пригласить, – умильно улыбнулся Павлик, – тесть копченого поросенка прислал и еще кое-чего, да и половина постаралась по части маринадов…
Голова, надо сказать, поросят любил как раз копченых, да и от остренького мигрень могла пройти, и поэтому предложение Павлика пришлось как раз кстати.
– Да и на крестничка посмотрите, оказия будет, – блудливым соловьем продолжал заливаться Павлик.
Голова был крестным почти у всех сельских детишек, однако припомнить, что он кум Павлику, никак не мог.
Сердце, правда, вещевало Голове, что во всем этом скрыт какой-то подвох, но какой именно, он разобрать не мог, и к тому же разбушевавшаяся мигрень притупляла его обычную бдительность. И поэтому он на радость Маринке и Тоскливцу позволил Павлику себя увести, хотя на душе у него и скребли кошки, а лицо само по себе стало вдруг выражать нечто вроде великомученичества да причем так убедительно, что Маринке на какое-то мгновение даже стало совестно – храбрый Голова отводит от нее с Тоскливцем беду и принимает удар на себя. Впрочем, она тут же вспомнила, что удар имеет вид копченого поросенка, и принялась тут же жалеть самое себя – уже под тридцать, а она все продолжает прозябать в селухе, и, быть может, зря она тогда не поддалась на уговоры того пронырливого ухажера, который доказывал ей, что работает режиссером, и для убедительности притаскивал видеокассеты со всякой похабщиной, чтобы ее, Маринку, раздраконить…
Ее минорное настроение настолько овладело ею, что она отмахнулась от Тоскливца, как от надоедливой мухи, когда он, как только за Головой захлопнулась дверь, как всегда, почти бесшумно подполз к ней со всякими шалостями. Тоскливец подумал было, что она просто кокетничает, но тут на его беду в сельсовет, невзирая на предупреждение о работающей комиссии, которое он уже предусмотрительно вывесил, заглянул Дваждырожденный. Увидев Тоскливца возле Маринки, Дваждырожденный оглушительно провещал:
– Спасется лишь победивший похоть!
Дверь со скрипом захлопнулась, и Маринка, окончательно отстранив от себя Тоскливца, принялась надевать дубленку. Тоскливец, выдававший себя за человека деликатного, настаивать не стал, а помчался прожогом к себе домой в надежде, что к нему наконец заглянет на огонек окончательно помолодевшая Тапочка. Он уже три месяца после работы отлеживался в постели и копил для нее, несравненной, силы и комплименты, и хотя она не спешила навестить его и даже с трудом узнавала на улице, когда он по-подхалимски перед ней раскланивался, как почуявший весеннее солнышко павлин, он все же не оставлял надежд на свое счастливое будущее.
В этот вечер его напряженное ожидание увенчалось успехом, но совсем не тем, который он предвкушал. Кто-то громко постучал в дверь, и когда Тоскливец как человек аккуратный и предусмотрительный посмотрел в глазок, то увидел перед собой, как всегда, оскаленную от бешенства пасть своей подруги жизни. Ошарашенный Тоскливец так и сел на холодный как лед линолеум у двери и несколько минут не мог себя заставить протянуть руку к двери. Но стук в дверь не прекращался и, более того, становился все более грозным, и до Тоскливца наконец дошло, что он был замечен, и ему пришлось преодолеть силу гравитации, оторваться от пола и дрожащими, как у смертника, поднимающегося на эшафот, ногами подойти к двери. Впрочем, он тут же сделал вид, что бесконечно рад и бросился открывать дверь своей ненаглядной половине. Но та шипящей от избытка электричества молнией, в потертом кожаном пальто и с такой же кожаной сумкой в руках ринулась мимо него во вторую комнату, а затем принялась обшаривать шкафы и забитые всякой гадостью сундуки. И только когда она убедилась, что ее супруг действительно один, она несколько расслабилась, продрогшая ее физиономия оскалилась в подобие той улыбки, которая возникает на морде у только что загрызшей дичь львицы, и сообщила опешившему от нечаянной радости Тоскливцу, что решила облагодетельствовать его своим присутствием.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































