Текст книги "Очерки смутного времени 1985–2000"
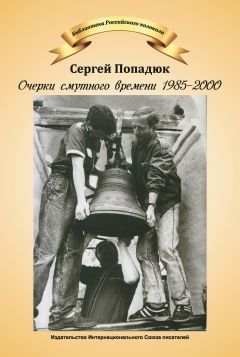
Автор книги: Сергей Попадюк
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
По-моему, гражданская война уже началась, хотя мы пока не отдаем себе в этом отчета. На национальных окраинах она идет вовсю. («Молоко закипает с краев», – как говаривал Марк Александрович Поповский.) Не надо думать, что она ударяет, как гром среди ясного неба. В нее втягиваются постепенно и плохо замечают ее ход. Что там, в самом деле, видели и сознавали современники 1605–1612 и 1917–1921 годов? Да то же самое, что и мы сейчас: жить год от года становится все труднее, продукты исчезают, власть слабеет и не справляется, беспорядок растет; время от времени докатываются слухи о резне кого-то с кем-то, о жертвах…
И даже тысячи все новых жертв,
Которые сейчас беды не чуют,
Не завершат трагедии кровавой.
Шекспир. Генрих VI. Ч. II. III. 1.
Это потом, в истории, события подбираются по принципу значимости и приобретают характер стремительной и тотальной катастрофы. Да еще те, кому не посчастливилось – кто оказался в эпицентре, попал под колесо, – на себе в полной мере ощущают эту катастрофу. А остальные – простые обыватели – ничего не знают.
Преподобный Сергий
Для меня несомненна глубинная, духовная связь Куликовской битвы – центрального события нашей истории – с Сергием Радонежским – центральной ее фигурой. Подъем национального самосознания, небывалое воодушевление людей, впервые осознавших себя единым, великим и оскорбленным народом, общая готовность отдать жизнь «за други своя» – все это от Сергия. Это известно. Но я о деталях.
О впервые собранном Русью громадном войске, не виданном Европой со времен битвы при Каталаунских полях. О фланговом марше этого войска из Коломны навстречу Ягайле, заставившем того остановиться. О смелом броске за Оку, прямо в середину меж трех огней, вклиниваясь между Ягайлом, Мамаем и Олегом Рязанским, не давая им соединиться, и об исходившей от нашего войска грозной ауре, которая парализовала противника. (Ягайло так и застыл в Одоеве, а Олег с кривой усмешкой сказал приближенным: «Ныне я так думаю, кому из них господь поможет, к тому и присоединюсь».) О быстром, решительном движении к Дону, против главного врага, вдвое превосходившего нас численностью, о «пешцах», бегом догонявших ушедшую вперед конницу, о форсировании Дона и разрушении за собой переправ, означавшем решимость драться до последнего. О молчаливой десятиверстной стене русских людей – москвичей, ярославцев, владимирцев, брянцев, устюжан, смолян, костромичей, суздальцев, белозерцев, переславцев, дмитровцев, псковичей, – вставших спиной к реке и лицом к открытому полю, ясно показывая подступающим полчищам: все здесь ляжем, но не побежим; но если вы побежите, пощады не будет! (Так и случилось: тяжелая битва закончилась преследованием бегущих татар на протяжении 50 верст и почти полным их истреблением.) И совсем уже в духе Сергия: великий князь, простым ратником занявший место в рядах передового полка, который принял на себя основной удар и весь целиком был выкошен татарами. И эти слова, донесенные летописью: «Како аз възглаголю: братие моя, потягнем вкупе с единого, – а сам лице свое почну крыти или хоронитися назади; но яко же хощу словом, тако же и делом наперед всех и пред всеми главу свою положити за свою братью и за все християны; да и прочии, то видевше, приимут со усердием дерзновение». И сам Сергий, служивший в это время молебен в своем монастыре, за сотни километров от битвы, называя имена павших и закончив словами: мы победили…[21]21
Одно из «чудес» Сергия (наряду с воскрешением замерзшего мальчика, обменом поклонами со Стефаном Пермским и др.), в которых, впрочем, нет ничего сверхъестественного, но редкий, редчайший дар прозорливости, чуткости открытого людям сердца, истонченного постом и молитвой: будущих героев Куликова поля он видел в окружении Дмитрия, приехавшего в монастырь за благословением на битву, и в глазах каждого прочел его судьбу; прочел и неизбежность победы.
[Закрыть] (Может быть, прошедшие шестьсот с лишком лет изгладили неприглядные подробности этой победы? Нет: не изгладили же они подробностей предшествовавшего Пьянского позора.)
Когда еще в нашей истории повторялся такой взлет духовной энергии, такой порыв общего жертвенного героизма? Бородинское сражение? Но там был европейский, заведомо соизмеримый противник, оно камернее по относительному масштабу, по принесенным жертвам, ему не предшествовали полтораста лет национального унижения и въевшегося в кровь животного страха перед завоевателем. Бои Великой Отечественной? Пожалуй; если бы не бездарность и трусливая жестокость «верховного», не рабская угодливость его скороспелых генералов, без толку укладывавших в землю свои дивизии, корпуса и целые армии, не миллионы военнопленных, объявленных «изменниками», не расстрелы и заградотряды, не сталинские лагеря для победителей, не ложь и демагогия пропаганды… Недаром не наследовали этой войне такие имена, как Рублев или Пушкин.
И дело не в реальных последствиях. Какие там последствия, если с поля вернулась лишь десятая часть «принявших со усердием дерзновение», а впереди еще сто лет до стояния на реке Угре, набеги Тохтамыша, Эдигея, Улу-Махмета, казанских ханов и мурз, продолжение ордынского «выхода», голод, мор, затяжная феодальная война между наследниками Донского и, наконец, создание тяжелого, деспотичного Московского государства!.. Выходит, остальные девять десятых понапрасну свои головы сложили?
Нет, не понапрасну. На Куликовом поле мы впервые состоялись как нация, особая, неповторимая людская общность, во всем своеобразии нашего духа, способного все перенести и выпрямиться в немыслимых обстоятельствах. Впервые так мощно, беспримесно, на века, явили – себе и другим – все лучшее, что в нас есть. Пусть единожды оно просияло так ярко, но осталось немеркнущим образцом, который предстоит каждому из нас, внушая гордость, силы и уверенность в себе перед лицом самых страшных испытаний.
…А началось все с того, что неказистый, никому не ведомый человек удалился в лесную «пустынь», чтобы в одиночестве, вдали от мирской скверны, работать над своей душой, очищая ее постом и «умной молитвой». И именно к нему начали стягиваться люди, жаждавшие духовной опоры, а через них эта жажда распространялась все шире – в народ, смутно почуявший необходимость подвига. И именно к нему-то, уже знаменитому «старцу», приехал князь Дмитрий со своими военачальниками получить благословение на великое дело. И это его послание, догнав, трепетало над идущим в бой войском: «Без всякого сомнения… со дерзновением пойди противу свирепства их, никакоже ужасайтеся, всяко поможет ти Бог».
В Плёсе
21.04.1990. Перед моим окном расстилается луг с поставленной посередине кирпичной водонапорной башней. (Хорошо, когда за окном есть нечто, на чем можно остановить взгляд.) Санитарная зона обнесена металлической сеткой, за которой пасутся козы и носятся играющие в футбол мальчишки (и Мишка Коровин среди них). Левее, за рощицей из десятка тесно составленных берез, – большой пруд; над плотно-округлыми купами обступающих его ив выглядывают маковки Троицкой церкви. Пространство замыкается домиками Запрудной улицы и сплошной стеной соснового леса за шоссе.
Выхожу в лоджию покурить и погреться на солнышке (в комнатах довольно прохладно: кладка стен еще не просохла). Глядя на плотненькие облака с плоскими донцами, как бы наклеенными на убегающую к горизонту невидимую плоскость, наслаждаюсь тишиной, нарушаемой лишь далеким криком мальчишек, щебетом птиц да разноголосым пением петухов. Изредка залает где-то собака или протрещит вдалеке мотоцикл. Слева, на горизонте, угадываются заволжские леса.
Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь… Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на мальчишек… то в свою новую прибранную квартиру, думал о том, как он приятно устроился в этой новой для него… жизни.
Л. Толстой. Казаки. 11.
К вечеру тень моего дома наискось ползет через луг, дотягиваясь до водонапорной башни, которая наливается глубоким красным огнем и в романтическом этом освещении становится похожа на любимую мою Беклемишевскую башню Московского Кремля. Весело сияют навстречу садящемуся солнцу треугольные крашеные фронтончики Запрудной улицы, и сверкают в темнеющем небе – один повыше, другой пониже – неразличимые днем крестики Троицкой церкви. По лугу неспешно бредут в разных направлениях человеческие фигурки, наполовину скрытые бурьяном. А с наступлением сумерек тишина наполняется звуками – доносящимися издалека возгласами, смехом, скрипом запираемых ворот сарая, негромким разговором…
Стал ли этот мир моим? Не знаю. Я живу, как во сне, как в тумане, как бы даже и не замечая совершившихся в моей жизни перемен. Должно быть, слишком долго и слишком подробно я строил в своем воображении эту новую жизнь, и мое представление о ней забегало гораздо дальше оказавшейся действительности.
Стоит лишь захотеть идти, и ты уже не только идешь, ты уже у цели, но захотеть надо сильно, от всего сердца, а не метаться взад-вперед со своей полубольной волей, в которой одно желание борется с другим, и то одно берет верх, то другое.
Августин. Исповедь. VIII. 19.
Я освоился здесь раньше, чем сюда приехал, я заранее исчерпал все запасы новизны и неожиданности. А изменилось, фактически, (удалить зпт.) все.
* * *
Я встаю рано, когда напор воды в трубах еще достаточно силен, чтобы загорелся газ в колонке. (В Москве все последние годы поднимался не раньше восьми, даже в присутственные дни.) Низкое солнце лупит в комнату, и, открыв дверь в лоджию, я занимаюсь гимнастикой, потом принимаю горячий и холодный душ (от этой привычки не могу отказаться). Бреюсь, чищу зубы. (Раньше брился не чаще двух-трех раз в неделю – когда возникала надобность выйти из дома.) Ставлю чайник на плиту, убираю постель. Выпиваю пиалу чая с черным хлебом и луком, принимаюсь за «Миф о Сизифе». Читаю с полчаса, потом готовлю себе яичницу или геркулесовую кашу. Дима Ойнас, сосед, заходит за мной, иногда делит со мной мой завтрак, и мы вместе отправляемся на работу.
По выложенной плитками дорожке огибаем тихий пруд, выходим на прямую, всю в зелени, Красноармейскую улицу. Впереди и позади нас идут люди, с некоторыми мы здороваемся, обгоняя. За магазином, пройдя в калитку, пересекаем школьный двор и мимо автостанции, мимо Троицкой и Введенской церквей выходим на Соборку. Тут мы расстаемся: Дима сворачивает в липовую аллею к Присутственным местам (где исторический отдел), а я продолжаю путь по краю горы, по тропинке над крутым склоном, на ходу любуясь с высоты изумительным видом Заречья с его сбегающими к устью Шохонки сверкающими на солнце крышами, с переплетением лодочных мостков, с крошечными человеческими фигурками на улочках и пешеходном мосту, с раскрывающимся все шире голубым простором Волги, по которому медлительно движется самоходная баржа.
По древнему мощеному спуску я сбегаю на набережную и поспеваю как раз вовремя, чтобы поравняться с идущей по течению баржой; соревнуясь с нею в скорости (не так уж она медлительна, как казалось), перехожу мост через Шохонку, миную Дом-музей Левитана и на полном ходу влетаю в ворота белого двухэтажного особняка, где размещается администрация заповедника. Этот двадцатиминутный путь на работу (а вечером – обратно, в гору) заменяет мне ежедневную московскую прогулку; но дело, конечно, не в обстоятельствах места, вернее, не только в них.
Я здороваюсь с толпящимися у входа рабочими (с каждым – за руку), поднимаюсь во второй этаж. Здороваюсь с секретаршей и прохожу в свой просторный четырехоконный кабинет, где пока пустовато: стол, стул, да еще бездействующий телевизор на подоконнике. Стол завален бумагами: я собрал у себя все программные документы по заповеднику и постепенно их изучаю; отдельная горка тонких папочек – ТЭПы, тексты экскурсий и лекций, квартальные отчеты отделов, принесенные Раисой Михайловной мне на утверждение.
Рабочий день начинаю с междугородных телефонных звонков. Это – налаживание отношений с партнерами. Потом начинается текучка. Короткая встреча с Закаменной в ее кабинете, обсуждение наболевших проблем и распределение обязанностей на сегодня. Сочиняю письмо в «Игру-технику» с кратким изложением нашей программы. Пока Аленушка его перепечатывает, прохожу в зал, где Валера Берегов работает над рекламой Левитановского музея. «И.И.» написано отдельной строкой, говорю Валере, чтобы он закрасил и написал полностью: «Исаака Ильича». Обсуждаю с Жуковым первоочередные мероприятия по реставрации грошевского дома. С Закаменной и Светланой Зыряновой (главным архитектором) отправляюсь на другой конец города, в Преображенскую церковь, чтобы вместе со сварщиками решить вопрос о подведении инженерных сетей и отоплении концертного зала. Встреча с кооператорами, желающими взять на себя ремонт и оборудование магазина сувениров, а также поставку для него готовой продукции. После обеда мы с Жуковым отбираем в фондах картины для будущей экспозиции русского и советского изобразительного искусства. Рабочий день заканчивается в Доме культуры – репетицией спектакля, который мы под руководством Михаила Анатольевича Касаткина готовим ко Дню музеев.
Я понимаю, что разбрасываюсь и уклоняюсь от своих прямых обязанностей. Но ведь прежде, чем приступать к их исполнению, мне надо вникнуть во все детали, в технологию музейной работы. Одних разговоров, на которые я поначалу рассчитывал, оказалось недостаточно; жизнь сама подсказала другой путь – снизу, из суеты каждодневных дел. А во-вторых, мне просто нравится. Нравится, что и юные, и пожилые называют меня уважительно Сергеем Семеновичем (вместо обычного у нас на Острове демократического панибратства) и прибегают ко мне со всеми своими вопросами. Мне нравится выслушивать людей и принимать решения, в результате которых что-то сдвигается с места и движется в нужном направлении. Все это так непривычно, так непохоже на прежнюю мою жизнь! Я чувствую себя Санчо Пансой на острове Баратария. Подобно ему, я и опираюсь исключительно на здравый смысл.
И очень рад, что прежний путь
Переменил на что-нибудь.
Пушкин. Евгений Онегин. I. 53.
Подняли колокола
15.06.1990. Я долго готовился к этой операции, а все оказалось проще простого. Все прошло как по маслу, несмотря на то, что не было Юры Макарова (главного инженера Приволжского ДРСУ), у которого я надеялся выклянчить автокран, не приехал специалист по колоколам из Ростова и не пришли здоровенные плёсские пожарники, которых я звал на помощь.
С утра мы с Димой Ойнасом, вернувшимся вчера из двухнедельной судиславльской экспедиции, забежали в Присутственные места, чтобы взглянуть на заготовленные хомуты, сваленные в кабинете у Марины Филатовой. Затем спустились на набережную в фонды и осмотрели колокола. Пока Любовь Мефодиевна выписывала акт, я послал Диму в дирекцию перехватить Короткова (шофера). Тут заглянула в фонды Закаменная и попросила меня присутствовать на совещании с кооператорами, которые привезли форпроект экспозиции во Введенской церкви. Когда я подходил к зданию администрации, машина уже отъезжала; в кабине с Коротковым сидели Дима и Тяпкин. Я сказал им, чтобы они меня подождали. В воротах столкнулся с Благовещенским. Вчера он наотрез отказался участвовать в подъеме колоколов: «Если кто-нибудь из наших сорвется с лесов, мы с вами в тюрьму сядем», – а сейчас сказал, что вместе со мной идет на Соборку. Я махнул Короткову, чтобы он ехал.
В кабинете у Закаменной сидели Жуков и приехавшие кооператоры. Один из них по двум планшетам объяснял замысел освещения Введенской церкви. Чертежи были выполнены небрежно, явно наспех, едва ли не по дороге в автобусе; замысел гроша ломаного не стоил. Я слушал, слушал, потом сказал, обращаясь к Закаменной: «По-моему, тут и говорить не о чем», – и вышел. Сбежал по лестнице, в сенях ко мне присоединился Благовещенский, и мы вместе поднялись на Соборку. Колокола уже стояли на земле возле колокольни. Рабочие-реставраторы зацепили трос за большой пятипудовый колокол, привязали к нему веревку, и пока мы с Багажковым и Олегом лезли по лесам наверх, Дима Ойнас с Благовещенским приняли колокол на верхней площадке. Совместными усилиями, помогая себе веревкой, перекинутой через металлическую связь, мы перетащили его к северо-западному пролету с уцелевшей балкой. Рабочие, выключив лебедку, ушли. Несколько раз нам пришлось спускаться – за малыми колоколами, инструментом, хомутами, арматурой. Дима, стоя на перилах ограждения, вколачивал в ушки колокола проржавевшие «пальцы», я – по другую сторону колокола – стягивал руками концы хомутов, остальные, вместе с вскарабкавшимся на подмогу Травкиным, держали колокол на весу, одновременно подтягивая его к балке веревкой. Малые колокола подвесили прямо к связи северо-восточной арки. Потом звонили – все по очереди. Потом, оглохшие, торжествующие, всемером (вместе с Любой Ицковой) спускались победителями с Соборки на набережную – обедать, и встречные поздравляли нас: звон был слышен и в фондах, и в «Левитане», и в дирекции – во всем городе.
Ради таких мгновений стоит жить. Взяли – и сделали! А то – разговоры, разговоры… Я уже устал от разговоров.
* * *
18.08.1990. Моя теперешняя жизнь не оставляет мне ни времени, ни сил для сосредоточенного самоуглубления. Я рассредоточен исключительно на «материальном»: на том, чтобы выбить у районного архитектора согласование нашего проекта конюшни на Соборной горе; отправить на катере хлеб для алабужской экспедиции; выделить двух человек для работы в колхозе; помирить комендантшу с обматерившим ее кладовщиком; найти и подрядить художника для исполнения двух рекламных щитов для выставки Г.А. Сотскова; объявить выговор в приказе новому шоферюге (взятому на место Короткова, который по пьянке пырнул ножом Тяпкина, и теперь оба уволены) за безделье и грубость с главным инженером; принять на работу экономиста и отправить его в Москву в «Игру-технику» (чтобы человек сразу овладел перспективой и масштабом предстоящей деятельности, прежде чем погрузится в нашу текучку), тогда как главный бухгалтер клянется, что статья командировочных расходов исчерпана до конца года, а рядом вострит ухо приехавший из Кинешмы ревизор, и сговариваться в его присутствии практически невозможно; найти 30 тысяч для покупки японского магнитофона и множительной техники; проследить, чтобы засыпали яму на Соборке, исправили сигнализацию в Воскресенской церкви, заложили кирпичом дверной проем в художественном салоне; подписывать бесчисленные счета, заявки, приказы, доверенности…
– Все эти задачи сами по себе невелики, но каждую нужно выполнить в положенный час, а в рабочем дне куда больше задач, чем часов. Это хорошо, пускай так и будет. Но как вспомнишь… о той свободе, которая у тебя была и которую ты потерял, о свободе необязательных работ, неограниченных, широких исследований, так вдруг затоскуешь о ней…
Гессе. Игра в бисер.
Вот уже неделю я исполняю обязанности директора (Закаменная ушла в отпуск) и, кажется, ничего, справляюсь. Но я обнаружил, что эта моя теперешняя жизнь – все эти хлопоты и заботы, вся эта непрерывная занятость и суета – служит лишь оправданием бездеятельности в главном – в том, для чего предназначил меня Бог. Все это лишь побег от настоящей, действительно трудной работы: делать что-то из ничего.
Весь день я кручусь как белка в колесе, а на самом деле – плыву по течению, подчиняюсь обстоятельствам, делая вид, что управляю ими. Это легко, хотя и утомляет; увлекательно, выигрышно; это поднимает в собственных глазах. Людям, я вижу, интересно со мной. К ним – ко всем без исключения – я отношусь с нежностью. Но, приходя вечером домой, успеваю только пообедать и немного почитать, а затем валюсь в койку. Меня ни на что больше не хватает. И уже всерьез начинаю опасаться, как бы не сорвать работу над проектом генсхемы заповедника. Администрирование затянуло меня.
Валерьяныч
Валерьяныча, приземистого краснорожего мужика из деревни Выголово, каждый день приезжающего в Плёс на стареньком трескучем мотоцикле, наши мальчишки окрестили «рокером». Воспользовавшись отсутствием Закаменной, которая уволила его за пьянство, он пришел ко мне – проситься обратно.
– Смотри, Валерьяныч, – предупредил я его, – хоть раз увижу пьяным в рабочее время – не обессудь…
– Семеныч! – истово застучал он кулаком в свою грудь, что должно было выглядеть убедительнее всяких клятв.
С тех пор каждое утро, торопясь в дирекцию, встречаю его в толпе работяг, возглавляемых Стрельченей (новым замом по АХЧ); в неизменной своей кепчонке, в телогрейке и сапогах, он всякий раз поворачивает ко мне каленую свою, продувную физиономию, явно стараясь попасться на глаза, всем своим видом изображая трезвость и примерное поведение. А тут вдруг является с жалобой на Стрельченю: тот, мол, невзлюбил его за что-то, придирается на каждом шагу и даже грозится избить.
– Валерьяныч, – говорю, – за дурака, что ли, ты меня держишь? Как это он тебя изобьет? Ты посмотри на него и посмотри на себя. С твоими-то клешнями ты же пополам его перервешь. Не смеши меня.
– Что ты, Семеныч, – захрипел он огорченно. – Это же только видимость у меня здоровая. Нету его, здоровья-того. Будь другом, поговори ты с ним. Чего он, в самом деле…
– Ладно, поговорю. Иди работай.
* * *
Каждый день в течение получаса мы звоним в колокола. Обучились быстро: Марина Филатова написала партитуру, ребята у нас музыкальные (певцы, гитаристы), – три колокола звучат полноценным концертом, с веселым зазвонным трезвоном на фоне глубокого, потрясающего душу гудения большого колокола. И странное дело: в пасмурные дни – мы не раз замечали – прямо над колокольней расчищается голубой просвет…
Местные мужики, видя, что мы взялись за дело всерьез, привезли нам в лодке еще один колокол, припрятанный когда-то; значит, оправдываются мои расчеты. Ожил город, сердце в нем бьется! Ежедневный праздник!
А когда я вижу из окна своего кабинета, что где-то выносят на улицу гроб с покойником (в Плёсе ничто не происходит незаметно), я тут же взбегаю на Соборку и ударяю в большой колокол. Скорбный, с большими интервалами, звон плывет над городом все время, пока похоронная процессия движется по набережной к кладбищу. Город прощается со своим жителем…
* * *
16.01.1991. Давненько я не прикасался к этой тетради! Так давно, что, кажется, уже и навык потерял. События моей жизни и жизни страны теснятся в таком изобилии, так стремительно следуют одно за другим и набегают друг на друга, что не успеваешь остановиться, перевести дух, оглянуться, осмыслить…
Страна, как и я, бросилась в приключения. Да что страна – весь мир. По радио только и слышно, что о кануне третьей мировой войны. Тревожные вести из Литвы. Чудовищные сообщения о растущих ценах. В Плёсе введены карточки на продукты. Старики говорят, что даже в войну по карточкам выдавали больше, чем теперь.
Вечер, сижу за письменным столом, освещенным настольной лампой. За окном (желтые шторы слегка раздвинуты, чтобы не закрывать батарею отопления) зимняя чернота и далекие редкие огоньки. Борясь с холодом в квартире, я включил электрокамин и зажег все газовые горелки на кухне. Только что ушли от меня Миша Коровин и братья Гудовы – я читал им вслух «Капитанскую дочку». С Мишей уже прочли «Мертвые души» и «Евгения Онегина». Каждый вечер мальчишки приходят ко мне, и я им читаю – так же, как читал когда-то своим сыновьям, сначала одному, затем другому, а еще раньше – дворовым приятелям, зазвав их в нашу квартиру (мама уже тогда прозвала меня «избачом»).
* * *
Пашка и Дима Гудовы не узнали меня, когда под Новый год я ввалился к ним в обличье Деда Мороза. Балагуря с ними, я вдруг поймал на себе взгляд Саши Тяпкина (сожителя Ирины Константиновны) из прихожей. Ох, что это был за взгляд! Сразу весь человек раскрылся… С тех пор я все ему прощаю, все его дикие выходки.
Мы с Ойнасом и Толей Сорокиным, разделив город на три части, Дедами Морозами ходили по домам с подарками. Моей Снегурочкой была Неля Копейкина. В каждом доме нам, разумеется, подносили, и к концу маршрута я накачался до беспамятства.
А на Рождество устроили праздник для плёсской ребятни. Зал в Доме культуры был битком. Отец Иероним, специально приехавший из Толпыгина, просто и задушевно рассказал собравшимся о том, что произошло в Вифлееме две тысячи лет назад. Потом – наш спектакль. В первом действии мы с Ойнасом и Бармой играли волхвов: задрапированные в яркие куски материи, в пышных тюрбанах и чалмах, сверкая кольцами, браслетами и серьгами, собранными у всех женщин нашей труппы, молча, торжественно проследовали через зал и преклонили колени перед сценой, на которой луч прожектора, повинуясь жесту Иосифа (Толика Сорокина), выхватил большую икону Рождества Христова (за одну ночь изготовленную Бармой). Во втором действии я играл мужика, к которому приходят колядовщики. Лариса Ищенко была моей женой, а ее племянница и Сенька Жуков – нашими детьми. Шумная, распевающая, хохочущая толпа колядовщиков спустилась со сцены в зал и закружилась хороводом, вовлекая ребятишек из публики.
Когда, возбужденные, мы вывалились на пустынную, темную Базарную площадь (и приехавшая на каникулы Молчушка с нами), Ольга Викторовна крикнула:
– А теперь – тихо, шепотом! – и, конспиративно понизив голос, запела «Вихри враждебные».
Мы, тоже вполголоса, подхватили.
– Сатрапы! – завопил я, грозя кулаком в сторону Воскресенской церкви. – Все эти очаги мракобесия мы скоро разрушим, товарищи!
Потом, предводимые разозорничавшейся Ольгой Викторовной, мы долго бродили по городу, вламываясь то в один, то в другой дом, распевая колядки, перешучиваясь с хозяевами и получая от них в благодарность куски праздничных пирогов, кулебяки, пирожки, ватрушки. Потом у меня дома поедали все это с чаем.
* * *
Да, все происходит именно так, как я и мечтал, даже удивительно! Правда, эйфория первых месяцев прошла, открылась и темная сторона моего здесь существования. Много горьких минут пришлось уже пережить. Появились и враги. Ну да что о них!
Вчера докладывал на методсовете об итогах прошедшего года и о плане на следующий. Над этим докладом я просидел все воскресенье, понедельник и ночь с понедельника на вторник. Приняли нормально, даже предложение поделить «экскурсионку» между всеми отделами в соответствии с количеством штатных единиц вызвало лишь небольшой ропот. Оппозиция – Жуков и Зырянова – сидели молча с опущенными головами; Светлана криво, презрительно усмехалась. Готовясь к докладу, я собирался нанести им решительный, разгромный удар, но утром во вторник, после бессонной ночи, вдруг напало на меня примирительное безразличие. Ну их к черту! – решил, – все и так всё понимают.
* * *
30.01.1991. Поигравшись с нами, то прибирая нас к рукам, то отпуская, зима наконец взялась за дело всерьез. После нескольких дней сильного северного ветра ударил стойкий мороз, температура опустилась ниже –30°.
Задержавшись сегодня на работе, я вышел на улицу один. Края шапки и воротник тулупа сразу же обындевели, ноздри слиплись. Снег в свете фонарей переливался мириадом искр и хрустел под ногами так громко, что, будь у меня спутник, мы не смогли бы расслышать друг друга. Полная луна стояла за моей спиной, в ее феерическом свете прямо передо мной голубела Соборка, осененная яркой россыпью созвездий. Далекий фонарь, как в театре, выхватывал из этой голубоватой полумглы крошечный домик на склоне – весь целиком и во всех подробностях: толстую белую крышу с белым столбиком дыма над трубой, резные наличники и сугробики снега на ограде.
Зима стояла грозно,
И снег скрыпел, и синий небосклон,
Безоблачен, в звездах, сиял морозно.
Пушкин. Домик в Коломне.
Тихо, все вымерло. Только два-три окошка тепло светятся… Вот жизнь! Вот та именно жизнь, о которой я лишь мельком задумывался раньше – с умилением, но чаще с ужасом. И неужто я сам теперь ею живу! Сбылась мечта идиота…
* * *
С мальчишками прочли «Повести Белкина», «Тараса Бульбу», «Шинель», сейчас читаем «Гекльберри Финна».
О большой реке, о маленьких городках на берегу большой реки как-то иначе читается здесь, в Плёсе, чем в Москве. И мальчишки, живущие в маленьком городке на берегу большой реки, как-то иначе, я чувствую, понимают прочитанное, чем понимали когда-то мои сыновья.
– А вы знаете, – сказала мне Вера Васильевна (мать Мишки), – что они в побег собрались? Вниз по Волге, на плоту…
* * *
11.03.1991. Вчера, накануне отъезда из Москвы, вместе с Молчушкой и Лысым побывал на Манежной площади, на митинге в поддержку Ельцина. Это, можно сказать, мой первый выход в «политическую жизнь». Я, как Паниковский, не люблю большого скопления честных людей в одном месте.
– Это не то, что ты думаешь, – внушала мне Молчушка. – Это совсем другая толпа…
Сама она не пропустила ни одного митинга. Она семь часов простояла на 20-градусном морозе, когда Москва прощалась с Сахаровым. Незнакомые люди налили ей горячего кофе из термоса, другие – поделились бутербродами. Этот дух солидарности, просветленного единения людей почувствовал вчера и я.
* * *
29.03.1991. Ну что ты будешь делать с этой бесцеремонной самоуверенной дурой! Пока я был в Москве, а Травкин с Ойнасом – в Иванове, Закаменная отдала наши колокола церковникам.
Еще до моего отъезда представитель «десятки» Саша Демидов обратился ко мне с просьбой отдать колокола на Пасху (причем речь шла только о двух малых колоколах). Я опять предложил ему (как и в декабре) вместе проехаться по окрестным селам: наши мальчишки знают, где сохранились церковные колокола, используемые теперь в качестве пожарных. Машина – наша, работа – наша. Сами перевезем, сами повесим, – от церкви требуются только авторитет и дипломатия: ей охотнее отдадут. Время не упущено, за две оставшиеся до Пасхи недели можно успеть. Если же почему-либо не получится, мы в последний день свои перевесим.
Саша вроде бы согласился со мной, а сам как ни в чем не бывало пошел в Присутственные места, к историкам, и с ними затеял тот же разговор. Они ответили ему то же, что и я, и тут же, позвонив мне, поставили меня в известность. И вот, дождавшись, когда все мы оказались в отъезде, он подкатился к Закаменной, а она, не долго думая, подмахнула бумажку. Мы возвращаемся – а колоколов нет ни одного. Как будто сердце вынули! Черт бы побрал эту дуру!
* * *
Надо сказать, внедрение церковников в Плёс (в конце прошлого года) носило чрезвычайно грубый, агрессивный характер. До этого наши прекраснодушные музейщики умилялись, представляя себе, как церкви наконец будут возвращены приходам, как начнет разливаться в народе духовность… Писали ходатайства в инстанции, сколачивали «десятку»… Я пытался их предостеречь: «Ну, понаедут попы – что вы думаете? Те же большевики, только в рясах…» И вот, свершилось. Благочинный чуть ли не наганом стучал по столу: «Чтоб завтра же духу вашего здесь не было!» Выкинули нас из Преображенской церкви (только что отремонтированной за наш счет) и из Воскресенской (где у нас была развернута экспозиция НДПИ). Теперь зарятся на иконы и старопечатные книги из наших фондов. Вот тебе и «духовность». Господи, до чего же глуп русский народ! И «избранные» его едва ли не глупее подонков: те хоть что-то «с этого» имеют.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































