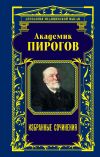Текст книги "Размышления хирурга. Советский «Николай Пирогов»"

Автор книги: Сергей Юдин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Только невежды и дикие натуры, чуждые божественной поэзии, могут думать, что „Илиада», „Одиссея» и греческие лирики и трагики уже не существуют для нас, не могут услаждать нашего эстетического чувства, – писал Белинский больше 100 лет назад (1841). – Эти жалкие крикуны, которые во всем видят одну внешность, и срывают одни верхушки, не проникая в таинственное святилище животворной идеи, эти сухие резонеры опираются на изменчивость форм и условий жизни. Но искусство – не ремесло, и в создаваемые им формы оно улавливает идеи, которые остаются вечно юными и живыми».
Так и поэмы Гомера остаются вечно юными и бесконечно дорогими для каждого поколения человечества. Кто бы ни читал их – литератор, историк, социолог, военный, юрист, врач, философ, – все найдут в них огромный запас общих и специальных сведений, увлекающих каждого читателя на протяжении уже 25 столетий. Мы знаем теперь, что «юность» сюжета относительна, ибо культура и история Крита на тысячу лет древнее и даже совершеннее и утонченнее; «Илиада» относится уже к микенскому периоду греческой истории, со столицей Агамемнона в «многозлатых Микенах». Мы также не строим себе иллюзий на счет «объективности» Гомера, ибо он явно симпатизировал аристократии, богам, героям и абсолютно не хочет видеть плебеев и народных масс. Наконец, мы ни на минуту не забываем, что обе поэмы Гомера как цельные, единые памятники не соответствуют никакой объективной исторической реальности. И все же даже в переводах, а не на родном языке эти поэмы восхищают и русских, и немцев, и французов, и англичан, и итальянцев. Что это такое? Как может человечество тешиться и поддаваться мыслительной аберрации в течение 2’/2 тысячелетий?
«Только песне нужна красота, красоте же и песни не надо». В этом все дело. Художественные достоинства поэм Гомера так велики, что они даже в переводах абсолютно заслоняют и их недостатки, и вымысел, и наивность. Любая критика тут бессильна. Поэмы звучат сами, без аккомпанемента, и вопреки обструкции «умников». Они дают наслаждение каждому, подобно дивной симфонии, которую без слов и текста слушают любые культурные нации. Они возвышают душу, возбуждают к творчеству и стремлению к прекрасному в любой специальности. Как музыка Бетховена, Моцарта, Чайковского и Мусоргского нужна, необходима химику, агроному, философу и хирургу, точно так же всем им невозможно жить полностью, а работать и творить на полную мощь без вдохновляющих созданий Гомера, Данте, Шекспира и Пушкина.
Меня всегда удивляло, почему такой умный и знающий критик и ценитель античной поэзии, как Белинский, так строг и несправедлив к Вергилию. Он очень высоко ценил Гомера и трех греческих трагиков и почти злобно отзывался об «Энеиде». «У Гомера пластическая художественность есть выражение внутренней жизненности, у Вергилия она – лишь внешнее украшение, – писал Белинский. – Поэтому Гомер – великий, изящный художник, а Вергилий – лишь ловкий, нарядный щеголь».
Столь резкую, беспощадную оценку «Энеиды» Белинский обосновывает тем, что «художественна только та форма, которая рождена из идеи и есть откровение духа жизни, свежего, здоровеющего. В противном случае она поддельна, вроде вставных зубов, белил, румян, и принадлежит не искусству, а галантерейной лавке».
Гениальные поэмы Гомера на греческом языке были доступны лишь единичным любителям и знатокам среди римской знати I века до н. э., Вергилий же дал изумительную поэму об основании Рима и римской нации на родном языке, к тому же в неподражаемо блестящих, музыкальных стихах.
К сожалению, я не знаю греческого языка, чтобы сравнивать художественные достоинства «Илиады» и «Одиссеи» с «Энеидой», которую читал в подлиннике. Тем не менее лучшие знатоки, изучавшие Гомера, зная древнегреческий язык в совершенстве, как, например, Гете, восхищались поэтическими достоинствами и поразительным слогом и музыкальностью «Энеиды».
И Вергилий действительно не бесхитростный певец народной устной саги, а тонкий, изысканный, великолепный поэт-художник, глава кружка поэтов, собравшихся вокруг Мецената. Эта литературная группа знаменовала собой «классический период римской словесности». Все они с нетерпением ждали окончания грандиозной поэмы Вергилия, о которой элегик Троперций еще в 26 г. до н. э., то есть за 7 лет до того, как смерть оборвала работу поэта над «Энеидой», торжественно заявил в своем кружке:
«Римские все отступите писатели, прочь вы и греки!
Большее что-то растет и Илиады самой».
Вергилий был в зените своей славы. Он начал писать «Энеиду» в 29 г. до н. э., то есть через 2 года после окончания гражданской войны (31 г. до н. э.), и писал до самой смерти (19 г. до н. э.), то есть 10 лет. Это был не только гениальный поэт, автор знаменитых сборников «Буколики» (42–38 гг. до н. э.) и «Георгики» (37–30 гг. до н. э.), автор «Энеиды», но очень образованный человек и ученый. Он владел не только массой римских, греческих и александрийских источников, но знал все тонкости и технические детали. Он хорошо был знаком с историей, археологией, правом; отлично знал мифы, легенды и все религиозные обряды и церемонии. И его «Энеида» является столь же блестящим образцом поэзии, сколько и научного творчества. Поэт и ученый соединились в одном лице, подобно тому как александрийские скульпторы в ту пору стали детально изучать анатомию.
Как римский гражданин Вергилий является личностью самой бледной. Его попытки укрыться от бурных событий в своей усадьбе, где он писал «Буколики» и «Георгики», знаменуют собой в такой же мере политический индифферентизм, как и боязнь острой борьбы, события которой начались убийством Юлия Цезаря. Но одного желания укрыться от политических бурь не всегда достаточно, и Вергилий чуть не был убит, когда в ходе событий гражданской войны приходилось расплачиваться с воинами победившей партии земельными поместьями, и усадьба его была экспроприирована для подобной надобности.
Вергилий дождался политического успокоения, наступившего после того, как не только войска республиканцев Брута и Кассия были разбиты под Филиппами (42 г. до н. э.), но закончилась борьба и между победителями-членами триумвирата: Лепидом, Октавианом Августом и Марком Антонием. Это случилось после ареста и ссылки Лепида и самоубийства Антония на ложе Клеопатры.
Что за интереснейшая эпоха, и сколь блестяще она отражена у классиков поэзии и искусства! Шекспир посвятил две из лучших своих трагедий Цезарю, Антонию и Клеопатре. К этой теме вновь обратился Бернард Шоу. А Клеопатра, не будучи особенной красавицей, служила излюбленной моделью для величайших художников и скульпторов последующих веков. Что стоят одни гигантские полотна Тьеполо, бесценные сокровища подмосковного дворца Юсуповых «Архангельского»! А сколько раз скульпторы изображали ее с неизменной змеей – аспидом, орудием самоубийства. На одну из таких скульптур так восторженно глядел Гете, увидевши ее в Риме в ноябре 1786 г.
Что Клеопатра была роковой женщиной и как подруга сначала Юлия Цезаря, а затем Марка Антония она была безусловно в высшей степени благодарным действующим лицом для поэтов и драматургов, – это вполне понятно. Не обязательно изображать ее красавицей на картинах, особенно на таких огромных холстах как у Тьеполо, где дело идет не о портретной, а о жанрово-исторической живописи. И Тьеполо, по-видимому, знал текст 27-й главы Плутарха, где последний писал: «Ее красота сама по себе не очень поражала зрителей, но в ее общении была неотразимая, чарующая сила, и наружность вместе с обворожительной речью и таинственной прелестью ее обхождения оставляли жало в душе тех, кто ее знал». Вот спокойный, точный, деловой текст, характеризующий обаяние египетской царицы устами историка.
Как изумительно использована эта канва нашим гениальным поэтом Пушкиным, где тот же образ Клеопатры создается неподражаемым волшебником художественного слова! Конечно, Клеопатра Шекспира, Пушкина и Бернарда Шоу гораздо интереснее в поэтическом изображении, чем на живописных полотнах даже такого мастера, как знаменитый Тьеполо. И тут же невольно приходит мысль: как странно, что не безупречно красивая женщина, как Клеопатра, служила столько раз моделью для художников, а самая красивая женщина древнего мира – Елена, жена Менелая и Париса, столько раз воспетая поэтами, не часто встречается на картинах художников или в созданиях ваятелей!
Попробую задержаться на образе Елены, несомненно, одном из самых пленительных в мировой поэзии, и вспомнить, что если художники изображали ее не особенно часто, зато поэты вспоминали эту первую красавицу античного мира много раз, награждая ее самыми разнообразными, порой неожиданными качествами.
Красота Елены была настолько необыкновенна и ослепительна, что даже сам Гомер чувствовал себя беспомощным описать ее наружность. Как первым подметил Лессинг, выводя в своей «Илиаде» впервые на сцену Елену, эту главную и единственную виновницу войны, Гомер ограничился изложением впечатления от ее вида на троянских старцев, избежав прямого описания ее красоты.
Так, долгими веками, читая великие поэмы Гомера, человечество рисовало себе дивный образ античной красавицы, сводившей с ума стольких героев древнего мира. А на рубеже XVIII и XIX столетий, то есть через 25 веков после Гомера, образом Елены загорелся и воспылал первый поэт западной Европы, властитель дум тогдашнего культурного мира – Гете. Для него образ Елены был тем идеалом женской красоты, к которому до самой глубокой старости влеклось его любвеобильное сердце и которого он не нашел в Гретхен юношей во Франкфурте-на-Майне. Гете рисует себе Елену не мрачными красками средневековых легенд и народных немецких сказаний о Фаусте, где ей придавались черты лживого, опасного призрака, а наоборот, как светлый образ чудесной, нестареющей женской красоты, вечно отзывчивой на радости любви, не затуманенной житейскими невзгодами и мучительными снами.
Гете вынашивал в себе образ Елены долгими десятилетиями. Первая часть Фауста была окончена в 1806 г. и напечатана в 1808 г. Затем 18 лет Гете не начинал второй части поэмы, а начало третьего действия, то есть часть, целиком посвященную Елене, Гете читал Шиллеру еще в 1800 г. («Хвалой одних, хулой других прославлена…», монолог Елены).
У античных поэтов можно и надо учиться не только величественному, торжественному духу их творений, но и классическому стилю. Последний следует понимать не с внешней стороны, то есть в смысле безупречных форм гекзаметров, но в такой же степени и в смысле внутренней характеристики: величественного спокойствия, замечательной простоты, полной гармоничности и прозрачной чистоты. Поэмы Гомера, трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида, метаморфозы Овидия, «Энеида» Вергилия и лирика Горация при чтении как бы гипнотизируют, овладевают мыслями, погружая разум в какую-то сладостно-опьяняющую дрему. Ритмичные, размеренные стихотворные формы настолько гармоничны, что начинают звучать как подлинная музыка. А под эти звуки воображение рисует холмы и берега Эллады, омываемые ласковым Эгейским морем, стены Трои, гавань Карфагена или берега Тибра, мелькают любимые и с юности знакомые, прозрачные, стройные тени: несчастной Антигоны, одинокой Ифигении, скорбной, покинутой Дидоны, а вдали рисуются монументальные фигуры то хитроумного Одиссея, то воинственного, гневного Ахиллеса, то настойчивого и удачливого Энея. Сквозь размеренную речь и безупречный ритм классических стихов временами слышатся то звуки свирели, то обольстительные стоны пектиды, то стройные хоры жриц Падосской богини и Адониса. Но музыка эта слышна лишь урывками, не отвлекая внимания на подробности тонкого музыкального рисунка, как нет замысловатого ажура в одеждах античных женских фигур. Строгие туники с немногочисленными складками пленяют чарующей силой художественной со-размеренности, гармонией пропорции. Античная классическая поэзия, подобно мраморным греческим статуям, действует и восхищает больше всего чарующей силой единого впечатления. А по глубине воздействия и благородству незабываемых переживаний античные мраморные статуи, пожалуй, превосходят любые произведения искусства людей.
Как-то трудно представить себе их в родных условиях, в Элладе; память невольно возвращает к бесценным сокровищам, собранным в залах и галереях Лувра, Британского музея, Эрмитажа и Московского музея изобразительных искусств, но и второстепенные фигуры и мраморные бюсты одинаково чаруют на фоне зелени, переполняя душу созерцающего их, будь то в аллеях Версаля, Сан-Суси, в Потсдаме, на террасах Шенбрунского дворца в Вене, в Летнем саду Ленинграда или в парке «Архангельского» под Москвой.
О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОДЛИННИКАХ, ЗАИМСТВОВАННЫХ И ПЕРВОИСТОЧНИКАХ
Копия или оригинал в изобразительном искусстве, подлинник или перевод поэзии и художественной литературы имеют две совершенно различные оценки в зависимости от того, с какой точки зрения рассматриваются эти творения. Во-первых, каждое произведение характеризует собой творческие возможности, мастерство и степень гениальности автора и с этой точки зрения основная ценность оригинала картины или скульптуры, а также текста поэмы или романа устанавливается путем долгого изучения их и строгих сравнений и сопоставлений с другими признанными шедеврами художественного или литературного творчества. А из суммы творений каждого автора постепенно выявляется его абсолютная ценность и его место на земном Парнасе.
Вторая точка зрения касается не столько автора, сколько самого произведения и того впечатления, которое оно способно производить на зрителей или читателей. Эта сторона дела, пожалуй, главнейшая, ибо истинная цена любого художественного творения определяется силой, постоянством и продолжительностью художественного впечатления, вызываемого у публики. И естественно считать, что, чем выше художественная ценность произведения, тем более широкий отклик оно встретит во всех слоях общества, тем глубже будет производимое волнение и тем неизменнее сохранится такое неотразимое воздействие годами и десятилетиями. Секрет художественного обаяния, будь то картина, скульптура, поэма или музыка, не поддается простому определению. Гармоническое сочетание формы и содержания, художественная мера выявления главного и деталей, выявление личного, интимного или вечного, общечеловеческого, быта или природы и многое другое – все это лишь условные внешние признаки художественных творений, присущие как подлинно гениальным, так и многим рядовым, шаблонным произведениям искусства. И поистине невозможно сформулировать, почему одним творениям присущи высокохудожественные достоинства, а другие, весьма схожие по содержанию, форме и замыслам, не только совершенно лишены привлекательных качеств, но нередко производят отталкивающее, досадное впечатление. Это нагляднее всего выявляется на примерах совершенно необъяснимого обаяния многих музыкальных мотивов или общеизвестной и общепонятной, но неуловимой красоте некоторых человеческих, особенно женских лиц. Почему некоторые музыкальные мотивы или некоторые физиономии так изумительно красивы и всем так неизменно нравятся? Это необъяснимо.
Зато, будучи воспроизведены в мраморе, на холсте в красках, в музыкальной партитуре или рукописи самими авторами, оригиналы этих творений допускают размножение или воспроизведение в копиях, делаясь достоянием широких кругов любителей искусства и литературы.
В отношении поэзии и вообще литературных произведений вопрос о сравнительной ценности подлинника, то есть рукописи, или копии, то есть печатных оттисков, дело обстоит вполне ясно: каждый автор для того и пишет, что надеется увидеть свое творение в печатном виде; сама же рукопись, а тем более черновики могут иметь только археологический интерес, возникающий много позже и в отношении особо прославленных авторов.
Что же касается музыки, то здесь также композиции создаются для того, чтобы их исполняли в пении или инструментах. При этом сами авторы не только часто лишены собственных высоких вокальных данных, но нередко и инструментальное и даже дирижерское их мастерство не превышает среднего.
Наконец, и в отношении архитектурных творений замысел автора и художественная ценность произведений гораздо полнее и яснее отображаются в постройке, чем в чертежах и рисунках. Однако, как по музыкальной партитуре сведущие люди способны оценивать вокальные или симфонические вещи, так и архитектурные проекты могут дать весьма подробное и совершенно точное представление о замыслах автора и его художественной удаче. И как любой хороший певец или певица, любой настоящий оркестр могут исполнить музыкальное произведение повторно, так и архитектурные творения могут быть построены в разных местах и каждый раз совершенно точно по чертежам автора. И нет никакой невозможности утверждать, что одна из этих построек – оригинал, а другая – копия. Все они – подлинники, равно как каждое есть копия с чертежа.
Обращаясь к скульптуре, мы на первый взгляд можем думать, что в этом искусстве первый мраморный авторский экземпляр есть подлинный оригинал в отличие от всех последующих копий. Но это неверно, ибо оригинал скульптор лепит из глины, а этот первоначальный «подлинник» служит для того лишь, чтобы по нему техник-форматор отлил гипсовый экземпляр, и уже этот последний послужит моделью либо для бронзовой отливки, либо для мрамора; то и другое – задача чисто ремесленная. Таким образом, более всего отвечает обычным представлениям об оригинале гипсовая (первая) копия. Но также справедливо утверждать, что с этой гипсовой модели все последующие бронзовые отливки являются абсолютно идентичными, то есть равноценными.
Перехожу в заключение к живописи. Вот та отрасль искусства, где подлинник картины или портрета, созданный руками и кистью самого автора, строго отделяется от репродукций, будь то в гравюрах, литографии и любых даже цветных воспроизведениях в печати. И если, действительно, мудрено добиться того, чтобы при массовой репродукции качество оригинала полностью отражалось бы в штамповочных изделиях, зато отдельно воспроизводимые опытными художниками копии могут повторить оригинал с абсолютной точностью. Умелый художник способен так воспроизвести подлинник, что положительно невозможно отличить, который из двух экземпляров является первоначальным. Недаром случалось неоднократно, что подделки Рембрандта, Рубенса и Гальса вводили в заблуждение и заставляли «попадаться» опытных, профессиональных экспертов, например хранителей первоклассных европейских галерей.
Повторяю, я имею в виду копии, выполненные подлинными мастерами, когда искусство абсолютно идентичной передачи возвышается до уровня первостепенного мастерства, более трудного, чем творчество самого автора, ибо последний был свободен и ничем не связан. Иное дело – жалкое подражание ремесленника («Пьер Грассу» Бальзака).
Искусство и ремесло столь же различны, как роза живая, натуральная и искусственная – матерчатая, крашеная. В первой целый мир с нежной, грациозной гармонией формы, цвета, запаха, дыхания, в каждом лепестке течет влага жизни и весь цветок девственно чист. Второй – холодный, неподвижный труп, жалкая пародия, нелепость, оскорбляющая не только развитый вкус, но и здравый смысл.
Подлинное искусство Способно не только глубоко волновать ценителей, «заражать» (Л. Толстой), но творчески оплодотворять, влияя на способности и продуктивность художников совсем иного жанра и профессии. Например, Гете проездом через Болонью, стоя перед изображением св. Агаты (вероятно Рафаэля), так увлекся выражением здорового и самодовлеющего девичества без тени грубости, что сразу решил запомнить ее образ и созданное впечатление для обработки «Ифигении в Тавриде» в стихах, так, чтобы фигура, облик и дума Ифигении совпали с ликом св. Агаты.
Гете вдохновляющее влияние па поэтическое творчество черпал не только из созерцания шедевров живописи и особенно скульптуры при его итальянской поездке, но даже из архитектуры, и притом не в Вероне, где он впервые увидел творения Палладжио, а много раньше, еще в студенческие годы, когда он часами изучал и переживал архитектуру Страсбургского собора.
Почему-то и на меня Страсбургский собор оказывал действие прямо гипнотизирующее, к нему я убегал даже из клиники Лериша. А на мою профессиональную деятельность особо непосредственное влияние оказывала музыка. Например, перед особо трудными операциями я привык у себя в кабинете перелистывать партитуру «Шестой симфонии» Чайковского. Особо умилительное настроение и спокойствие создавали мне звуки передаваемой по радио увертюры к «Хованщине» Мусоргского – «Рассвет над Москвой-рекой».
* * *
В разряд подлинного искусства включались порой самые крайние направления, выражавшие наиболее эксцентричные и даже сумасбродные тенденции. Но допускать их на общих основаниях и даже включать в уже принятые каноны искусства все же иногда необходимо, ибо оправданием, например, прерафаэлитов, декадентов и символистов является то, что все они являлись законной реакцией против крайностей натурализма.
Допуская, что при определении содержания и задач искусств основным требованием и главной целью является служение красоте, Л.Толстой посвящает две главы своей работы («Что такое искусство») перечислению и разбору множества высказываний и определений красоты, сделанных со времен Сократа, Платона, Аристотеля и до последнего времени (1897). Хотя Толстой усердно работал над темой эстетики в течение 15 лет и пришел к самым неожиданным и крайним выводам, отвергая живопись Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэля, издеваясь над музыкой не только Вагнера и Листа, но даже Бетховена, иронизируя над Пушкиным и т. д., он цитирует множество определений красоты не только признанных знатоков искусства и критиков, но и второстепенных.
* * *
Художники, поэты, актеры – любимые дети, шаловливые, капризные и если даже и испорченные, то все же чарующие и милые с живой, радужной, легкокрылой фантазией и простительным озорством.
Напротив, ученые и философы – строгие служители мудрости и правды, олицетворенной истины и добродетели. Им нужно верить, на них можно полагаться.
Если художника и поэта встречают с любовью и улыбкой, в которой всегда светятся надежда и радость, то сквозь уверенность и уважение, с которыми принимают ученого и врача, часто просвечивают трудно скрываемые сдержанность и холодок.
Но основная цель одна и та же у обеих групп: высокие стремления к прекрасному, желание поднять дух человеческий к высоким ощущениям красоты и правды, познавать и изучать гармонию природы и создавать, творить гармонию в человеческом теле, его психику и общество.
Науки и искусства характеризуются не только элементами, присущими им самим, но также интеллектуальными свойствами своих слушателей, то есть ученых, поэтов и деятелей различных видов искусств. При этом в значительной мере проявляются индивидуальные черты характера и темперамента.
Добросовестное лицемерие бывает у каждого, кто, имея лишь больший или меньший талант, стремится в гении. Прежде чем ввести в заблуждение других, он обманывает самого себя.
Дар восхищения, понимания гармонии, переживания художественных, эстетических впечатлений есть свойство и способность, роднящие людей заурядных с подлинными поэтами, композиторами и художниками.
Души, способные наслаждаться, не уставая и не пресыщаясь сегодня, как вчера, могут сами не найти своего творческого призвания и остаться лишь любящими, преданными попутчиками продуктивных деятелей искусства. Зато своей искренней преданностью, тонким пониманием и обширными знаниями они могут в высшей степени способствовать развитию искусств в широких кругах населения, превращая это в подлинную, насущную потребность и помогая отыскивать и выявлять открытые или затерянные таланты. Таков был, например, Вильегорский – «гениальный дилетант», по отзыву Шумана. Даже император Николай I сделал из него для себя что-то вроде высшего художественно-литературного эксперта.
«До невозможности он был разнообразен.
В нем с зрелой осенью еще цвела весна,
Но многоступный мир был общим строем связан,
И нота верная во всем была слышна.
Всего прекрасного поклонник иль сподвижник,
Он в книге жизни все перебирал листы:
Выл мистик, теософ, пожалуй, чернокнижник,
И нежный трубадур под властью красоты».
Кн. Вяземский
Вильегорского очень ценили, с ним дружили Жуковский, Пушкин, Глинка, Гоголь, Лермонтов. Подобно тому как в княгине 3. Н. Волконской видели «Северную Корину», так театральный мир видел в Вильегорском талантливого исполнителя, композитора, критика и актера.
* * *
Любое общественное явление и каждый факт из жизни людей должны оцениваться строго в перспективе тогдашних мировоззрений, а никак не с точки зрения современной. Морализирующая оценка человеческих чувств, мыслей и деяний, имевших место в давнем прошлом, то есть в совсем иной общественно-исторической обстановке, явно недопустима, ибо противоречит элементарным требованиям исторического материализма. Последний не грешит тенденцией перекладывать вину, которая является следствием социальных условий и заблуждением целых классов общества, на отдельных представителей этих общественных слоев, ибо источник их заблуждений и ошибок коренится не в их личной индивидуальной вехе, а в сложившихся взглядах и установках породивших их классов. И такое отношение справедливо не только для рядовых людей, но также и для высокоодаренных, даже обладающих чертами гениальности, ибо у великих людей, далеко превосходящих своих современников в некоторых отношениях, могут оказаться типичные недостатки и заблуждения кастового или классового происхождения. Даже более того, высоко возвышаясь над общим уровнем некоторыми свойствами своего таланта, великие люди и в проявлении характерных социально-классовых пороков могут тоже превосходить средний уровень. Это, может быть, даже закономерно, ибо если у гениальных людей некоторые положительные качества и характерные грани личности гипертрофированы и составляют главную привлекательную ценность, обеспечивающую их бессмертие, то вполне естественно ожидать, что другие грани, являющиеся отражением социальной и классовой принадлежности, не только повторят типичные общественные недостатки и заблуждения, но выявят их тоже в гипертрофированном виде, то есть в пропорции, соответствующей величию мыслей и стремлений общей одаренности, страстности характера и сосредоточенности воли, ума их носителя.
«Если у великого человека в душе заведется темный уголок, ох, и темно же там», – говорил Гете. Это жестокое изречение справедливо применить к самому Гете. Ибо если этот безусловно гениальный человек возвышался над уровнем не только Германии, но и всей современной ему Западной Европы как некий величественный Монблан, поднимающийся над всеми гребнями и вершинами Альп, то наряду с огромным поэтическим дарованием и множеством крупных заслуг в области науки, театра и искусствоведения, он обладал некоторыми столь же бесспорными и очевидными недостатками чисто обывательского свойства, прямо поразительной примитивностью политических взглядов, граничивших с мещанским филистерством. Как на Монблане чередующиеся тени сильнее выявляют ослепительную белизну снегов, а мраки пропастей подчеркивают высоту вершины, подобно этому и у Гете личные человеческие недостатки благодаря контрасту только еще более подчеркивали его крупнейшие поэтические заслуги и подлинное величие его жизни как ученого-натуралиста.
Могут ли вообще человеческие ошибки и отдельные заблуждения настолько омрачить собой общее впечатление от деятельности великого ума и таланта, что умаляется его значение? Это зависит от того, являются ли эти слабости и заблуждения плодом личной воли и проявлением собственных дурных инстинктов, или же они суть прямое и непосредственное следствие духа времени, влияния среды и того классового воспитания и сознания, каковые, увы, не в силах преодолеть в себе даже высокоодаренные интеллекты, целеустремленно и плодотворно действующие в избранном и излюбленном направлении.
По отношению к такой личности, как Гете, нельзя ограничиться общим высказыванием о его филистерстве. Необходимо примерами подтвердить эту оценку. Это сделать нетрудно, взявши хотя бы его высказывания за последние десять лет жизни (1823–1832) в разговорах с Эккерманном. Конечно, это не было расцветом его ума, однако и в этот восьмой десяток своей жизни Гете создал вторую часть «Фауста» и «Годы странствования». Но, помимо этих крупных созданий его музы в эти годы, Гете в разговорах высказал множество замечательных, вполне передовых мыслей и очень часто проявлял огромную широту и глубину своих взглядов. Например, восхищаясь древнегреческими трагедиями, он особо удивляется «той эпохе и той нации, которые сделали их возможными». Далее, как ни высоко ценил Гете роль личности в искусстве, но поводу Данте он сказал, что величие его в том, что «за собой он имеет культуру столетий».
Чрезвычайно верно Гете улавливал секрет обаяния песен шотландского поэта Роберта Бернса, который еще в детстве слушал народные мотивы жнецов и косарей. Имея такое живое основание, Бернс, опираясь на большую национально-культурную традицию, смог сам творить дальше вполне народные мотивы. Точно так же и Беранже, потомок бедного портного, без всякого образования, в силу особых условий, свойственных Франции, мог черпать культурные идеи и вдохновение прямо из жизни, из народа. «Французы нашли в нем лучшего выразителя своих подавленных чувств»; песни «ежегодно дают радость миллионам людей» и «несомненно доступны для рабочего класса».
Гете испытывал органическую боязнь ко всякой оппозиции, к любой полемике как актам негативного свойства. Такая недостойная боязнь была характернейшим проявлением мещанского филистерства, то есть взглядов и суждений односторонних, ущербных, прямо метафизических. Он откровенно говорил Эккерманну: «Полемические выступления противоречат моей натуре, и я нахожу в них мало удовольствия», «оппозиционная деятельность всегда упирается в отрицание, а отрицание – это ничто». Это приводило Гете к откровенной защите цензуры, ибо, считал он, «оппозиция, не знающая никаких границ, становится плоской», и наоборот, «цензурные ограничения принуждают ее быть остроумной», а это «большое преимущество», ибо притеснения и гонения «возбуждают дух». И Гете так глубоко верит в необходимость цензурных ограничений, что не хочет исключений даже для своих любимых поэтов. Например, он постоянно горюет, что дух борьбы в Байроне, его сарказм и непримиримый протест были препятствием в поэтическом творчестве, и хотя в его стихийной гениальности менять и переделывать что-либо столь же невозможно, как и ненужно, однако дух полемики и вечного отрицания делали самого Байрона надломленным, опустошенным и привели к гибели. Гете прямо выразился: «… если бы не ипохондрия и отрицание, Байрон был бы так же велик, как Шекспир и древние». «Если бы Байрон имел случай весь тот протест, которым он был полон, излить в энергичных выражениях в парламенте, то он очень выиграл бы от этого как поэт».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?