Текст книги "Соленая Падь"
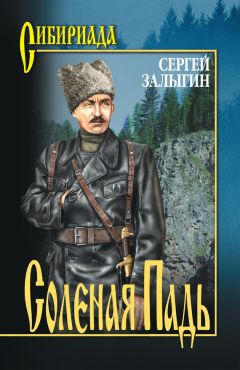
Автор книги: Сергей Залыгин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Думал бы! – ответил ему Мещеряков. – Кто тебе не велел? Послушать – я тебя с интересом послушал. Доро́гой, когда ехали, и нынче, в штабе. А сделал я – как война велит делать. Ты ровно котят нас тыкаешь-тыкаешь! А сила-то наша. И еще ты забыл: мужики карасуковские не зачем-нибудь – за помощью тебя послали к нам. И с тебя за это спросят. А ты? Увлекся то да се за нами замечать. Забыл свое назначение. А я вот не забыл, нет. С первого же разу и понял, зачем Глухов к нам посланный. И покуда ты у нас в гостях прохлаждался – колчаки поди-ка и еще народ в карасуковской степе успели потрогать. Имей и это в виду.
Глухов обе руки воткнул в бороду, сидел за столом не шелохнувшись, негромко Мещерякову отвечал:
– И все ж таки об тебе не думал я, что ты со мной сделаешь. Про кого бы другого, про тебя – нет! Я когда на тебя в путе только глянул – ту же минуту угадал. Хотя и не сразу ты признался, угадал Мещерякова. Почему? Говорил уже – заметный твой сразу военный талан. А у меня другой – хлебопашество мое дело, торговля тоже. Я и почуял: мы на этом друг дружку хорошо поймем. Не будем искать, чтобы ножку один другому подставить бы. И не побоялся я тебя ничуть, вестового твоего Гришку и того опасался больше, как тебя. Ты еще и Власихина освободил, подсудимого, ни на кого не поглядел. А со мной? Хотя бы поаккуратнее сделал, а то взял и под колчаковский удар волость погрозился подставить! Так это же безбожно! Это же разве аккуратно? На угрозе капитал делать? А? Может, он и главным-то потому называется, штаб ваш, что пуще всех других умеет таким вот манером грозить и угрожать? Хорошо… Я вернусь домой, что я об тебе, Мещеряков, должон буду мужикам сказать? – Глухов приподнялся за столом, ткнул пальцем в Мещерякова: – Ты мне объясни – как объяснишь, так и скажу! Ну!
Мещеряков усмехнулся.
– А чего же тут объяснять? Вовсе не трудно! Все, как было, в точности скажи. Передай мои слова: когда нас не поддержат нынче карасуковские, пущай пеняют на себя. Еще передай: Мещеряков велел сказать – война! Они поймут. И тебе самому это понять тоже надо бы куда больше!
Брусенков, до тех пор долго молчавший, сказал:
– Может, и не нужно объединение с карасуковскими? Богатые они слишком? И от нас далеко?
Брусенкова не поняли – или он еще хотел постращать Глухова, или в действительности так думал. Тот разъяснять не стал.
Мещеряков поднял с пола лоскуток клеенки – голубенький, с синими цветочками, – передал его Глухову.
– Возьми! Рано, видать, обулся-то! Сейчас и распоряжусь – дадут тебе коней, сопровождающего, сопроводят до района военного действия. Там ужо одиночно доберешься. Бывай здоров! – Похлопал Глухова по плечу.
Разувался теперь Глухов совсем не так, как в первый раз это делал… Тогда он сапог с себя сбросил – едва успел его в руках удержать, а то бы улетел сапог в угол куда-то, и портянку разматывал – словно флаг какой.
Теперь сдирал-сдирал обутку с ноги, кряхтел, носком левой ноги в пятку правого сапога упирался, но соскальзывал, не снимался сапог, да и только. Долгое время завертывал письмо в клееночку.
Кое-как осилил Глухов эту работу… Вздохнул.
– У меня в эту пору, в страду-то, в бороде пшеница прорастает, и я правда что глухой делаюсь: уши половой забитые и еще от грохота от молотильного ничего не слышат…
Удивлялись нынче находчивости Мещерякова все, кто был в штабе. Так ли, иначе ли, а удивлялись.
А ведь никто по-настоящему так и не знал, для чего Мещерякову наступление карасуковцев нужно было.
А нужно было вот для чего – для плана контрнаступления. Хотя командующий фронтом Крекотень и сдерживал белых на всех направлениях, но в тыл противника не заходил – неохотно отрывались нынче партизанские части от своих сел и деревень, не о рейдах по тылам – о защите деревень этих думали. Все силы свои, до единого человека, Крекотень хотел вывести на оборонительный рубеж. Задерживал противника на марше, а сам только и думал, как бы от него оторваться, занять оборону. И потому, что не стояло такой задачи – дать решительный бой хотя бы одной колонне белых, – все пять колонн с запада, севера и северо-запада, сближаясь друг с другом, двигались на Соленую Падь. Чем больше сближались, тем проще могли оказать поддержку друг другу.
Теперь же Мещеряков рассчитывал так: внезапный удар карасуковцев с тыла приостановит наступление одной колонны. Остальные задержатся вряд ли – будут еще день-два продвигаться вперед. И вот тут-то и нарушится между ними связь, и Мещеряков, предпринимая контрнаступление, имел бы против себя одновременно не более двух колонн, и то не сразу: в начале операции только одну, вторая подтянулась бы позже.
И еще было соображение у Мещерякова… Весь ход нынешних военных действий, конечно, раскрыл противнику план крестьянской армии. На рытье окопов выходили деревнями – это в тайне не могло остаться. А действия в тылу противника его бы дезорганизовали. Тут и еще можно кое-какие демонстрации провести, окончательно сбить противника с толку, а тогда и бросить все силы в контрнаступление, в частности, двинуться в Убаган…
Мещеряков указал карасуковцам две дороги – Убаганскую и Карасуковскую. А сделал он это, чтобы скрыть свои намерения. Ему будто бы все равно, где будет поддержка, – лишь бы она была. На самом же деле карасуковцы если выступят – так только по Убаганской дороге. Она была неоткрытая, нестепная, перелесками шла и оврагами. Устроить на такой дороге засаду, после уйти без особых потерь – сама местность подсказывала. Ко всему еще Убаганская дорога почти вся проходит за пределами волости, ясно, что мужики карасуковские воевали бы на ней, до поры не навлекая на себя карательных белых экспедиций. Как будто неплохо было придумано?
Из своего приказа Мещеряков и не думал делать секрета. Зачем? Пусть все видят и понимают – он заботится о том, чтобы оттянуть сражение за Соленую Падь. И только.
Доволен был нынче Мещеряков.
Распрощался со всеми по ручке, Тасе Черненко так пожал обе и быстро-быстро поспешил в свой штаб, откуда хотел еще засветло успеть на позиции.
Кончилось заседание главного штаба.
Остались Довгаль и Брусенков. Закурили. Довгаль, потянувшись, расправил ноги и руки, сказал:
– Ну вот, а ты про Мещерякова говорил! А? Как он с Глуховым-то? А?
– И сейчас говорю… – хмуро кивнул Брусенков. – Говорю – не отказываюсь.
– Да что ж ты нынче-то еще можешь сказать? Уже вовсе не понятно мне!
– Давай поглядим, что человек этот представляет… Первым делом пошел против народного приговора и Власихина освободил. Ему-то что – комедию нужно было с нами, со всем народным судом сделать, или как?
– Ну, на это махнем… Было – прошло. Поважнее есть дела.
– Как бы только это. Комиссара он сам себе назначил. Какой из Куличенки комиссар? Мальчишка сопливый и бестолковый. Глядит начальнику своему в рот. Не хочет над собою никакого руководства Мещеряков, только наоборот и желает. Далее: начальник штаба у него – капитан царской службы. И Глухова он привел в главный штаб, с нами посадил его. Тот безобразничал, издевался всяко, а в результате что? Секретный приказ с собой увез, вот что! И распрощались они, видишь ли, друзьями. Друг дружку поняли! А когда он шпионом окажется, Глухов, – я нисколько не удивлюсь! Ничуть. Еще: в Знаменской деревне Мещеряков эскадронца застрелил. Напрасно и застрелил. Это не самоуправство ли? И еще: корову-то, видать, не зря когда-то Мещеряков с чужого двора увел. Вот тебе об нем картина. Плюс нынешний хотя бы разговор о лозунге соединения пролетариата. Кто-кто, а ты почему об этом забыл?
– Мнится тебе, Брусенков! Да разве можно на все это глядеть? Разве нас с тобой завтра же нельзя засудить, что мы в войне этой кого-то напрасно стрелили? Ты гляди на действия человека, вот на что! Как армия его слушается, как идет за ним! Как революцию он делает, жизни за нее не жалеет!
– Не сильно хорошо он делает! Нет! Я на его месте сделал бы, как замышлялось с самого с начала: оборонительных рубежей создал бы не один и, может, не два и всякий раз заставил бы колчаков рубежи эти с бою брать, наносил бы потери им побольше того, как нынче Крекотень на марше наносит. А на последнем рубеже и дал бы решительный бой. Но Мещерякову партизанить охота… Очень даже!
– Вот что, Брусенков, – главнокомандующего мы сами выбирали. Народ верит ему. Давай и мы с тобой поверим. Он же год воюет – ни единого сражения им не проиграно!
– И сейчас не захочет – не проиграет. Не захочет – ничего худого в Соленой Пади не будет. Ну а чего он хочет – не знаю. Прежде будто знал, стал на его поведение зорко смотреть – теперь не знаю.
– Та-ак… – сказал Довгаль. – Еще вопрос: после власихинского суда возвращались мы с тобой домой, ты обещал мне тогда – уберешь Мещерякова. Всерьез обещал или под горячую руку сказано было? И пошли вы все – и Коломиец, и товарищ Черненко – к Толе Стрельникову в избу. А я не пошел и жалел после сильно… Об чем был между вами разговор? Как решено?
Брусенков молчал.
Терпеливо ждал ответа Довгаль. Не дождался. Напомнил:
– Жду я. Может, и мне не веришь уже?
– Все может быть… – вздохнул Брусенков. – Не кто, как ты, ездил нашим представителем в Верстово. Не кто, как ты, с Мещеряковым тот раз вел переговоры. А вдруг он обошел тебя? Так же вот и обошел, как нынче Глухова, а?
Довгаль посидел, помолчал…
– Ну, когда так, то убирать надо тебя, Брусенков. Подумай об этом. Покуда сам подумай – после за тебя уже подумают.
Брусенков поднялся, молча постоял. Подошел к Довгалю, положил ему руку на плечо.
– С тобою, Лука, мы знакомые уже, вспомнить, годов более пятнадцати. И я нынче об тебе сказал – только как пример привел. Вообще. Как нужно глядеть кругом себя, как строго друг с другом быть. – Помолчал Брусенков, вздохнул. – Когда бы не Черненко, девка эта, то было бы тогда, в избе Толи Стрельникова, постановлено – тут же Мещерякову насчет Власихина и предъявить. Чтобы он взял назад свое приказание об освобождении подсудимого.
– Он бы на это не пошел, Мещеряков! Ты это знаешь.
– А тогда его убрать.
– Совсем?
– Совсем.
– Значит, когда бы не Черненко, так и решено бы стало?
– Стало бы. Она против пошла, и Коломиец за ней, и Толя Стрельников колебания проявил. И решено было: еще на Мещерякова поглядеть. Показать ему всю нашу власть, как устроено в Соленой Пади. Как главный штаб управляет. Чтобы он понял и согласился с этим. Чтобы сам подчиняться этому управлению тут же и согласился. Ну а когда он покажет себя против, не понравится ему… Поведем его по всем отделам главного штаба. Завтра, либо послезавтра – поведем подробно. Чтобы поглядел бы. А мы чтобы – поглядели на него. И сделали об нем окончательный вывод.
– Да в уме ли вы? Об чем вы думаете в настоящий момент? – воскликнул Довгаль и покраснел весь и задрожал. – Белые же завтра подойдут вплотную, зверства сделают невиданные, а вы твердите: «Поглядим на Мещерякова. Поглядим, как с ним сделать».
– Ну и что же? Главное сделано! Сделано объединение. А Крекотень – тот ничуть не хуже Мещерякова управится в главном командовании… В остальном же был уже сегодня между нами этот разговор, но ты, видать, не все понял: пусть белые придут! Пусть порушат нас! Это что будет значить? А то и будет, что война наша с мировым капиталом еще жестче сделается. Еще больше массы поднимутся и осознают свое великое дело! Войдут в революцию с головой, без остатка. Каждый до тех пор в нее войдет, что обратного хода уже ни у кого не будет. Поэтому данный момент чем он кровопролитнее, тем это даже нужнее. И если существует подозрение, что Мещеряков – пусть в месяц однажды, но назад оглядывается либо жертв боится, то и убрать такого надо без сожаления. Отклонение каждого из нас от истинной линии страшнее, чем колчаковские банды. Пережить однажды – пройти сквозь горячий костер! Надо! Колчак – тот огня не боится. У него решение – сгореть, но не отступить. И он ни своих, ни чужих – никого не жалеет для огня этого. А мы почто слабосильнее его оказываемся?! Он-то – как зверь в клетке гибнет загнанный и будущих проклятиев не боится! А мы? Нам за нашу гибель история памятник сделает!
Довгаль молчал.
И молчание это Брусенкова еще воодушевило, он еще сказал:
– Когда мы не сделаем революцию нынче, то мы ее, может, и никогда уже не сделаем. Потому что капиталист уже другого Колчака нам для такого случая не даст. Такого же зверя. Капиталист когда поймет, что от смерти ему близко, – он и своему пролетарию тоже подачку сделает – куском, рублем, какой-нибудь фальшивой свободой. Может, одну десятую от своего богатства уступит, может, того меньшую часть, он не прогадает, навеки пролетария успокоит, погасит в нем революцию. Потому, Довгаль, товарищ мой, давай торопиться, делать ее, пока горячо, пока не остыло, пока мы сами на жертвы готовые на любые, а капитал всей опасности не осознал. Пока пролетарию и правда что нечего терять, как свои собственные цепи. Давай торопиться, ни пота, ни крови не жалеть. Иначе сказать: и вся та кровь, которая до сих пор народом была пролита, вся, до капли зря пропадет!
– Злой ты, Брусенков. Откуда ты? Кто тебя таким сделал?
– Не злой, а умный. Еще сказать: ученый. Сильно добренькие умными не бывают – запомни это.
– Нельзя так, Иван! Нельзя! Пусть нашей крови желает Колчак, пусть желают ее из разных стран легионеры – им деньги за это платят, и обещания дают, и обманывают их всячески. Так ты и злился бы на их, на их только! Но ты и на своих тоже кровавыми глазами глядишь!
– Тоже. И свои, может, не меньше виноватые, когда их мильонами угнетают. Ведь и надо-то всего – договориться на один день и час мильонам этим, один раз. Только заняться, попачкать о капиталиста руки – и все! Конец настанет капитализму, думать о нем забудут. Ну, если не могут сговориться на один день – пусть бы на один месяц решились, на один и даже – на два года! А то боится каждый, и каждый для себя так ли, иначе ли ловчит, а получается – вместо единой революции позволяет себя отдельно от других в крови утоплять! Нет, и на своих глядя, радоваться тоже не приходится. Слишком ее мало радости этой в людях. Учение им нужно, и учение без пряника – вовсе другой мерой!
Довгаль подумал, провел рукой по лицу, вспоминая что-то. Вспомнил:
– Ты, Брусенков, при суде над Власихиным как говорил?
– Как?
– Говорил: не может быть, не должно быть такой власти, которая весь народ, и отцов, и детей гнала бы на гибель… И нету того народа, который такое над собой терпел бы безропотно! Говорил?
– То был митинг. Торжество. А нынче – уже рабочая обстановка…
Глава шестая
Мещеряков осматривал оборонительные позиции. Сопровождали его командиры полков.
Сначала ехали бором, Мещеряков прикидывал, где тут в бору удобнее расположить полевой госпиталь, лабораторию для заправки стреляных гильз, армейский обоз. После выехали в поле.
Соленая Падь с целой стаей колодцев-журавлей, с зелеными крышами бывшей кузодеевской торговли, с редкими сизыми дымками оставалась позади и чуть справа. А вот впереди, сколько хватал глаз, велись оборонительные работы – наверное, тысячи две народу копали основную линию окопов.
Через выпас шла линия, рассекала поскотину, шла пашней по стерне, местами – прямо по не убранному еще хлебу черным надрезом. По вспаханному осеннему же пару надрез этот был желтым, глинистым.
И всюду народ кипел, и падала, падала степная пашенная земля из окопов на брустверы, кидали ее мужики блестящими на солнце лопатами, а где так и бабы старались, и ребятишки.
Звон стоял над степью… Кто-то очищал в тот миг лопату о лопату, а еще кое-где сидели около небольших наковален мужики, те звенели безустанно – отбивали притупившиеся на плотном грунте лопаты домашними молотками.
Шел звон от бора до Большого Увала, а вверх – едва ли не к самому солнцу, разгоняя в белесом небе редкие, пугливые облачка.
И голоса человечьи тоже звенели, и гудели, и вздрагивали, налетая друг на друга, и тоже заполняли собою все вокруг – и вдаль и ввысь.
«Шумит-то народишко…» – подумал Мещеряков.
На фронте не раз приходилось ему видеть, как роются окопы, и он сам – саперный фельдфебель – тоже не раз и не один год рыл их, но никогда не примечал, что дело это такое звонкое.
А еще и по ту и по эту сторону линии обороны убирали нынче хлеб. Торопились. Погоняли коней, и лобогрейки быстро-быстро махали едва видимыми мотовилами, самосброски – крыльями, а на сенокосилках приспособленных под жнеи, – на тех как-то особенно ясно видны были мужики, по большей части в белых рубахах и без шапок. Они тоже без конца, словно мельницы-ветрянки, взмахивали граблями-укладками, клали хлеб в горсти. И стрекотали на лобогрейках, на самосбросках, на косилках ножи, и кони шагисто двигались по кромкам разбросанных там и здесь пшеничных, просяных, овсяных, гречишных полей. Пшеничные посевы – те особенно были похожи на крупные ломти хлеба, жнеи отрезали от ломтей совсем тонкие ломтики, поля суживались, а когда полоски несжатой пшеницы становились совсем узкими – в один-два захвата, – кони сами по себе прибавляли шагу, валили пшеницу сперва на одну сторону, разворачивались, шли обратно, и скошенное начисто поле с сероватой стерней сразу будто прижималось к земле, кончалось на нем лето, ступала на него осень. Глубокая осень. Поблекшая, бесцветная.
Бабы в разноцветных сарафанах, в белых косынках и с подоткнутыми подолами домотканых юбок цепками двигались по ходу машин, сгибались и разгибались, сгибались и разгибались – вязали горсти в снопы. Снопы нынче не складывали в кучи, а тут же подбирали на двуконные подводы в высоченные возы.
Один за другим шли эти возы чем ближе к деревне, тем плотнее один к другому – чуть что не сплошным обозом, а из села на порожних, стоя в рост и гикая на коней петушиными голосами, мальчишки-возницы мчались в обгон друг друга, подымали по дорогам пыль и, только свернув на стерню, притормаживали, ехали мирно-чинно, боялись, верно, что за бешеную езду мужики и бабы станут на них ругаться.
Шло дело.
Тут, должно быть, не глядели, чья пашня, кто хозяин, – убирали артельно. Весело убирали. Будто не перед войной – перед престольным праздником торопились: хотели управиться и хорошо погулять.
Будто и окопов тут же рядом не рыли и поля освобождали не для кровавого боя.
А между прочим, когда снопы эти свезут в деревню, сложат, у кого прямо на ограде, у кого на огородах, и вся деревня покроется зародами, как грибами, а после того противник даст по дворам и постройкам первого же огонька – заполыхать может сильно. Куда как сильно! Нынешний колос и солома – богатые, сухие, горючие.
Еще смутила Мещерякова одна совсем ненужная линия окопов. Он спросил: а эту кто назначил? Кто выдумал? Совсем непутевую, боковую?
Ему ответили: это начальник главного штаба приезжал, товарищ Брусенков, инспектировал. Он и надумал.
Как будто товарищ Брусенков – лицо тоже военное, а не гражданское.
Повздыхал Мещеряков, в который раз уже подумал: «Партизанское ли это дело – оборона?»
А линия окопов на глазах все глубже врезалась в землю, уже обозначились ходы сообщения, пулеметные гнезда и выемки под капониры, ложные окопы Мещеряков тоже узнал, и кинжального действия, покуда еще не замаскированные. Война…
Еще раз оглядев местность в бинокль, Мещеряков спешился, бросил повод коноводу, велел тут и ждать его, пошел не торопясь, раздумчиво, а командиры полков тоже спешились и тоже двинулись за ним.
Держались не у самой линии окопов, а чуть поодаль, чтобы не мешать людям работать.
Мещеряков хотел, как только окопы будут выкопаны, провести учение прямо на местности – разыграть предстоящее сражение – и потому, объясняя командирам расположение и действия их полков то и дело повторял: «А я буду вашим противником и сделаю, к примеру, так…»
Народ, рывший окопы, на командиров – а на Мещерякова так особенно – глазел, однако работу не бросал. Даже, наоборот, еще больше старался. Ни криками, ничем другим командирам их планы обдумывать не мешал.
И Мещеряков тоже с народом покуда не заговаривал, целиком был занят своим делом, а между тем успевал заметить, как и что делается, как работа организована.
Никем не назначенные старшие и мерщики, тут же громко выкликаемые по именам и фамилиям, отбивали для каждой артели участки, мерили землю деревянными саженками усердно, словно собственную пашню, или межи на покосе отбивали перед Троицыным днем, они же сменяли людей, командуя одним отдохнуть, другим попроворнее орудовать лопатами. Старшие, которые были позапасливее других, те имели добрые охапки черенков, тут же и меняли на лопатах черенки изломанные и вообще негодные.
Слышно было, как нерасторопного какого-то старшего какая-то артель вмиг сменила – как тот никуда не годный черенок, – покричала и назначила нового. Новый старший оправил на себе рубаху и тут же велел окоп углубить, а бруствер подровнять. Правильно велел, так и надо было сделать.
Суматохи особой не было. Бабы только повизгивали кое-где в окопах – ну, это им и Бог велел.
Еще объяснив командирам задачу, Мещеряков вытер платком пот со лба, провел двумя пальцами по усикам.
– Ну что, товарищи командиры? Понятная пока что задача? А теперь, я думаю, и с народом надобно перекурить. Это тоже – нехорошо все время врозь от массы держаться! – Повернулся и пошел к окопам.
Его тотчас густо народом окружили. А он любил густой народ, Мещеряков. От долгой солдатской службы, что ли, это у него было: там, в строю, всегда и справа и слева от тебя люди, и на ночевках плотненько лежишь, кому-то голову на брюхо положишь, а кто-то тебе – и каждый вроде на перине; перед кухней походной тоже не один толкаешься с котелком; а с семнадцатого года пошли на фронтах митинги, так писарь был у них полковой, иначе на митинги эти и не призывал, как только криком: «Набивайся, набивайся, ребята! Набились, что ли?» О вагонах и говорить не приходится – в вагонах кони да генералы ездят по счету, нижние же чины – сколько набьется и еще сверх того один комплект.
И весело обо всем этом подумав, заволновавшись перед началом разговора, Мещеряков вынул кисет, стал закуривать трубку. Спросил:
– Ну что, мужики? И – женщины? Как решено-то вами: белых будем бить либо они нас?
Пестренький, сильно уже древний старикашка в стоптанных опорках, которые еще только один день и согласились потерпеть на тощих и кривоватых ногах, подался из круга, повторил вопрос Мещерякова слово в слово и сам же на него ответил:
– Значит, так приговорено было миром – колчаков до одного унистожить. – Помолчал, спросил и дальше: – А главнокомандующий как на войну глядить? Ему как известно? – Поджал губы, стал часто-часто на Мещерякова мигать… Видно было – постирала жизнь старикашку. Постирала в щелоке, успела за годы.
– Наша и возьмет! – ответил старику Мещеряков. – Куда мы будем годные, что такой силой – и не возьмем? Зачем и жить на свете всем народом, всем вместе? Ежели в этом силы нет – тогда лучше разбегаться кому куда!
Но старик потоптался своими залатанными опорками и еще проговорил раздумчиво:
– Пушки у его, у белого… Пушки проклятые, и, сказывают, много-о! – Почесал спину. – И каждая ноздря – снарядом заряженная!
А Мещеряков тут же спросил:
– Вам, отец в спину однажды картечью угадывало? Было дело?
– Было! – кивнул старик весело. – До того, слышишь, было – едва живой остался!
Все засмеялись кругом, и Мещеряков засмеялся тоже, но тут и осекся: вспомнил отца Николая Сидоровича, замученного беляками. И еще подумал: он не за-ради одного только смеха к людям подошел. Посмеяться можно, и даже очень это полезно. Однако – опасно. Запросто можно для начала зубоскалом прослыть. После и рад будешь серьезно с народом поговорить, но на тебя уже каждый будет несерьезно глядеть.
Он хорошо знал, Мещеряков, что ему предстоит, когда к народу подходил: его сильно узнавать сейчас будут, испытывать вопросами. Имеют на это полное право.
Уже заметил он и одного и другого, кто с нетерпением ждал, чтобы вопрос перед ним поставить. Старика, конечно, все должны были уважать, старика, пестро-рыжего, обтрепанного, никто не перебивал, но это только для начала…
Высокий тощий фронтовик стоял среди других, лопатку забросил на плечо, а цигарку незажженную уже всю губами изжевал, – тот солдатским понимающим глазом на главнокомандующего щурился.
И верно, он и задал вопрос.
– Может, мы зря с тобой, товарищ командующий, оружие-то на фронте бросили? – сказал он. – Довоевать бы уже нам с немцем, после – с собственным своим офицерьем? А то случилось, покуда мы на мировую революцию надеемся – союзнички наши до конца сделают нам интервенцию, еще разожгут гражданскую войну, и тут уже не только от нас, дезертиров, ничего не останется – не останется и России, и даже мирного населения. Все истребится!
«Вот и возьми его, фронтовика, – подумал Мещеряков. – Какой оказался он птицей! Нет чтобы подумать: окопы же люди делают, готовятся к смертному бою, так неужели в такой момент и вот так о войне перед этими людьми говорить?! Его очень просто можно было пресечь. Сказать: «Оборонец, гад! На фронте мнение поди не высказывал, там тебе, оборонцу, быстренько бы просвещение сделали, а здесь, перед гражданским населением, задний ход даешь во всеуслышание? Не нашел лучше времени и обстановки?»
Но промолчал Мещеряков, не сказал так. Подумал, сказал по-другому:
– Оружие мы нынче подняли все – и военные, и вовсе гражданское население. А почему подняли? Смогли? Потому что мы его в свое время сами же обземь крепко бросили! Бросили, мирный исход всем и каждому предложили: германцу, собственной буржуазии, самим себе. Бросили – тем самым перед всем человечеством отвергли самую несправедливую бойню – и пошли домой к бабам, к ребятишкам своим, к пашне. Но только это наше самое справедливое действие не понравилось, кому-то поперек стало, что мы сами собою управились, за чужой интерес перестали воевать. Буржуазии это стало поперек, и она объявила об этом с оружием в руках, а что мы поняли всю ее хитроумность – так нас же обозвала предателями! Только не понимает тот громкогласный буржуй одного: который народ по своей собственной воле смог бросить оружие, тот уже сможет и обратно поднять его с земли и опять же – без офицерской команды, сам по себе и ради себя! Чтобы защитить себя и мировую справедливость! Тут – буря, от которой буржуазии спасенья нет и не будет! – И Мещеряков положил правую руку на кобуру револьвера, левой приподнял на голове папаху…
Фронтовик же задумался, другим, не сильно бойким взглядом на главкома посмотрел. Цигарку свою не жевал больше губами. Мещеряков вынул из кармана коробок, чиркнул спичкой и через головы ребятишек, стоявших в круге первым рядом, подал ему – длинному, тощему – огонек.
Ребятишки снизу вверх на главнокомандующего глядели молча, после кто-то из них спросил:
– А правда – нет: вас пуля не берет?
Все засмеялись, не засмеялся только Мещеряков, ответил серьезно:
– Шальная пуля – та действительно может в меня попасть.
А прицельная – ни в жизнь!
– Это как? – уже кто-то взрослый спросил.
– Подумай головой – как? – сказал Мещеряков, а еще кто-то подал голос:
– А ежели – кишка тонкая головой-то думать?
– Да просто же, – засмеялся Мещеряков, – покуда враг в меня целится, пуля тоже подумает, как меня кругом обойти! – И показал рукой, как пуля обходит его кругом, щелкает прямо в сопливый нос какого-то парнишки.
Смеялись все, и Мещеряков тоже смеялся. Его снова спросили:
– Без шуток, как управляться-то нынче будем с беляками?
– Без шуток так: наши подвижные части сейчас наносят белым колоннам потери на марше. И дальше будут наносить. И к Соленой Пади, вот к этой нашей оборонительной линии, противник подойдет сильно потрепанный. Но этого мало, в основном мы его из силы вытряхнем своей обороной. По всей видимости, запросит он поддержки из резервов. У самого верховного и запросит. А мы в тот момент и перейдем в решительное контрнаступление, и уничтожим его по частям: сначала главные силы под Соленой Падью, после – резервы на марше. Как раз и российская Красная армия будет где-то поблизости, и советская власть. Недолго останется до полного соединения.
Кто-то удивился и нараспев сказал:
– При всем народе и военные действия объяснять! Это же глубокая тайна!
– Ну, противник поди не дурак, чтобы этакую тайну не угадать, – ответил Мещеряков. Подумал и еще сказал: – А кроме того, я надеюсь, среди нас предателей нету. Надеюсь крепко.
– А так бывает – чтобы без предателев? Чтобы на множество людей – и ни одного бы не нашлось?
– Бывает… Это я точно знаю. – И Мещеряков не торопясь стал рассказывать случай. Из его собственной жизни был случай. – Действительную служил я на Дальнем Востоке. Вышел как-то из расположения по увольнительной, ну и сильно выпил. После вернулся в казармы, а дневальные, свои ребята, от начальства укрыли, тепленького меня тихо провели, на нары уложили спать. Но – не спится мне. Что-то сделать бы еще? И надумал: встал босой, в дежурку прокрался. Шашка там висела на стене, в дежурном помещении, темляк сильно красивый, как сейчас помню, а еще висел там портрет его величества государя-императора. И снял я ту шашку с красивым темляком, вынул из ножен и портрет – раз, два! – порубил вдоль и поперек!
Мужики в кругу ахнули, молодежь – та повытаращивала глаза молча – не знала, что солдату за такую проделку бывает. А Мещеряков развел руками и плечами пожал.
– И что я в ту пору на его величество осерчал – не помню, хоть убей! Но только – сделал. И ловко так сделал, довольный остался. Ушел обратно на свое место и уснул. Хорошо уснул… Вдруг тревога, подъем. Ну, я солдат был уже не первого года службы, хотя и после выпивки, а вскочил, оделся проворно. Построились мы всей ротой, я во втором взводе стоял и во втором же отделении. Тут выносит ротный командир портрет изрубленный, показывает всему строю и пальчиками бумажки поддерживает, чтобы не распались они окончательно. Спрашивает: «Кто сделал – три шага вперед!» Молчат все. Он опять: «Кто сделал – три шага вперед!» И даже сам ножками три шага на месте отбил. Молчит рота. «Не признаетесь – замучаю всю казарму нарядами. Всех лишу увольнительных! Во всем городе и все сортиры дочиста выпростаете! Замучаю нарядами, как перед богом – замучаю!» Обратно три шага собственными ножками показывает… Ну что делать – моя работа. Выходить надо из строя, когда из-за твоей личности на всех такая участь! Я ремень на себе подтянул и гимнастерку заправил, прежде как выйти, сделать три шага, а справа и слева от меня товарищи стояли и еще позади – те шепчут: «Стой, дурень, стой, не шевелись!» Я и остался в строю.
И что же вы думаете? Сколь роту нашу по нарядам ни гоняли, гоняли безжалостно, и не один месяц, и все знали, кто сделал, но ни одного не нашлось человека доказать начальству! Ни одного!.. А когда так – кто тут спрашивал, бывает без предателей или не бывает? Я думаю, ответ понятный! Особенно когда учесть, что случай этот произошел еще в темное дореволюционное время!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































