Текст книги "Чистый цвет"
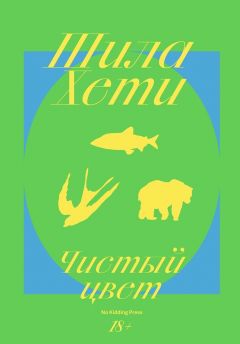
Автор книги: Шейла Хети
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
* * *
Вокруг них парили всевозможные призраки и духи, на которых у них не было времени. В домах, где они снимали жилье, на земле и в земле оставались призраки и пожитки людей, которые жили и умирали там до них, и тех, кто умер еще до рождения прежних жильцов, и всё то, из чего на уровне атомов строились сцена и амфитеатр всей их жизни, о которых они никогда не задумывались.
Даже если бы они задумались, они бы не знали, как об этом говорить, но они и об этом не задумывались, как и о том, что всё, что с ними происходило, происходило на кладбище. Да и как они могли знать, что даже милейшая из них умрет от какой-то немыслимой болезни двадцать лет спустя всего в паре кварталов от того места, где они устраивали вечеринки, болезни мощной и быстрой, которая настигла ее и заперла в собственном теле, так что никто из них даже не знал, слышит ли она, что они говорят. Могла ли она их слышать, или ее мозг уже превратился в студень? Она была как Мира, не играла в девчачьи игры. А потом в один день – это не укладывалось в голове – умерла.
* * *
* * *
Единственной причиной, по которой им удавалось жить с ощущением полнейшей важности, составлявшим основу всего, что они испытывали, было то, что поступление известий из внешнего мира было очень, очень ограничено. Новости приходили из ежедневных газет, если вообще приходили. А они даже не читали газет. Они никогда не смотрели видеороликов о том, как другая девушка укладывает волосы. Они и понятия не имели, что другие девушки укладывают волосы. Всё остальное, жизни других людей и мысли о людях кроме них самих были одинаково далеко. Всё, что их касалось, – это они сами, и книги, которые они читали, и еще музыка. Существовали ли вообще другие ребята? Они точно так не думали.
* * *
Можем ли мы утверждать, что в те времена дружили иначе? Что друзья были как лампы, один на один с тобой в полном уединении? Каждый был знаком не более чем с дюжиной или двумя других людей, и никогда нельзя было знать наверняка, когда ты увидишь их вновь. Каждое расставание могло быть навсегда. После вечеринки была вероятность больше никогда не увидеть лица своих гостей. Об этом как-то не думалось. У всех была своя маленькая жизнь, затрагивавшая жизни других людей только на время вечеринок. В перерывах между вечеринками с большинством общение прекращалось.
В те времена дружбой не хвастались. Друзьями были просто те, кто тебя окружал. Никому и в голову не приходило, что может быть как-то иначе. Если тебе нравились твои друзья, хорошо. Если друзья тебе не нравились, это тоже нормально. Нас устраивали наши заурядные жизни. Никому и в голову не приходило, что можно было жить необыкновенно. Такая жизнь была у людей где-то далеко. Наша недостаточная осведомленность о масштабах мира удерживала нас от большой фальши. Нам хватало держать знакомство с четырьмя или пятью людьми и переспать с двумя или тремя из них. Разве можно было стремиться к чему-то еще? Лишь воображаемое бессмертие – ощущение собственного величия, которое никак не проверить.
* * *
* * *
Это было не так уж давно, вот что забавно. Мы, в большинстве своем, всё еще живы. При этом никто из нас не поддерживает с другими связь. Мы общаемся только с теми друзьями, кого завели после революции дружбы, в результате которой поддерживать связи стало важнее всего. Друзей, которых мы знали до нее, мы рады были упустить из виду; продолжить традицию старого мира в новом.
* * *
Однажды, когда Мира была на работе, ее начальник натянул пальто со словами, что ему нужно выбежать по делам и что он вернется через двадцать минут. Как только он вышел, Мира взяла свою любимую лампу, поспешила с ней в подсобное помещение и спрятала ее рядом с пожарным выходом в переулке, между сложенных картонных коробок и обмякших мешков с мусором.
Несколько часов спустя, после закрытия магазина, Мира вышла через главный вход, обошла здание и свернула в переулок, где нашла свою лампу и осторожно понесла ее по улицам, спрятав под пальто. Она несла лампу, крепко прижав к груди, будто толстого кота. Она подняла лампу к себе в комнату и поставила на стол. Нагнулась, чтобы включить вилку в сеть, затем снова выпрямилась и оглядела ее. Вот она: ее лампа.
* * *
Мира не считала, что обладание лампой сделает ее более ценной или превратит в более значительную личность. Она не думала, что кто-то полюбит ее за то, что у нее есть эта лампа. Она не надеялась, что благодаря лампе обретет магические способности. Это было просто желание обладать чем-то таким особенным, таким сияющим, чем-то, что принадлежит только ей. Так просто и невинно – хотеть эту лампу. Позже приобретать вещи стало гораздо сложнее, это не приносило удовлетворения, оставляя смешанные чувства и желание большего. Но обладание этой лампой не возбудило желания обладать другими лампами. Оно лишь подарило удовольствие от обладания этой лампой.
Она поднялась из-за стола, чтобы выключить верхний свет, и вернулась, чтобы посидеть при свете своей лампы. Красные и зеленые стеклышки бросали отсветы на ее лицо в темноте и белые стены. Мире нравилась ее убогая маленькая жизнь, принадлежавшая только ей.
* * *
Они всё спланировали сами, весь этот званый ужин. Они собирались пригласить всех, всех лучших людей, которых они знали. Мира съехала со своей первой квартиры и теперь жила в доме с Мэтти и двумя другими одногруппниками. Она сообщила им, что хочет пригласить Энни, таким тоном, будто приглашать будет саму королеву. Они встречались с ней еще пару раз после того, как сидели все вместе на полу ее квартиры тем вечером. Они надеялись, что она примет приглашение.
* * *
В этот вечер они, пятнадцать человек, сидели за несколькими импровизированными столами, ели арахисовый суп, приготовленный их тощим другом-веганом, который жил в мансарде и коллекционировал анархистский самиздат и потемневшие японские мечи.
Никто из них раньше не устраивал званый ужин, а Энни была той, кем Мира поистине восхищалась. Так почему же тогда она пригласила ее в их невзрачное жилище? Потому что, пока Энни не появилась у них на пороге, Мира не отдавала себе отчет, какое впечатление о том, как она живет, может сложиться у Энни. Мира пригласила ее, сияя от гордости, полагая, что Энни увидит в ее бытии то же, что и она сама: непринужденное очарование. Но в тот миг, когда Энни вошла в прихожую, Мира поняла, что пригласить ее было ошибкой. Проходя по коридору, Мира увидела, как Энни посмотрела на картину, найденную Мэтти на улице. Он повесил пейзаж в коридоре и смешно разрисовал его членами тут и там. Теперь, посмотрев на него глазами Энни, Мира увидела, что в этом нет ничего замечательного. Выходка Мэтти была мальчишеской и откровенно глупой! Как и их жизнь, и их ужин, и этот суп, и все их пьяные и слишком юные друзья, ни один из которых не знал, как вести себя на мероприятии, которое они высокопарно нарекли званым ужином.
Можно ли винить Энни в том, что она сочла угощение отвратительным, а всех присутствующих – ничтожествами? Можно ли винить ее в том, что она испытала отвращение, когда они все напились в стельку в первые два часа и стали оскорблять вегана вместе с его арахисовым супом и разбросали его хлеб по всей комнате? Мира с тревогой наблюдала за Энни: как она сидит, выпрямив спину, на стуле, отодвинутом от общего стола. Энни не напивалась, не улыбалась, а Мира не могла остановить ничего из происходящего.
Энни пробыла на вечеринке недолго.
* * *
В последовавшие несколько недель с каждой случайной встречей Миры и Энни у них внутри что-то расширялось. Что-то распахивалось в грудной клетке Миры – портал к Энни и ее раскрытой груди, ширившейся в направлении Миры. Такого расширения Мира никогда раньше не ощущала и не знала, что так бывает. Словно вагина растягивалась, чтобы вместить очень большой член, но только это растяжение происходило у нее где-то в грудной клетке, в той части ее существа, которая не подпускала к себе любовь и рьяно охраняла свое нутро. Так она привыкла жить, плотно запечатав эту часть себя. Но теперь она раскрывалась слишком широко, и то же самое происходило с Энни.
* * *
Что можно сказать о силе наших связей с одними людьми и слабости наших связей с другими? Когда она впервые увидела Энни, что-то в Мире узнало ее. Будто бы их отношения уже существовали раньше. Такого не происходило с большинством остальных людей. Как раз несомненное предсуществование Энни, которому, казалось, нет объяснения, отличало ее от остальных. Мире казалось странной мысль о том, что для других людей Энни была лишь случайной прохожей на улице, вообще никем.
Когда в твоей жизни присутствуют всего несколько людей, в эмоциональной сфере происходит слишком много всего: больше разумного предела переживаний, учитывая, как мало событий происходит в действительности. Люди такого склада, в отличие от всех прочих, загораются переживаниями очень глубоко внутри. Возгорание такого рода всегда случается с ними в самое первое мгновение встречи и никогда уже не угасает. Никакие мелочи не потушат этот огонь, так что даже если эти двое никогда больше не встретятся, их связь не оборвется. Такие чувства Мира испытывала к Энни. Дело не в том, что Мира встречала Энни в одной из прошлых жизней. Дело в том, что они встретились в этой – не чудо ли? Почему же так сложно встретиться в этой жизни?
Но оставался и еще более глубокий вопрос: что же делать тогда с такими людьми? Спать с ними, любить их или оставить в покое? При этом они будто сами взывали о том, чтобы с ними что-нибудь сделали. Мира это чувствовала. Но ведь так можно было стать в их жизни источником неудобства. Что же ей оставалось делать в связи с тем, что она ощущала расширение в сторону Энни? И всё же какое-то действие в ответ на это ощущение вполне могло обернуться конфузом, ведь Мира не знала, ощущала ли Энни внутренний зов присутствовать в жизни Миры. Конечно же, не все, к кому влекло Миру, считали, что вся их жизнь была завязана на встрече с ней.
В таких случаях винить чаще всего нужно богов. Они незаметно проникают в человека, как микробы, и из него наблюдают за другим – тем, которого выбрали для наблюдений. Так что из Энни боги наблюдали за Мирой, а из Миры они наблюдали за Энни. Не всегда это происходит так взаимно, но в их случае всё было именно так: просто боги смотрели на людей и делали заметки, чтобы улучшить нас в следующей версии мира. Мира, которая ни о чем таком не догадывалась, гадала, отчего возникли такие глубокие чувства: почему из всех людей на земле – Энни? Почему она без конца помимо своей воли думает об Энни?
Каждый раз, когда они бросали друг на друга взгляд или хоть немного думали друг о друге, их грудная клетка становилась еще чуть шире. Они подмечали друг в друге скрытые черты, сами того не желая. Всё происходило будто бы само собой – воздвижение моста, по которому между ними могло что-то передаваться. Не обязательно что-то сексуального характера или что-то интимное, просто что-то, о чем мы пока не знаем. Между ними прокладывалась дорога, но движение по ней еще не было запущено. Над ней трудились какие-то рабочие – это были боги – и работа велась ох как споро! Они всегда работают так быстро, гораздо быстрее, чем могут себе представить люди. Мира была в тревоге и смятении: за несколько кратких встреч между ней и Энни не произошло ничего значительного, что могло бы объяснить такую основательную дорогу. Это был весьма болезненный опыт, будто грудную клетку Миры разрезали надвое, чтобы руки рабочих могли добраться до ее сердца. И после этого она уже не могла отрицать существование дороги, прокладываемой между ними прямиком в самый потаенный закуток ее грудной клетки, обычно непроницаемой, а теперь распахнутой настежь; и даже если ни одна из них пока не была готова пройти по этой дороге, уже сложно было представить, что вскоре они не двинутся по ней навстречу друг другу.
* * *
Энни выросла в детском приюте в далеком городе в Америке, поэтому Мира и ее друзья считали ее особенной: приехать из такой на редкость унылой страны, да еще никогда не знать своих родителей! Она рассказывала им истории из приютской жизни, о том, чем занимались сироты: о пении и танцах, о шалостях и слезах; о том, как они приникали к открытому окну и смотрели на свой огромный сверкающий город, гадая, где сейчас их родители, помнят ли они ребенка, которого оставили, богаты ли они, красивы или добры.
Сиротство делало ее лучше в их глазах – это они признавали единогласно. Также лучше ее делало американское происхождение. Она пробовала конфеты, о которых им только доводилось слыхивать: «„Майк и Айк“. Какие они были на вкус?» Каково это – не знать, откуда ты родом и почему родители от тебя отказались?
Они не могли себе вообразить, какой была ее жизнь. Они мечтали быть такими, как Энни: такими независимыми, такими свободными. В том, чтобы вырасти без родителей, было что-то романтическое, но мысль об этом казалась им пугающей. Другой жизни, кроме как с матерью и отцом, они не знали, пусть даже теперь они не жили с родителями. Даже если никогда не звонили им по телефону, над ними всегда был раскрыт зонтик на случай дождя. Конечно, они могли и промокнуть, если хотели, но если им хотелось остаться сухими, их родители пришли бы на помощь. Они не знали, что именно в этом коренится их отвага или что их воображаемый бунт – поступок не смелее вечерней прогулки по хорошо освещенной улице. Они в любой момент могли вернуться домой, если б им того захотелось. У них были любящие родители. У Миры был отец, который любил ее так сильно, что не любил почти никого больше. А у Энни никого не было, она была совершенно одна. Вот почему они к ней так тянулись. Мира и ее друзья глубоко ею восхищались. Она была тем, кем они только притворялись.
* * *
Наверное, Мире не стоило покидать дом в столь юном возрасте, ведь с ее отъездом что-то резко изменилось. Он означал, что она оставляет в прошлом привычные согревающие ценности, – но ради чего? Ради трудной жизни на острие чувств, ведь именно это означала карьера арт-критика: существование вплотную прижатой к острому лезвию жизни.
* * *
Когда Мира думала о доме, в первую очередь она думала об отце, о том, как сильно он хотел, чтобы она оставалась рядом. Он поддерживал ее в решении уйти в большой мир, но сам хотел бы, чтобы она осталась с ним дома. Она всегда ощущала его присутствие, зовущее ее вернуться, и так и не смогла отделить ни один из своих поступков от той радости или боли, которую они, как она боялась, могли ему причинить, – от своего всепоглощающего предчувствия то одного, то другого исхода.
В детстве всё между ними было золотым и зеленым: он всегда указывал ей на красоту мира, его величие и тайну, и благодаря его вниманию она ощущала, что ее любят и лелеют.
Однажды солнечным днем, когда Мира с отцом стояли в саду, он пообещал ей, что когда-нибудь купит ей всевозможные загадочные, редкие и чудесные диковины, в том числе чистый цвет – не что-то окрашенное в цвет, а сам цвет! Цвет сам по себе выпускали в твердых циркулярных дисках, они блестели, как полированные драгоценные камни, но только цвет в них сидел глубоко. Его было видно на поверхности, ведь кроме поверхности у них ничего и не было. Но в отличие от драгоценных камней, они не излучали цвет. Цвет сидел в них, обращенный внутрь. Чистый цвет интровертен, как робкий зверек. Мира никогда раньше не видела чистый цвет, но, как она предполагала, ее отец знал много всего и много всего мог ей показать, и дать ей, кроме этих дисков.
* * *
По мере того как она взрослела, Мире становилось всё сложнее любить отца в нужных пропорциях и вообще понять, какими эти пропорции должны быть; любой интерес, который возникал у нее к другим людям, ощущался, как будто она что-то у него отнимает, ведь ему некого было больше любить, кроме Миры. В целом ей нравилось проводить с ним время, но что-то всё время мешало. Жар его меха преследовал ее повсюду – неотвязный и зудящий, но при этом дающий утешение, ощущение дома.
Поэтому Мира мечтала окунуться в ледяную ванну жизни, раз уж она выбралась в большой мир одна, без него. Было сложно находиться в такой близости с самым медвежастым из медведей, и любой, кто приближался к Мире с похожей всепоглощающей любовью, тут же повергал ее в ужас. Ее больше влекло к рыбам, демократично делившим свою любовь между людьми поровну. Словом, перегревшаяся Мира отправилась искать холодильник. Ей хотелось любви, которая бы ее остудила, снизила температуру до нормальной. Она мечтала, чтобы ее заключили в объятия самые холодные на свете руки. Если бы ее любили, согревая, то, как опасалась Мира, она бы слишком разгорячилась, чтобы иметь дело с искусством, помогать ему пройти сквозь века.
* * *
Мира не собиралась целовать Энни в шею сзади так чувственно, когда они впервые оказались наедине вне дома. Они стояли в дверях книжного магазина со стороны улицы. Вдруг на Миру что-то нашло. Она стала целовать Энни в шею, потом услышала, как Энни затаила дыхание, и тогда продолжила поцелуй еще на миг и затем остановилась. Впервые в жизни она потеряла самообладание от чувств, это была страсть, но также и какая-то внезапная разновидность любви. Она всего лишь хотела откинуть в сторону прядь волос Энни и запечатлеть на ее шее легкий поцелуй. В те времена Мира была непритязательной и ей хватило бы и такого – но, когда она коснулась губами шеи, запах Энни заставил ее задержаться, прижавшись к ее горячей коже. И поэтому она целовала ее чуть дольше, мягко смыкая губы на ее шее, и в это время в воздухе вокруг Миры установилось такое безмолвие, какого она в жизни не ощущала. Эта тишина была и тишиной в ее сердце.
В Энни было нечто такое, какая-то внутренняя сила, которую Мира не замечала, пока не поцеловала ее. В тот момент она осознала, что попала под действие какого-то заклятья, и ей показалось, что она поняла, почему мужчины веками зачастую испытывали перед женщинами страх, считая, что те обладают потусторонней силой, которую необходимо обуздывать. Мире вдруг пришло на ум всё то, что она может сделать с Энни, всё, что она хотела бы совершить, пойдя на поводу у чувств без единой мысли – с такой же пустотой в голове, какую она ощущала, целуя Энни, – и она была уверена, что могла бы продолжать проделывать это с еще более отдаленными частями ее тела и сердца. Она видела, как между ними разворачиваются будущие события, и хотя она пыталась сопротивляться этому видению, никогда раньше будущее не представало перед ней с такой убедительной ясностью.
* * *
В последующие несколько недель Энни не говорила о том, что произошло, а поскольку Мира была юна и склонна испытывать стыд, они никогда больше об этом не говорили.
* * *
Фекалии, черви, моча, беда. Вот во что мы превратились. Наш маскарад завел нас в тупик; наши манеры нас не спасли. Влюбленность оказалась лишь фантазией о мире, который не полностью состоит из мочи и грязи. Но какие фантазии пробуждало лицо Энни! Некоторые книги рекомендуют держаться от таких женщин подальше, согласно другим, именно такую женщину должно любить.
Человек может спустить всю свою жизнь коту под хвост, сам того не ведая, а всё потому, что у другого человека великолепное лицо. Подумал ли об этом Бог, когда творил мироздание? Почему он не сотворил всех людей с абсолютно одинаковыми лицами? Может быть, в следующей версии мира так и будет, и люди, которые будут жить в нем, даже представить себе не смогут, что когда-то существовал черновик, в котором у всех были разные лица. Хотя сама мысль об этом может вызывать у них отвращение, она не заставит их задуматься о том, как много времени мы тратили впустую из-за различия наших лиц. Они не подумают о том, как из-за некоторых лиц рушились жизни тех, у кого лица были менее красивые, или как красивое лицо могло разрушить жизнь своего обладателя.
Но разве, в конце концов, всё не складывается как-нибудь, вне зависимости от того, какое у тебя лицо? Да, люди с ужасными лицами могут жить прекрасной жизнью, а люди с красивыми лицами – утащить тебя на дно всех ужасов мира. Однако в следующей версии мира людям будет не понять, как красивое лицо одного человека могло погрузить другого в пучину несчастья.
Несколько месяцев спустя Энни вложила свой фотопортрет, собственноручно проявленный в лаборатории в центре города, в книгу, которую она одолжила у Миры и теперь собиралась вернуть. Мира нашла фотографию только несколькими годами позже: открыла книгу и вдруг обнаружила неожиданное доказательство благосклонности Энни. Или, возможно, Энни просто случайно забыла фото в книге? Может, она пользовалась им как закладкой? Но нет, когда она перевернула фотографию, на обороте она увидела два слова, написанные неровным почерком Энни: «Для Миры».
Почему Энни, вернув книгу, в последующие несколько недель не сказала Мире: «Надеюсь, ты нашла мою фотографию?» Потому что Энни никогда бы такого не сказала. Она была слишком гордой и испытала в жизни слишком много отчаяния, чтобы сказать кому-то: «Ты нашла мою фотографию?» Мира не слишком задумывалась о том, что говорит, и могла запросто сказать кому угодно: «Ты нашла мою фотографию?», – но Энни была слишком холодной и слишком глубоко травмированной, чтобы произнести эти слова.
Опыт сиротства был первым, с чем Энни столкнулась в своей жизни, поэтому, возможно, она чувствовала, что обречена его повторять: присутствовать, оставаясь незамеченной. Настоящее часто подражает прошлому, как утенок следует за мамой-уткой – и разве кому-нибудь когда-либо удавалось убедить ребяческое настоящее не следовать за мамой-уткой прошлого? Так что вместо того чтобы вручить Мире фотографию, она оставила ее там, где ее не заметят.
* * *
Прошло еще время, шли месяцы, появилось какое-то провисание, будто сезон подходил к концу. Можно было ощутить запах этого гниющего конца. Так в конце лета в воздухе уже чувствуется запах осени, исходящий от листьев. И так же в конце осени уже чувствуется запах зимы, мороз, сковывающий землю.
Мэтти почувствовал это первым. Ему приглянулась женщина с широкими бедрами, во всем непохожая на них, и он пошел и женился на ней, оставив остальных.
Вскоре они стали выпивать в разных кафе, обменялись несколькими письмами, потом прекратили переписку. Все они восприняли это как знак: достаточно было того, чтобы Мэтти влюбился и женился, и их мир тут же ослаб и распался.
* * *
Вот так всё и было, если оглянуться назад. Мире следовало приобрести новый термос, чтобы всё это туда сложить, ведь тот, что был у нее, не мог сберечь тепла воспоминаний.
По мере того как прошлое остывало, оно меняло агрегатное состояние. Когда-то оно было твердым, потом стало газообразным. А может, сначала оно было газом, потом стало жидкостью, и в руках у Миры осталась одна мутная жижа. И она подумала: «Всё то время, всё то глупое время, я должна была оставаться с отцом».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































