Читать книгу "Чистый цвет"
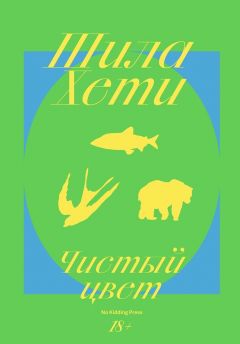
Автор книги: Шейла Хети
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Шила Хети
Чистый цвет
PURE COLOUR © 2022 by Sheila Heti
© Софья Абашева, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке. No Kidding Press, 2023
1
Завершив творение небес и земли, Бог сделал шаг назад, как художник отступает от холста, чтобы взглянуть на свое произведение.
В это самое мгновение мы и живем: пока Бог стоит в стороне. Кто знает, сколько это уже продолжается? По всей видимости, с начала времен. Но сколько это времени? И как долго это будет длиться?
Можно подумать, что прошел всего миг с тех пор, как Бог сделал шаг назад, чтобы снова приняться за дело и завершить работу, но кажется, будто эта пауза длится вечно. Кто знает, насколько долгим или коротким кажется существование нашего мира из точки схождения вечности?
* * *
И вот, земля нагревается в преддверии своего разрушения Богом, решившим, что первый набросок мироздания содержит слишком много изъянов.
Готовый взяться за творение заново, надеясь на этот раз сделать всё как следует, Бог нисходит, разделяется и является в небе в виде трех критиков: огромной птицы, критикующей сверху, огромной рыбы, критикующей посередине, и огромного медведя, что критикует творение, убаюкивая его в своих лапах.
* * *
Люди, рожденные из птичьего яйца, любят красоту, порядок, гармонию и смысл. Они смотрят на природу с большой высоты, очень абстрактно, и рассматривают мир как будто бы издали. Такие люди словно птицы в небе: стремительные, хрупкие и сильные.
Люди, рожденные из рыбьего яйца, появляются на свет в студенистой массе, состоящей из сотен тысяч таких же икринок, где самое важное не отдельно взятая икринка, а то, как живет большинство. Рыбу волнует не икринка сама по себе, а то, как бы отложить икру в наилучших условиях, при самой подходящей температуре, там, где не так ощутимо течение, чтобы могла выжить бо́льшая часть ее потомства. Для рыб решающее значение имеют коллективные условия. Человека, произошедшего из икринки, заботит справедливость на земле: чтобы человечество обеспечило правильную температуру для большинства. Рыбу волнует судьба тысячи икринок, в то время как медведь сжимает в объятиях кого-то одного так крепко, как только может.
Человек, рожденный из медвежьего яйца, похож на ребенка, вцепившегося в лучшую свою игрушку. Мышлению медведей чужда прагматичность, они не пожертвуют любимыми ради высшей цели. Они целиком поглощены заботой о своих. Своими – теми, кого надлежит любить и защищать, – медведи считают немногих и в выборе своем не испытывают затруднений; они обращаются к тем, кого могут обнюхать и потрогать.
Люди, рожденные из этих трех разных яиц, никогда не поймут друг друга полностью. Они всегда будут думать, что рожденные из другого яйца ошиблись в расстановке приоритетов. Но, с точки зрения Бога, рыбы, птицы и медведи равно важны, и мир не стал бы лучше, если в нем были бы одни только рыбы, и он не стал бы лучше, если в нем были бы одни медведи. Богу нужно, чтобы творение критиковали все трое. Но здесь, на земле, в это сложно поверить: рыбы находят заботы птиц пустыми, а птиц раздражает критика рыб. Ничто так не принижает дело жизни человека – или его самого, – как суждения, исходящие от кого-то из другого яйца.
Однако птицам следует быть благодарными за то, что кто-то занимается структурной критикой вместо них. А рыбам следует быть благодарными за то, что кто-то занимается эстетической критикой, так что они могут сосредоточиться на структурной.
* * *
Бог гордится своим творением в первую очередь с точки зрения эстетики. Достаточно лишь взглянуть на безупречную гармонию неба и деревьев, луны и звезд, чтобы увидеть, как здорово у Бога всё получилось – с эстетической точки зрения. Поэтому рожденные из птичьего яйца благодарны ему больше всех остальных. Те, кто родился из икринки, больше всех огорчены, да и те, кто появился из медвежьего яйца, тоже не слишком довольны.
Пожалуй, не стоит Богу задумывать свое творение как произведение искусства в следующий раз. Тогда он лучше справится с такими свойствами нашего существования, как справедливость и близость. Но возможно ли это вообще – чтобы художник придал своему порыву форму, которая, в конце концов, не является формой искусства?
* * *
В этой истории речь пойдет о женщине-птице по имени Мира, которая разрывается между любовью к загадочной Энни, по мнению Миры, холодной рыбе, и любовью к своему отцу, представляющемуся ей теплым медведем.
* * *
Сердце художника пустовато. Кости художника пустотелые. Мозг художника пустоват. Благодаря этому он может летать. Тем, кто появился не из птичьего яйца, невдомек, почему именно птицам – мысли которых всегда только о них самих – было суждено подарить этому миру метафоры, изображения и истории. Почему именно птицам выпала эта доля?
Птица может научиться ступать по земле, как медведь, и может даже провести на земле всю свою жизнь, но так она никогда не будет счастлива. В то же время рыба на берегу задыхается и стремится немедленно вернуться в море.
* * *
Как бы Мире хотелось родиться из медвежьего яйца! Как бы ей хотелось стать посланником простой и несокрушимой любви здесь, внизу, на земле. Однако каждый раз, когда она решается на такую жизнь, как бы она ни старалась, ей это не удается. Любить кого-то глубоко и основательно – вот самая неуверенная, самая несуразная и самая рассеянная ее часть, вечный источник ошибок.
И всё же ей не стоит сокрушаться о том, что она рождена птицей, ведь как прекрасны цветы у нее на окне – цветы на подоконнике, вон там. Их лепестки и листья вызывают у каждого прохожего улыбку при мысли, что кто-то любит красоту и заботится о них. Ее цветы заставляют задуматься о цветах в душе человека, поставивших их на окно. Именно цветы души того человека, что поставил их на окно, делают нас счастливыми и согревают сердце. Красота цветов – намек на красоту человеческого сердца. Это глазок, позволяющий заглянуть в человеческое сердце.
Так и добрый поступок рыбы, даже самый незначительный, но добросовестно выполненный, – это глазок в человеческое сердце. Заглянув в одно сердце, видишь многие. И надежды медведя разделяет всё человечество. А то, что открывает одно сердце, откроет многие.
* * *
Мира покинула родной дом. Она нашла работу в магазине настольных ламп. В магазине продавались лампы Тиффани и другие лампы из цветного стекла. Каждая лампа стоила целое состояние. Самая недорогая из них стоила четыреста долларов. Столько составляла зарплата Миры за месяц. Каждый вечер, прежде чем закрыть магазин на ночь, Мира должна была выключить все-все лампы. На это у нее уходило примерно одиннадцать минут. Чаще всего, чтобы выключить лампу, нужно было потянуть короткую цепочку бусин. Тянуть следовало с осторожностью, чтобы бусины не ударили рикошетом по лампочке или абажуру. Мира тянула за цепочки с нежной осторожностью. Это была утомительная работа. Мире никогда не выпадали утренние смены. Ее сменщику приходилось лампы включать. Та работа была ничуть не легче.
Через дорогу был еще один магазин осветительных приборов. Там, где работала Мира, продавались только настольные лампы, а в другом магазине можно было найти всевозможные устройства и даже потолочные светильники с вентиляторами – очень современные осветительные приборы по сравнению с их старомодными лампами. Покупатели предпочитали магазин напротив. У владельца магазина, где работала Мира, клиентов едва хватало, чтобы бизнес оставался на плаву, потому что бо́льшая часть семейных пар отправлялась в магазин через дорогу и тратила деньги на модернистские белые лампы и сероватые лампы из переработанного пластика. Сослуживцам Миры становилось жаль себя, и они говорили, что у тех покупателей нет вкуса. Когда приходило время закрывать магазин, Мира наблюдала, как сухощавый сотрудник магазина через дорогу выключал все до единого светильники, один за другим. У них была одна на двоих ночная обязанность. Мире казалось, что никто ее не понимал на всем белом свете, но, быть может, понимал тот человек напротив? И всё же, стесняясь их сходства, она старалась не встречаться с ним взглядом.
В те времена ей было очень одиноко. Но не то чтобы это было плохо. Лишь с возрастом все вокруг начинают на тебя давить по поводу одиночества или намекают, что проводить время с другими людьми будто бы лучше, чем одной, потому что это доказывает, что ты симпатичная.
Однако Мира оставалась одна не потому, что была несимпатичной. В одиночестве ей были лучше слышны ее мысли. Она оставалась одна, чтобы слышать, как живет.
* * *
Как же тогда Мира нашла работу в магазине настольных ламп? Должно быть, она просто шла мимо и увидела объявление. Как люди находили работу раньше, еще до того, как все стали знать, чего хотят другие? С помощью бумажных объявлений.
Как она нашла комнату, в которой жила? Наверное, ей попался клочок бумаги, приклеенный где-то на скотч или приколотый к пробковой доске в кафе на углу. В доме было две спальни на втором этаже и общая ванная. На первом этаже была просторная квартира, которую занимал светловолосый гей: однажды ночью он вернулся домой весь в крови и синяках. Мира случайно столкнулась с ним на лестнице, и он отвернулся, дрожа от гнева.
На ее этаже жил одинокий мужчина лет на десять старше, его она видела всего пару раз. Он был молчалив и застенчив. В общей ванной комнате ванна была грязная, поэтому она никогда ее не принимала и редко ходила в душ. Поскольку мужчина готовил себе ужины на кухне, она купила себе в комнату электроплитку.
К ее спальне прилегала продуваемая насквозь терраса; ее стены были обшиты досками, а оконные рамы со всех трех сторон слегка покосились. Было бы очень приятно сидеть на террасе, если бы погода была получше. Но когда Мира въехала, была осень, а уже ранней весной она выехала. Все книги, что у нее были, она хранила на полке в той промозглой клетушке. Когда настало время переезда, она открыла дверь, чтобы собрать книги, и обнаружила, что обложки все вылиняли, а страницы пошли волнами от сырости и пробирающих до костей зимних холодов.
* * *
Мира поступила в колледж. Ее приняли в Американскую академию американских критиков, в один из ее международных филиалов. Поступление далось Мире непросто. Туда подавали заявление все, кто хотел стать критиком. Набор на курс каждый год был совсем не большим, и все, кому удавалось поступить с первого раза, этим хвастали. Сам факт того, что тебя приняли, накладывал на личность и мышление определенный отпечаток. Зачисление означало, что ты особенный, намного лучше прочих.
В академии было просторное помещение со столами, по форме напоминавшее пирамиду: столы были дешевые, из переработанного пластика, а стены лоснились, закопченные сигаретным дымом. Там-то студенты в основном и зависали. В одной из стен было окошко, в котором продавались круассаны и чай, а работников там, за стеной, почти никогда не было видно.
Студенты забирались на столы и с пафосом ораторствовали. Они делали заявления, а затем громко хохотали – это было единственное место во всем здании, где они выступали не перед своими преподавателями. Единственное место, где они чувствовали себя свободно. Они чуть не лопались от чванства! Им казалось важным обкатывать свои пророческие речи на публике. Они знали, что нужно выработать собственный стиль письма и мышления, который пережил бы века и в то же время метко попадал в сердца их современников. Вот зачем они сюда пришли – они, избранные. Они верили, что будущее будет кроиться точно по лекалам, которые им предстоит создать. Важно было знать, что́ ты думаешь по тому или иному поводу, в каком, по твоему мнению, мире ты живешь, и каким, по твоему мнению, он должен быть.
* * *
Они просто не учли, что в будущем они будут ходить со смартфонами в руках, из которых куда более харизматичные люди будут лить нескончаемый поток слов и изображений. Им и в голову не могло прийти, что мир станет таким огромным, а конкуренция – такой жесткой.
Они ели круассаны и пили травяной чай. Они курили травку и шли на пары под кайфом. Занятий было немного, да и те предметы, что им преподавали, были бесполезны и давно устарели.
Каждое утро на цокольном этаже колледжа проходили обязательные уроки тай-чи. Занятия вел тренер за пятьдесят, сухощавый и бодрый. Посыл был такой: если заниматься тай-чи каждое утро всю оставшуюся жизнь, станешь таким же энергичным и ловким, как он. Занятия посещали все, кроме Мэтти: он считал, что критику не обязательно знать тай-чи. Сам факт, что эти занятия стоят в расписании, приводил его в ярость! Он считал, что им следовало бы спать подольше. При поступлении ему никто не сказал, что заниматься тай-чи каждый день в восемь утра – святая обязанность каждого студента. Если б он знал, не подавал бы сюда документы. Это ему решать, хочет он двигать своим телом или нет, и никого, кроме него самого, это не касается. Хотя все остальные студенты были с ним согласны, на тай-чи они всё равно ходили.
* * *
Мира провела в колледже всего пару дней, когда впервые встретила Мэтти: он возвращался с озера, где купался голышом. Увидев ее, он кивнул. Она увидела его, кивнула в ответ и сразу отвела глаза. Мэтти был высокий и крупный, его пенис свисал низко, мошонка была красной, всё тело покрыто волосами, челка свисала на лицо, губы были пухлые, а глаза – красные от воды, и он медленно перевел на нее взгляд и медленно протянул руку, и Мира просто надеялась, что больше никогда его не встретит, пока учится в этом колледже.
* * *
Пожилой профессор, Альберт Вольф, стоял перед экраном, на который был спроецирован слайд с живописным изображением спаржи. Из поисков того, чего он не мог увидеть, профессор сделал целое шоу для студентов, обступивших его в затемненной аудитории. Профессор объяснял, что мир по-прежнему переживает модное увлечение Мане, но вскоре все одумаются и согласятся с ним во мнении:
«Эдуард Мане – любопытная фигура. У него как у художника было прекрасное видение, но никудышная рука. Фея-крестная, присутствовавшая при его рождении, одарила его начальными художественными способностями, но вскоре к его колыбели подошла злая колдунья и сказала: „Дитя, ты никогда не достигнешь высот в живописи. Данной мне силой я лишаю тебя всех качеств истинного мастера“».
Мира стояла, прислонясь к стене, и ощущала в грудной клетке изысканный трепет, как будто что-то проникло в нее и вот-вот должно было оттуда выпорхнуть. Но уже через секунду ее бросило в жар от стыда, потому что чувства, которые вызывала у нее картина, никак не соответствовали тому, что говорил о ней Альберт Вольф. Он говорил, что в картине присутствуют некоторые признаки настоящего искусства, но чего-то ей всё же не хватает, не хватает главного, искры, которая высвечивает нечто большее, чем есть на холсте.
«Картина висит перед зрителем, и она настолько же безыскусна и бессмысленна, как и стоящий перед ней субъект. Глядя на нее, не преисполнишься достоинством и не возвысишься ни в каком отношении. Стоя перед этой картиной, я не стану думать о себе как о человеке лучше, чем когда я смотрю на кирпичную стену. Я думаю: „Человечество с самого начала обречено на поражение, у нас нет никаких шансов“. Однако же искусство должно внушать нам противоположное чувство: что, дерзая, человек обретает крылья! Картина должна вызывать в нас полет духа, но картина вроде той, что перед нами, лишена крыльев. У нас даже создается впечатление, что крылья и не нужны вовсе. Спаржа ложится камнем на душу и глумится над нашими духовными притязаниями. Но духовность – это не притязание! Нет никакой разницы между духовностью и песней, а песня в душе у Мане – всё равно, что вой сирены. Нам до́лжно испытывать жалость к этому исступленному, вечно ищущему художнику-подмастерью, которому не хватает самого главного, а он об этом даже не догадывается. Он бы догадался, стоило ему встать перед своей картиной в любом музее, посмотреть направо, налево и увидеть, что работы величайших художников заставляют воспарить духом, а потом снова посмотреть на свою картину: размытую, торопливо, грубо написанную, бездуховную, не сулящую никакого полета. Как он мог этого не видеть? Он что, слепой? Или зрение его, должно быть, никак не связано с рукой. За чем обращаются люди к искусству, как не за помощью: найти в себе тот обращенный внутрь взор, наделяющий значением всё сущее; ведь что есть искусство, как не акт наполнения материи – холста – дыханием божьим? Художник, неспособный на это, пишет лишенные жизни неуместные формы. Совершенно очевидно, почему над ним смеялись критики: потому что они недоумевали, не увидев того, что мы имеем полное право видеть! Как человек наряжается, выходя из дома, так и искусство должно наряжаться. Но живопись Мане голая, обнаженная – не только в отношении его смехотворного предмета изображения, но и в религиозном смысле тоже».
«Художник сознает себя как художник исходя из того, в каких отношениях он находится с собственной искренностью, – сказал Мэтти. – Нет ли у Мане некоторой неловкости, когда он пишет, – понимания, что ему не хватает главного?» Мэтти стоял, лениво покуривая сигарету; он был великолепен, надежда всего колледжа.
Вольф кивнул. «Великие художники покойно отдыхают в мягком кресле своего таланта, словно почивают в ласковой ладони Бога. Но Эдуард Мане не таков: талант не дает ему покоя, и он совершенно не чувствует, как спотыкается. Он словно пес на трех лапах, считающий, что ничем не отличается от тех, что бегают на всех четырех! Он хочет, чтобы зрители делали за него всю работу. Они просто должны ощутить одухотворенность. Он просит зрителей завершить его картину – ведь сам он ленив и неспособен. Должно быть, он был глубоко недоволен собой, работая над полотном, силясь исправить то, что уже не спасти. Поэтому он пишет второпях, не желая видеть, что творит. Вот почему в его живописи такой беспорядок. Нет у него в душе золотого компаса, поэтому его видение хаотично. И любой заметит зависть в его сердце: но сам он не знает, чему завидовать у других художников! Неспособный разглядеть красоту, он прячется за уродством, которое он зовет красотой, и его полотна выходят постыдными – вот критики и стыдят его, ведь он заставляет нас испытывать стыд. Потом он продолжает писать свои совершенно ничего не значащие картины и в ответ винит критиков в наших „прегрешениях“».
* * *
Как велико число способов ненавидеть и как велико число тех, кто может вас ненавидеть! Вначале, юные и наивные, мы вовсе не понимали, насколько сильно нас могут ненавидеть те, кто, как нам казалось, нас полюбит, или те, кому, как мы думали, всё равно. Но в мире было гораздо больше ненависти, чем любой из нас мог себе представить. Ненависть, казалось, брала начало в самых глубоких слоях нашего естества. Годы спустя достаточно было всего лишь одним глазком взглянуть через щелку – и вот же она, на всеобщем обозрении: целый мир злобы, без конца и края. Будто мы целиком состояли из ярости.
А как же иначе? Нам не суждено было стать счастливыми. Нам не дано было заполучить той любви, которую мы рисовали в своих мечтах. Работа, которая бы заняла сердце и разум навсегда, тоже была не для нас. Мы бы никогда не заработали тех денег, которые надеялись заработать. Ничто не могло сложиться так, как нам того хотелось, здесь, в самом первом черновом наброске жизни. Люди, наконец, начали понимать. Наша ярость была совершенно закономерна.
По крайней мере, Бог даровал восход солнца – тем из нас, кто жил на скале. По крайней мере, он дал нам немножко любви, пусть ее и не хватает на всю жизнь. В этом первом черновике мира мы работали над собственными вторыми редакциями: рассказами, книгами, фильмами и пьесами, – шлифовали свои камешки, чтобы показать Богу и друг другу, какой хотим видеть следующую версию мира, утешаясь своими прожектами. В хорошие дни мы признавали, что Бог справился весьма неплохо: он даровал нам жизнь и заполнил почти все пустоты бытия, за исключением пустоты в сердце.
* * *
Правда, мир не справлялся с одной своей задачей – оставаться миром. От него отламывались куски. Сезоны стали постмодернистскими. Мы больше не могли определить время года по погоде за окном. Когда-то мы считали, что две тысячи лет назад – это очень далекое прошлое, но потом осознали, что на самом деле это было совсем недавно, всего за тридцать поколений до нас. Мы по-прежнему находились на этапе совершенствования орудий труда: бронзовый век, железный век, индустриальная эпоха, век компьютеров. Но в духовном плане это была одна и та же эпоха. Разбитое сердце не стало причинять меньше боли. Вожделение не стало менее страстным. Мы остались такими же гордецами, завистниками и трусами, какими были всегда. Мы теперь могли ненадолго залечивать чувства, и психотерапия научила нас притворяться, что мы лучше, чем есть на самом деле. Притворяясь, можно куда-то продвинуться, но далеко на притворстве не уедешь.
Льды таяли. Виды вымирали. Дожигались последние запасы ископаемого топлива. Человек на улице мог внезапно упасть и умереть по дюжине разных причин. Каждый день появлялись новые.
Мы всё время злились. Мы всё время завидовали. Мы радовались, что за нами наблюдают такие же злые и завистливые люди, как мы. Некоторые боялись, что они отстанут от времени. Они отвернулись от культуры и наслаждались жизнью, проводя свои дни так, как делали это испокон веков: от восхода солнца утром и до заката вечером. Нам было любопытно, каким будет новый мир, но мы испытывали облегчение оттого, что его проблемы нас не коснутся. Некоторые испытывали своего рода блаженный покой, став очень маленькими, очень ничтожными и незначительными перед лицом хаоса и перемен. И всё же посреди всего этого по-прежнему можно было обнаружить книги на полках: книги, которым сотни – или тысячи! – лет, и они до сих пор не утратили актуальность. Но ни одна из книг, написанных двадцать лет назад, больше не имела ни малейшего отношения к действительности.
Как же книгам удается пережить эту неловкую стадию: через двадцать лет она уже устарела, но всё равно еще недостаточно стара, чтобы стать чем-то естественным, частью человеческой цивилизации, такой же прочной и неизменной, как дерево. Стать деревом – в случае книги – главное ее чаяние. Но как это происходит? И почему это происходит с одними книгами, а с другими нет? Кто отвечает за то, чтобы проводить книги по этому пути, а кто просто переоделся проводником? Кто же на самом деле проводит книгу через эти неловкие, неважные годы, сквозь цивилизации?
Для того чтобы дать искусству восторжествовать, необходимо хладнокровие и трезвый ум. У истинного проводника книг самая трезвая голова и самое холодное сердце, которое согреют только книги и слова. Тех, кто лишь переодет проводником, можно вычислить по их горячности. Они ждут, что искусство их согреет, и с досадой отпрыгивают, обжегшись. Но искусство хранится в сердцах изо льда. Только людям с ледяным сердцем и ледяными руками хватит хладнокровия, чтобы справиться с задачей поддержания искусства свежим на века, сохранив его в морозильных камерах своих умов и сердец. Ведь искусство творится не для живого тела, а для холодной, вечной души.
* * *
Мира сидела в магазине настольных ламп, и взгляд ее был прикован к одной особенной лампе. Абажур составляли выпуклые красные и зеленые капли, отполированные комочки цветного стекла, скрепленные вместе плетением из металлической проволоки. Абажур имел форму полуовала, его поддерживала изящная стойка из металла. Это была самая чудесная вещь, какую Мира когда-либо видела. Она дожидалась сумерек и тогда выключала все остальные лампы и смотрела на свою любимицу, разглядывая прозрачные стеклышки, подсвеченные изнутри. Она осторожно поворачивала абажур так, чтобы расцвеченные блики падали на стены и нее саму.
Поскольку любимая лампа Миры стоила дешевле остальных, не исключено, что однажды Мира могла бы стать ее владелицей, если только никто не купит лампу раньше. Возможно, то обстоятельство, что лампа была самой недорогой, и было причиной, по которой Мира ее полюбила. Нет смысла любить то, что тебе совершенно недоступно.
Именно скромность лампы делала ее такой притягательной в глазах Миры. Ее сделал не тот, кто имел хоть какое-то представление о том, каким человек хочет казаться другим, или считал, что люди покупают вещи, чтобы щеголять ими перед своими друзьями. Ее сделал не тот, кто воображал себе, что вещь может встроиться в обширную систему ценностей или поместить своего владельца в ряды тех, кто обладает схожим вкусом. Эту лампу сделал скромный мастер, который просто подумал: «А сейчас я сделаю свою следующую лампу».
Когда бы Мира ни заступала на смену, первым делом она всегда шла посмотреть, не продали ли ее лампу. Она всегда стояла на своем месте. Мира полагала, что ее босс догадывается, как сильно она ей нравится, хотя она ни разу о ней не спрашивала. Быть может, у каждого сотрудника в магазине была своя любимая лампа.
* * *
Однажды вечером все сидели в кафетерии колледжа и пили вечерний чай, когда вдруг вошел Мэтти и сказал, что только что встретил Энни. Конечно, они уже знали о ней, и их взбудоражило известие о том, что она и вправду существует. Где он ее отыскал? В парке, она сидела под деревом. Он увидел, как она сидит, склонившись над книгой, и сразу узнал. «С чего ты решил, что это была она?» Дело было в те далекие времена, когда негде было загуглить чьи-то фото. Мэтти ответил, что это было ясно как день.
«Ты с ней заговорил?» Ну конечно заговорил! Разве он мог упустить такой шанс? «И-и-и? Ты позвал ее на чай?» Он не позвал: это было бы пошло. Но он записал ее номер на задней обложке своей книги. Ладно, номер был не совсем ее, это номер книжного магазина, рядом с которым она жила. Они передавали ей сообщения. Мире отчаянно захотелось, чтобы именно она совершила заветный звонок, ведь она была уверена – как и все они, – что Энни изменит ее жизнь. Позже, когда Мира стала совсем чуть-чуть старше, она бы уже не осмелилась познакомиться с кем-то, кто, как ей казалось, может изменить ее жизнь. Она бы стала тревожиться, как будет выглядеть со стороны, или бояться, что поставит себя в неловкое положение. Но тогда она не задумывалась о себе как об отдельном человеке. Она не воспринимала себя как кого-то, кого другой человек может видеть, оценивать и, наконец, судить. Она просто хотела того, чего ей хотелось, и не задумывалась о том, как ее желания могут на ней отразиться.
Мэтти сказал: «Пойдем, позвоним ей прямо сейчас». Так они и поступили. Они отправились в коридор и позвонили по телефону в деревянной будке. Трубку взяла женщина. Мэтти сказал, что звонит Энни. Женщина ответила, что передаст сообщение. С отчаянием в глазах Мэтти оглянулся на остальных и прошептал, прикрыв трубку ладонью: «Какое у нас сообщение?» «Скажи ей, чтоб позвонила секретарю факультета и сказала, когда мы можем зайти», – ответила Мира. Он переспросил: «Кто это – „мы“?» – но продиктовал женщине слово в слово то, что подсказала Мира. Когда он повесил трубку, Мэтти и Мира немного повздорили. Он был расстроен: мол, то, что она заставила его сказать, прозвучало глупо и по-детски. «Что ты переживаешь? – спросила Мира. – Ясно же, что мы учимся в колледже». Они гулко зашагали по коридору в кабинет секретаря факультета и ввалились туда всей толпой. Мира сообщила секретарю, что скоро им позвонят, и не будет ли она так любезна записать сообщение и положить записку в ячейку Мэтти? На стене в коридоре у каждого студента была своя деревянная ячейка, куда складывали почту, записки и уведомления от администрации. Когда они вышли, Мира подбодрила Мэтти: «Видишь? Всё получилось». Мэтти скривил лицо. Затем они вернулись пить чай. Два часа спустя они снова пошли к ячейке Мэтти и обнаружили там записку от Энни. «Заходите в любой день после восьми вечера». Вот это триумф! Им точно всё было под силу. Всё происходившее в их жизни было тому подтверждением.
«Ну что ж, – решили они, – тогда пойдем к ней сейчас». Держать себя в руках они не умели и не хотели. Так что в восемь часов вечера они явились в книжный магазин и открыли стеклянную дверь в облицованный плиткой холл, откуда вела лестница в квартиру Энни. Будто бы они уже всё знали про этот мир: их знание об Энни уже включало в себя знание того, где она живет.
* * *
Энни жила в просторной квартире над магазином оккультных книг на Харборд-стрит в то время, когда все первые этажи на ней еще занимали антикварные магазинчики. По вентиляционным каналам к ней в квартиру поднимались запахи из магазина: благовоний, эфирных масел и старых пыльных кристаллов, выкопанных из недр земли, – темный запах с привкусом металла, похожий на запах свежеотчеканенных монет, и еще что-то от немолодых продавщиц, их землистой надушенной плоти. Одна из дверей вела в магазин оккультных книг, а другая – в квартиру Энни по узкой и темной лестнице.
В квартире Энни было пыльно и пахло крысиным пометом. Этот запах ни с чем не спутать. Ее квартира была пустым местом: две голые комнаты, одна при входе, другая в конце длинного коридора без окон – большая комната в глубине дома. Посредине между комнат были зажаты крошечная ванная и неудобная кухня. Они разбрелись по квартире, как только вошли, бесцеремонные, наивные, любопытные. Комната в глубине была еще более пустая и холодная. Возможно, когда-то она была симпатичной, уставленной растениями, так как в углу стоял стеллаж с пустыми глиняными горшками, которые Энни не удосужилась выбросить. В обеих комнатах было много окон, но когда они пришли в первый раз, был вечер и стекла лишь отражали их виноватые лица, а снаружи стояла влажная темнота. Старая духовка в кухне источала запах газа, но в те времена дурно пахло всё. Все их квартиры воняли. Но каждая – по-своему, и то, как пахла квартира, было источником некой личной гордости, будто твоя квартира – это твоя подмышка: ее запах привлекает тебя и создает чувство безопасности. В передней комнате стоял низкий кофейный столик и несколько просиженных стульев вдоль стен – их явно натащили сюда с улицы.
Внезапно Мира почувствовала неловкость оттого, что находилась там с одногруппниками. Она хотела выделиться, чтобы Энни узнала, что она лучшая, что она больше всех должна понравиться Энни. Как только они вошли, Мэтти манерно приподнял кепку перед Энни в знак приветствия. Наконец, они обосновались в передней комнате, рассевшись на подушках на полу. Энни вернулась с кухни с большой переполненной пепельницей в форме морской волны, водрузила ее в центре столика, и все достали свои сигареты. Мира следила за взглядом Энни и гадала, захочет ли Энни трахнуть Мэтти – Мэтти, пахнувшего подвалами и всё же привлекательного.









































