Текст книги "С ярмарки"
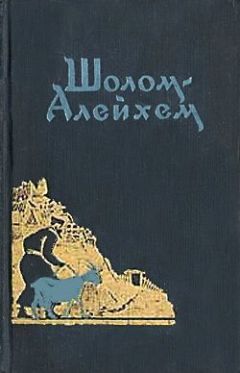
Автор книги: Шолом Алейхем
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
25. На новом месте
Переяслав – большой город. – Холодная встреча. – Серебро заложено, заработков нет. – Отец озабочен.
После двухдневной тряски, подпрыгивания, покачивания, после того как они вдоволь наглотались пыли и наслушались извозчичьих историй, юные путешественники к вечеру почувствовали, что они уже вот-вот у цели. Еще немного, и в темноте замелькали огоньки – признак города. Потом колеса застучали по камням, и повозку затрясло еще больше. Это уже был настоящий город, большой город Переяслав. Дребезжа и громыхая, повозка Меера-Велвла подкатила к темному двору, над воротами которого висел закопченный фонарь и пучок сена – отличительный знак заезжего дома.
То, что родители содержат заезжий дом, было для детей сюрпризом, и весьма обидным. Как, их отец выходит встречать постояльцев, мать стряпает для них, а бабушка прислуживает! Большего падения, худшего позора они и представить себе не могли. И мечтатель Шолом, вечно грезивший о лучших временах, о кладе, долго грустил в тишине, плакал тайком, в тоске вспоминал свою милую маленькую Воронку. Он никак не мог уразуметь, почему взрослые говорили: «Перемена места – перемена счастья». Нечего сказать, хорошо счастье!
– Вылезайте, байстрюки, приехали! – возвестил Меер-Велвл после того, как с протяжным тпр-р-р-у остановил лошадей у крыльца заезжего дома.

Усталые, разбитые и голодные, ребята стали поодиночке выбираться из повозки, расправляя затекшие члены. В доме тотчас отворилась дверь, и на крыльце начали одна за другой появляться фигуры, которые в темноте можно было различить только по голосу. Первая фигура была прямой и широкой – это бабушка Минда. Вытянув вперед свою старую голову, она воскликнула:
– Слава богу, приехали!
Вторая фигура была маленькая, юркая – это мать. Она спросила кого-то третьего:
– Приехали уже? – «Приехали!» – радостно ответила ей третья фигура, длинная и худая. Это был отец, реб Нохум Вевиков, теперь уже реб Нохум Рабинович (в большом городе дедушке Вевику дали отставку).
Не такой встречи ожидали ребята. Все, правда, расцеловались с ними, но как-то холодно. Потом их спросили: «Как поживаете?» Что можно ответить на такой вопрос? «Ничего…» Бабушка Минда первая вспомнила, что дети, вероятно, хотят есть. «Вы голодны?» Еще бы не голодны! «Хотите чего-нибудь поесть?» Еще бы не хотеть! «Вечернюю молитву читали?» – «Конечно, читали!»
Мать поспешила на кухню приготовить чего-нибудь поесть, а отец тем временем экзаменовал мальчиков, далеко ли они ушли в ученье. О, они ушли далеко! Но зачем им морочат голову, когда им хочется поскорей осмотреть новое место, дом!
Они ворочают головами, озираются по сторонам – где они находятся. Они видят себя в большом доме, мрачном и нелепом, со множеством комнатушек, разгороженных тонкими дощатыми переборками. Это комнаты для постояльцев, а постояльца – ни одного. В центре дома – зал. В зале ребята узнали всю воронковскую мебель: круглый красный стол о трех ножках, старую красную деревянную кушетку с протертым сидением, круглое зеркало в красной раме с двумя резными руками на нем, будто простертыми для благословения, и стеклянный шкаф, из которого выглядывали пасхальные тарелки, серебряная ханукальная лампада и старый серебряный кубок в форме яблока на большой ветке с листьями. Всех остальных серебряных и позолоченных кубков, бокалов и бокальчиков, ножей, вилок, ложек и всего остального серебра уже не было. Куда оно девалось? Только много позже дети узнали, что родители все это заложили вместе с маминым жемчугом и драгоценностями у одного переяславского богача и больше уже никогда не смогли выкупить.
– Ступайте умойтесь! – сказала бабушка Минда после того, как мать принесла из кухни далеко не роскошный ужин: подогретую фасоль, которую нужно было есть с хлебом; да и хлеб был черствый.
Мама сама нарезала хлеб и дала каждому его часть. Этого у них никогда не бывало – повадка бедняков! А отец сидел сбоку и не переставал их экзаменовать. Он, видно, был доволен – дети много успели. О среднем, Шоломе, и говорить не приходится – этот все знает наизусть и произносит целые главы Исайи на память.
– Ну, хватит, пусть идут спать! – сказала мать, убирая оставшийся хлеб со стола и пряча его в шкаф. Этого тоже не бывало у них в Воронке. Это уже вовсе неприлично.
То ли путь оказался слишком долог и тяжел и ребята устали, то ли встреча была не слишком приветливой, а ужин нищенским – но новое место, о котором дети так мечтали, выглядело не столь уж очаровательно. Слишком многого они, видно, ожидали, поэтому и велико было разочарование; они чувствовали себя словно высеченными и обрадовались, когда им велели прочитать молитву и ложиться спать.
Лежа потом вместе с братьями на сеннике, постланном прямо на полу в большой темной проходной комнате без всякой мебели – между залом и кухней, – герой этой биографии долго не мог уснуть. В голове копошились всякого рода мысли, и один за другим возникали бесчисленные вопросы. Почему здесь так мрачно и уныло? Почему здесь все так озабоченны? Что с мамой, почему она вдруг стала так скупа? Что стало с отцом, почему он так согнулся, ссутулился, так сильно постарел, что сердце сжимается при взгляде на его желтое морщинистое лицо. Неужели все из-за того, что, как говорили в Воронке, доходы падают? Неужели это и есть «перемена места – перемена счастья»? Как быть, чем помочь? Одно спасенье – клад. Ах, если бы привезти с собой хоть небольшую часть того клада, который остался в Воронке!
При мысли о кладе Шолом вспоминает своего друга – сироту Шмулика – и его удивительные сказки о кладах золота, серебра, алмазов, брильянтов в подземном раю и о том кладе, который лежит за воронковской синагогой еще со времен Хмельницкого. Шолому снятся груды золота, серебра, алмазов и брильянтов. И Шмулик является ему во сне, милый Шмулик, с его привлекательным лицом и блестящими, смазанными жиром волосами. И слышится ему его мягкий хрипловатый голос; он говорит с ним дружески-приветливо и, как взрослый, утешает его ласковыми словами: «Не горюй, Шолом, дорогой! Вот тебе от меня подарок – камень, один из тех двух чудесных камней; выбирай, какой хочешь, – камень, который называется «Яшпа», или камень, который зовется «Кадкод». Шолом в нерешительности, он не знает, он забыл, какой из них лучше, – камень, который зовется «Яшпа», или тот, который называется «Кадкод». Пока он раздумывает, подбегает Гергеле-вор, выхватывает оба камня и исчезает с ними. А Пинеле, сын Шимеле, – откуда он взялся? – сунул руки в карманы и покатывается со смеху. «Шимеле, над чем ты смеешься?» – «Над твоей тетей Годл и ее повидлом, ха-ха-ха!»
– Вставайте, лежебоки! Смотри-ка, никак их не разбудишь! Нужно убрать этот хлам! Пора обед варить, а они разоспались, спят сладким сном, – жалуется мать, маленькая, проворная, захлопотавшаяся, обремененная работой в доме и на кухне – одна на весь дом.
– И-о ну, молиться! – нечленораздельно, чтобы не прервать молитвы, поддерживает ее бабушка Минда, которая держит в руках молитвенник и, перелистывая страницу за страницей, ревностно молится.
– После молитвы вы навестите родных, а в хедер, бог даст, пойдете после праздников, – ласковей всех говорит отец.
Он одет в какой-то странный халат, подбитый кошачьим мехом, хотя на дворе еще тепло. Сгорбленный, озабоченный, он затягивается крепкой папиросой и вздыхает так глубоко, что сердце разрывается. Кажется, он даже стал ниже ростом, старше и ниже… И ребятам хочется поскорей вырваться на волю, побегать по улицам, посмотреть город, познакомиться с родней.
26. Большой город
Знакомство с родней. – Тетя Хана и ее дети. – Эля и Авремл экзаменуют героя по «пророкам». – Экзамен по письму у дяди Лини.
Насколько ночью город выглядел темным и пустынным, настолько утром он оказался полным сияния и блеска в глазах воронковских мальчиков, местечковых ребятишек, приходивших в восторг от каждой мелочи. Они еще в жизни не видели таких широких и длинных улиц с деревянными «пешеходами» (тротуарами) по обеим сторонам; они никогда не видели, чтоб дома были крыты жестью, чтоб на окнах снаружи были ставни, окрашенные в зеленый, синий или красный цвета, чтобы лавки были сложены из кирпича и имели железные двери. Ну, а базар, церкви, синагоги и молельни, не будь они рядом помянуты, и даже люди – все это так величественно, прекрасно и празднично-нарядно! Нет, Пиня не преувеличивал, когда рассказывал чудеса о большом городе. Ноги, точно на колесиках, скользили по деревянным «пешеходам», когда дети шли рядом с отцом знакомиться с родными и приветствовать их. Только уважение к отцу мешало им останавливаться на каждом шагу и восхищаться чудесами, которые представлялись их глазам. Как водится, отец шел впереди, а дети плелись сзади.
Войдя на просторный двор и миновав большой светлый застекленный коридор, они вступили в великолепные покой с навощенными полами, мягкими диванами и креслами, высокими до потолка зеркалами, резными шкафами, со стеклянными люстрами, свисающими с потолка, и медными бра на стенах. Настоящий «дворец», «царские палаты»!
Это был дом тети Ханы – странный дом, без хозяина (тетя Хана была вдовой). Дети ее никому не повиновались – ни матери, ни учителю, – полная анархия! Каждый делал что хотел. Ребята все время ссорились между собой, давали друг другу прозвища, говорили все сразу, смеялись во все горло и шумели так, что голова шла кругом.
Тетя Хана была женщина высокая и величественная. Ей пристало бы быть гранд-дамой, из тех, что нюхают табак из золотой табакерки, на которой изображен какой-нибудь принц старинных времен с белой косичкой и в шелковых чулках. В молодости тетя Хана отличалась, вероятно, необыкновенной красотой. Об этом свидетельствовали и ее дочери, редкие красавицы.
Как только пришли ребята, поднялся крик, шум, гам:
– Так вот они какие! Вот это и есть великий знаток пророков? Ну-ка, подойди сюда, не стесняйся! Смотри-ка, он стесняется, ха-ха-ха!
Отец, видно, не удержался и похвастал сыном, который хорошо знает пророков – и мальчику тут же присвоили титул «знатока пророков».
– Налей-ка «знатоку пророков» стаканчик чаю, дай ему яблоко и грушу – пусть попробует этот «знаток пророков» наши переяславские фрукты.
– Знаете что, позовем сюда Элю и Авремла, они его проэкзаменуют.
Позвали Элю и Авремла.
Эля и Авремл, уже взрослые парни с порядочными бородками, приходились тете Хане родственниками со стороны мужа. Они жили в доме напротив. Их отец, Ицхок-Янкл, разорившийся богач, всю жизнь судился с казной, носил серьгу в левом ухе, красивую круглую бороду, ни на кого не глядел, ни с кем не вступал в беседы и постоянно усмехался, как будто хотел сказать: «О чем мне с вами разговаривать, если все вы ослы».
Эля и Авремл, как только пришли, сразу же, без всяких церемоний, устроили воронковскому пареньку устный экзамен по всему писанию с начала до конца. И нужно признаться, воронковский паренек блестяще выдержал испытание. Он не только определял, из какой главы, из какого стиха взято то или иное слово, но даже указывал, в каком месте находятся все другие слова того же корня. Отец его сиял, просто таял от удовольствия. Лицо его светилось, морщины на лбу разгладились: весь он выпрямился, стал совсем другим человеком.
– Дайте «знатоку пророков» еще яблоко и грушу, еще орехов и конфет, конфет побольше! – распоряжались красавицы дочери.
И титул «знаток пророков» остался за Шоломом надолго и не только среди родни. Даже в синагоге мальчишки-проказники называли его не иначе, как «воронковский знаток пророков». И взрослые часто, добродушно ухватив его за ухо, спрашивали: «Ну-ка, маленький «знаток пророков», скажи, в каком месте находится такое-то изречение».
«Знатоку пророков» очень понравился дом тети Ханы и ее дети Пиня и Моха, двое мальчишек-озорников, с которыми он скоро подружился. Ему казалось, что прекрасней и богаче дома, чем у тети Ханы, нет не только в Переяславе, но и во всем мире. В самом деле, где это видано, чтобы яблоки брали из бочки, орехи из мешка, а конфеты прямо из кулька!
Совсем по-иному выглядел дом дяди Пини. Это был настоящий еврейский дом – с шалашом для кущей, со множеством священных книг, среди них – весь талмуд, с серебряной ханукальной лампадой и плетеной восковой субботней свечой. Но куда ему до дома тети Ханы! – обыкновенный набожный дом. Все там были набожны – и дядя Пиня и его дети. Мальчики в длинных, до земли, капотах, с длинными, до колен, «арбеканфесами». Дочери в целомудренно надвинутых на лоб платках, постороннему прямо в глаза не глянут, при виде чужого человека краснеют, как бурак, и лишь хихикают. Тетя Тэма – богомольная женщина с белыми бровями. И рядом ее мать – вылитая Тэма, как две капли воды. И не различишь, где мать, а где дочь, если бы мать не трясла все время головой, будто говоря: «Нет-нет!»
Здесь, у дяди Пини, отец не хвалился своим «знатоком пророков». В этом доме пророки были не в чести. Ибо кто изучает пророков? Пророков изучают вольнодумцы. Зато отец не удержался и похвалился почерком своих детей. Его дети, говорил он, пишут – миру на удивление.
– Вот у этого малыша изумительный почерк, – показал он на Шолома, – мастерская рука!
– Ну:ка, дайте сюда перо и чернила! – приказал дядя Пиня и засучил рукава на обеих руках, будто сам собирался приняться за работу. – Подайте мне перо и чернила, мы сейчас проверим, как он пишет – этот мальчик. Живо!
Приказание дяди Пини прозвучало как приказание строгого генерала, и дети – как мальчики, так и девочки – бросились во все стороны искать перо и чернила.
– Листок бумаги! – снова скомандовал «генерал». В доме, однако, не оказалось ни куска бумаги.
– Знаете что, пусть он пишет на моем молитвеннике, – нашелся, сын дяди Пини, занятный паренек с остроконечной головкой и длинным носом.
– Пиши! – приказал отец своему «знатоку пророков».
– Что мне писать?
– Пиши что хочешь.
Обмакнув перо, «мастерская рука» и «знаток пророков» задумался, – он не знал, что ему писать – хоть убей! Семья дяди Пини уж, должно быть, решила, что «мастерская рука» может писать лишь тогда, когда никто не видит. Но тут Шолому пришло на память то, что было выведено в те годы почти на каждой священной книге, и, засучив рукав и повертев в воздухе рукой, он снова обмакнул перо. А через несколько минут им была выведена следующая надпись на древнееврейском языке:
«Хотя на священной книге мудрецы писать запрещают, но знака ради это позволено».
Это было как бы вступлением, за которым следовал известный текст:
«Сей молитвенник принадлежит… Кому принадлежит? Кому принадлежит, тому и принадлежит. Но все же кому он принадлежит? Тому, кто его купил. Кто же его купил? Кто купил, тот и купил. Кто же все-таки его купил? Тот, кто дал деньги. Кто же дал деньги? Кто дал, тот и дал. Все-таки кто же дал? Тот, кто богат. Кто же богат? Кто богат, тот и богат. Кто же все-таки богат? Богат славный юноша Ицхок, достойный сын знаменитого богача Пинхуса Рабиновича из прославленного города Переяслава».
Трудно передать, какой фурор произвела эта надпись и самый почерк, каким она была сделана. Особенно почерк! Шолом постарался, чтобы отец его, упаси боже, не был посрамлен. Он напряг все силы. Он потел, как бобер, старался писать самым замечательным бисерным почерком, буковками, которые можно рассмотреть только в лупу. Он применил искусство каллиграфии, унаследованное им от воронковского учителя реб Зораха, воспитавшего в этом местечке, можно сказать, целое поколение каллиграфов, которые разбрелись по свету и поражают всех еще и поныне красотой своего письма.
27. Каникулы
Арнольд из Подворок. – Новые товарищи. – Учитель Гарниза читает тору. – Воронковские сорванцы показывают свое искусство.
«Бейн-газманим»! Кто может это понять! Вакации, вакейшен, фериен, каникулы – все это слова одного порядка. Однако сердцу еврейского мальчика они ничего не говорят в сравнении с «бейн-газманим».
Ребенок, которого отпустили на каникулы из школы или из гимназии, вдоволь пошалил в самой школе, вдоволь погулял, побездельничал в течение года – может быть, даже больше шалил, чем учился. Но мальчик из хедера весь год тяжко трудился, сидел бедняга допоздна и все учил, учил и учил. И вдруг – полтора месяца подряд не нужно ходить в хедер. Может ли быть большее счастье! К тому же и праздники приближаются – дни покаяния, кущи, праздник торы! И все это на новом месте, в большом городе Переяславе.
Прежде всего нужно осмотреть город. Ребята его еще почти не видели. Они побывали пока только у тети Ханы и у дяди Пини, да еще в большой синагоге, старой синагоге и холодной молельне, где поет кантор Цали. А между тем в городе множество улиц и вообще немало всяких привлекательных мест. Тут и река Альта, и река Трубеж, и длинный мост. А Подворки за мостом! Подворки – это вроде другого города, но в самом деле это часть Переяслава. Оттуда и происходит «Арнольд из Подворок». Арнольд частенько заходит к Нохуму Рабиновичу посидеть, потолковать о Рамбаме,[29]29
Автор религиозно-философских книг.
[Закрыть] о «Кузри»,[30]30
Религиозно-философская книга средневекового поэта Иегуды Галейви.
[Закрыть] о Борухе Спинозе,[31]31
Известный философ Бенедикт Спиноза (1632–1677).
[Закрыть] Моисее Мендельсоне[32]32
Мендельсон (1729–1776) – философ-идеалист, основоположник еврейского просветительства.
[Закрыть] и о других больших людях, которых Шолом не мог запомнить; лишь один, по имени Дрепер,[33]33
Американский естествоиспытатель и историк культуры.
[Закрыть] крепко засел у него в голове. Дрепер… «Арнольд – весьма ученый человек! – говорил отец, который был очень высокого мнения о нем. – Если бы Арнольд не был евреем, он мог бы стать прокурором». Почему именно прокурором и почему еврей не может им быть – этого Шолом еще не мог понять. Что касается антисемитизма, то по собственному опыту он знал только один его вид – собаки. В Воронке ребятишки натравили на него как-то собак, которые повалили его и искусали. Следы их зубов на нем и поныне.
«Арнольду из Подворок» герой настоящей биографии обязан своим дальнейшим образованием, и поэтому мы с ним еще встретимся. А пока – каникулы и канун праздников. Пора познакомиться с городскими мальчишками и завести себе новых друзей.
Среди детей состоятельных родителей особое место занимал Мойше, сын Ицхока-Вигдора – рыжий мальчишка, всегда прилизанный, в альпаговой капотке, настолько важничавший, что не удостаивал разговором даже самого себя. И он был прав. Во-первых, у его отца Ицхока-Вигдора собственный дом с белым крыльцом. Потом у Ицхока-Вигдора в доме бесчисленное количество часов и часиков. В двенадцать, когда все часы начинают бить, можно оглохнуть. Сам Ицхок-Вигдор со всеми на свете судится, и глаза у него какие-то разбойничьи. В синагоге все мальчишки дрожат под его взглядом.
На втором месте стоит Зяма Корецкий – слегка сутулый паренек, один из самых озорных, он не со всяким водится, да и не всякий станет с ним водиться, потому что отец его «из бритых», с подстриженной бородой. Он адвокат в Петербурге, и на носу у него странные очки, которые называются «пенсне». Этот Зяма научил всех мальчишек в городе плавать, кататься на льду и еще многим вещам, которые не всем еврейским детям известны.
За Зямой следует отпрыск Исроэла Бендицкого – бледный слабенький мальчик, затем Хайтл Рудерман – толстомордый сын учителя, Авремл Золотушкин – черный, как арап, Мерперты и Липские, разодетые маменькины сынки в начищенных ботиночках. С этими не каждый мог удостоиться чести говорить, ибо у кого еще есть возможность носить в будни такие сверкающие ботинки? За ними идут маленькие Канаверы – чертенята, а не дети, они вечно возятся с собаками, мучают кошек. Со всеми этими Шолом дружить не хотел. Он предпочитал водить дружбу с такими ребятами, как Мотя Срибный, мальчик с длинными пейсами, игравший на скрипке, или же с Элей, сыном Давида, вечно хохочущим живым мальчишкой. С ними Шолом молился в одной синагоге над одним молитвенником, с ними вместе проказничал – изображал служку Рефоэла, как он поглядывает одним глазком и выкрикивает нараспев цены на вызов к чтению торы: «Восемнадцать пятиалты-ынных ко-огену!», или Вову Корецкого, посвистывающего носом, Беню Канавера, жующего табак, Ицхока-Вигдора, подергивающего плечами, Шолома Виленского, поглаживающего бородку и шмыгающего носом. Есть, слава богу, кого изображать. Взять хотя бы учителя Гармизу, читающего тору. Его Шолом изучал две субботы подряд: как он раскачивается на одной ноге, потом, вытянув длинную шею и ощерив желтые зубы, скривит рябое лицо, поведет острым носом вверх-вниз и выкрикнет странным гортанным голосом: «Зри, я дал тебе жизнь и добро, смерть и зло»… можно со смеху помереть! Все, кто видел Шолома, представляющего, как Гармиза читает тору, клялись, что это вылитый Гармиза. Сам Гармиза был весьма недоволен когда узнал, что Шолом изображает его; он не поленился сходить к Нохуму Рабиновичу и рассказать ему все как есть: он, мол, слыхал, что у реб Нохума есть мальчик, который передразнивает его, Гармизу, читающего тору. Это наделало шуму. Нохум обещал расследовать дело, как только придут дети. Когда ребята вернулись домой, за них сразу же взялись. Отец, конечно, догадался, что виновник здесь Шолом.
– Поди-ка сюда, Шолом! Покажи, как ты представляешь Гармизу, читающего тору.
– Как я его представляю? Вот так.
И Шолом, раскачиваясь на одной ноге, вытянул шею, ощерил зубы, затем скривил лицо, как Гармиза, повел носом вверх и потом вниз и закричал странным гортанным голосом: «Зри, я дал тебе жизнь…»
Шолом никогда не видел, чтобы отец так хохотал. Он никак не мог прийти в себя. А когда, наконец, успокоился, то откашлялся, вытер глаза и обратился к детям:
– Видите, к чему приводит безделье? Шатаетесь без толку, и в голову приходит черт знает что – передразнивать учителя Гармизу, как он читает тору (тут отец не выдержал и спрятал свое смеющееся лицо в носовой платок). Бог даст, сразу после кущей найду для вас учителя, и вы начнете ходить в хедер. Кончены' каникулы!
Если уж действительно конец каникулам, то нужно по крайней мере пожить в свое удовольствие.
И ребята постарались использовать свободное время наилучшим образом: знакомились без разбора с самыми отчаянными мальчишками, вступали с ними в дружбу, гуляли, как рекруты, перед набором. Воронковские ребята показали переяславским сверстникам, что, хотя они приехали из маленького местечка, они знают многое такое, о чем переяславцы и понятия не имеют, например, что к каждому имени можно придумать рифму. Возьмите какое угодно имя, скажем, Мотл: Мотл-капотл, Друмен-дротл, Иосеф-сотл, Эрец-кнотл; Лейбл: Лейбл-капейбл, Друмен-дребл, Иосеф-сейбл, Эрец-кнейбл; Янкл: Янкл-капанкл, Друмен-дранкл, Иосеф-санкл, Эрец-кнанкл. И так – любое имя.
И еще переяславские ребята не знали языка-перевертыша, то есть как говорить все наоборот. Например: «Тов я мав мад в удром». Это значит: «Вот я вам дам в морду». Или: «А шикук шечох?» – «А кукиш хочешь?» На таком языке Шолом мог говорить целый час без умолку. Это ведь сплошное удовольствие – вы можете говорить человеку все что угодно, прямо в глаза, а он ничего не понимает.
И что это за мальчишки в Переяславе, которые дают попу пройти мимо, будто он человек, как все. Нет, воронковские ребята не такие дурачки. Они не пропустят попа просто так. Все ребята, сколько бы их ни было, побегут вслед за ним и станут кричать нараспев: «Поп, поп, ложись в гроб. Сядь на кобылу, поезжай в могилу. Поп волосатый, зароем тебя лопатой. Нам клад, тебя в ад». Переяславские ребята говорили, что здесь, в Переяславе, нельзя дразнить попов, за это может здорово влететь. Вот тебе раз, попа бояться! Конечно, нехорошо, когда поп переходит тебе дорогу, но чего его бояться?
Переяслав – действительно большой город и красивый, что и говорите, но в Воронке было веселей во время каникул. Так думали воронковские ребята, и все же они были не прочь, чтобы дни каникул и здесь, в Переяславе, тянулись без конца.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































