Текст книги "Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914"
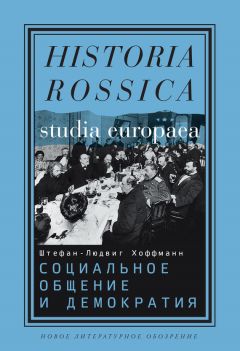
Автор книги: Штефан-Людвиг Хоффманн
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
2. Интимность и эксклюзивность
(1820-е – 1848–1849)
Три десятилетия, предшествующие европейским революциям 1848–1849 годов, обычно считаются в исторической литературе золотым веком общественных объединений. В фазе расцвета основания новых ассоциаций во французском и немецком обществах появилась плотная ткань общественных объединений (которую стали изучать лишь недавно) – одновременно с Соединенными Штатами, где период 1825–1845 годов единогласно признается «эрой ассоциаций» (Мери П. Райан)[67]67
Ryan M. P. Cradle of the Middle Class. The Family in Oneida County. New York, 1790–1865. Cambridge (Mass.), 1981. P. 105.
[Закрыть]. Многие из этих ассоциаций имели предшественников среди объединений социально-нравственной направленности в Англии конца XVIII века. Прежде чем сфокусировать перспективу транснационального сравнения на этой комплексной картине объединений, необходимо показать в диахронном сравнении, как ассоциации начала XIX века соотносились с социальным общением эпохи Просвещения.
Прежде всего, существовали непосредственные пересечения на организационном и персональном уровнях. Новые локальные исследования по французским или немецким городам показали, что ассоциации после 1800 года нередко возникали на основе лож, обществ чтения или клубов. Они брали от этих последних процедуру выборов членов и правлений, составление уставов, обустройство читален и библиотек и многое другое. Вопреки тому, что часто утверждалось ранее в исследовательской литературе, новые общества отнюдь не вытесняли прежние формы социального общения. Напротив, ложи и тайные общества, читальные кабинеты и общества чтения, а равно и неформальные места социального общения, вроде кафе или кружков, именно в XIX веке и переживали свой расцвет. Они были во многих отношениях связаны с новыми обществами, вместе с ними составляя своего рода сеть ассоциаций локального общества, о чем еще пойдет речь подробнее.
Но прежде всего – что столь же часто игнорируется – в своем самосознании ассоциации разделяли возникшую в XVIII веке социальную утопию взаимосвязи между политической добродетелью и обхождением в обществе. Этому тезису противоречат знакомые аргументы политической истории идей. Говоря упрощенно, распространено убеждение в том, что прежнее классическое республиканство и civic humanism (гражданский гуманизм) с их акцентом на политической добродетели в раннее Новое время переместились из Европы в Америку, самое позднее к концу XVIII века. Там они оказались вытеснены либеральной верой в прогресс и преследованием различных собственных интересов, которые в конечном счете находили свой баланс в политическом и экономическом общежитии, сообщая ему этим стабильность. Классическое республиканство, просвещение и либерализм в этом случае искусственно противопоставлялись друг другу. Однако на деле дискурс добродетели аристотелевской традиции лишь преобразуется в Просвещении и раннем либерализме в идею совершенствования отдельного индивида, его внутреннего мира, в общественном обхождении граждан между собой – в том числе, и даже прежде всего, на основе преломления опыта и ощущения кризиса накануне и после революций конца XVIII века. Как точно сформулировал Гордон Вуд,
Для американцев периода [Американской] революции эмоциональность и социальное общение стали модерными суррогатами классической добродетели, которую теоретики тысячелетиями считали необходимой для поддержания республиканского правления.
Необходимо было найти какую-то замену этой прежней героической добродетели, и многие нашли ее в том, что во все большей степени понималось как естественная общительность, сентиментальность и цивильность людей[68]68
Wood G. S. The American Love Boat (рецензия на: Burstein A. Sentimental Democracy. The Evolution of America’s Romantic Self-Image. New York, 1999) // New York Review of Books, 07.10.1999.
[Закрыть].
Какими бы разными ни были формы, которые принимало в XVIII веке англосаксонское Просвещение в сравнении с континентально-европейским, и там и тут оно оставалось верным горизонту интерпретации аристотелевской традиции – в стремлении найти антропологическое обоснование гражданского общества в «свободном общественном обхождении» человека, его тенденции обособляться и в его стремлении завязывать социальные связи[69]69
Kant I. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784) // Kant I. Werke/Weischedel W. (Hrsg.). Bd. 11. Frankfurt, 1993. S. 33–50, 37 et passim.
[Закрыть]. В общественном обхождении с другими люди должны были поэтому воспринимать те добродетели, которые им требовались в качестве граждан в политическом общежитии. Социальное общение обещало, как бессчетное количество раз формулировали не только теоретики, но и менее известные практики гражданского общества, «обоюдное совершенствование, ради расширения наших знаний и исправления наших сердец»[70]70
Burges T. Solitude and Society Contrasted. Providence, 1797. P. 19, цит. по Clark P. British Clubs. P. 413.
[Закрыть]. Классический республиканизм и просвещенный либерализм, которые политическая история идей без нужды резко отделила друг от друга, исторически совпадали в этом представлении о естественной социальности человека и его способности усваивать в общении с другими добродетель и чувство общности, образовывать свое Я и управлять им. Эта социальность была направлена против тенденции, которая воспринималась как модерная и довлеющая, – нарастающей тенденции преследования исключительно частных интересов, которая вела к нравственному разложению политического общежития[71]71
Также: Kahan A. Liberalism. P. 5 et passim.; или, например: Howe D. W. Making the American Sel et passim. Jonathan Edwards to Abraham Lincoln. Cambridge (Mass.), 1997. P. 10 et passim. Противоположная точка зрения, например, у: Appleby J. Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination. Cambridge (Mass.), 1992; или Pocock J. G. A. The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, 1975; особенно Pocock J. G. A. Civic Humanism and its Role in Anglo-American Thought // Ibid. Politics, Language, and Time. Essays on Political Thought and History. Chicago, 1989. P. 80–103; обзорно: Rodgers D. T. Republicanism. The Career of a Concept // Journal of American History. Vol. 79. 1992. P. 1–38. Затем отдельные ст. в сб.: Heideking J., Henretta J. H. (Eds.), Republicanism and Liberalism in America and the German States, 1750–1850. Cambridge, 2002. Наконец, значение классического республиканизма применительно к Франции XVIII века подчеркивается в: Baker K. M. Transformations of Classical Republicanism in Eighteenth Century France // Journal of Modern History. Vol. 73. 2001. P. 32–53. Однако уже политические идеи Токвиля очевидно опровергают тезисы К. М. Бейкера – дискурсу классического республиканизма был положен конец эпохой террора во Французской революции.
[Закрыть].
Примеров такого слияния классической республиканской и просвещенческой либеральной аргументации применительно к общественным ассоциациям для десятилетий рубежа XVIII–XIX веков можно привести сколь угодно много, причем выходящих за пределы складывающихся национальных обществ. Это было и предметом интереса Токвиля, как говорилось в предисловии, – но отнюдь не только Токвиля. Что иллюстрирует пример его современников из Южной Германии Карла фон Роттека и Карла Теодора Велькера в статьях «Ассоциация», «Дух общий» («Gemeinsinn») и «Гражданская добродетель» издававшегося ими «Государственного лексикона»[72]72
Ср. об этом: Nolte P. Bürgerideal, Gemeinde und Republik. „Klassischer Republikanismus“ im frühen deutschen Liberalismus // Historische Zeitschrift. Bd. 254. 1992. S. 609–656; обзорно: Langewiesche D. Frühliberalismus und Bürgertum 1815–1849 // Gall L. (Hrsg.), Bürgertum und bürgerlich-liberale Bewegung in Mitteleuropa seit dem 18. Jahrhundert. München, 1997. S. 63–129.
[Закрыть]. «Свободные ассоциации» признаются там «источником высокого гуманизма и культуры» и возводятся антропологически к «тяге [человека] к обществу», а теологически – к власти Провидения. «Ибо если прочие тварные создания удовлетворяют свои потребности, защищают себя и стремятся достигнуть своего предназначения вне различных общественных объединений, люди достигают своего наивысшего развития и получают необходимые импульсы и средства для всех обширных и великих задач своего предназначения лишь благодаря разнообразным, различающимся в зависимости от времени, места и обстоятельств союзам, благодаря взаимному обхождению и объединению в них своих воззрений, опыта и сил»[73]73
Welcker C. T. Association, Verein, Gesellschaft, Volksversammlung // Rotteck C. von, Welcker C. T. (Hrsg.), Das Staatslexikon. Encyklopädie der sämtlichen Staatswissenschaften für alle Stände. Bd. 1–15. Altona, 1835. Bd. 2. S. 21–53, 21, 23.
[Закрыть].
Как и у Токвиля, для К. Роттека и К. Т. Велькера ассоциации – это путь, выводящий человека из его себялюбия и разобщенности. Следовательно, и они видят в «духе общем»/коллективизме «замечательнейший плод духа общественности»[74]74
Rotteck C. von. Gemeingeist oder Gemeinsinn // Rotteck C. von, Welcker C. T. (Hrsg.), Staatslexikon. Bd. 6. Altona, 1838. S. 448.
[Закрыть]. Истинными добродетелями признаются не преследование своекорыстных интересов, а самоотречение и готовность подчинить эти интересы благу общему. Еще более отчетливо это формулирует статья о «гражданской добродетели» и «духе гражданском». «Все политическое искусство и устройство, – говорится там, – вся мудрость справедливого и счастливого гражданского общежития, гражданских отношений и прав ни к чему без гражданской добродетели, без того, что составляет две ее основные части: гражданский дух и гражданское мужество. Они составляют здоровую жизненную силу гражданских союзов. Без них те чахнут и умирают»[75]75
Welcker C. T. Bürgertugend und Bürgersinn // Rotteck C. von, Welcker C. T. (Hrsg.), Staatslexikon. 1. Suppl. Bd. Altona, 1846. S. 748–758, 748.
[Закрыть]. Гражданской добродетели, как и добродетели вообще, способствует «духовное и нравственное развитие, воспитание и практика; просвещение, проявление и укрепление нравственных стремлений, подчинение эгоистичных и безнравственных стремлений нравственным». Упражнение в добродетелях и ассоциации в гражданском обществе связаны друг с другом. Напротив, абсолютизм приводит – и здесь оба баденских либерала отличаются от аристократа Токвиля – к нравственной болезни граждан: их добродетель становится болезненной и вялой. «Везде и всегда убийственными последствиями деспотизма становились господство эгоизма и чувственности, трусости и продажности большого числа граждан, а также всех чиновников»[76]76
Ibid. S. 749 et passim.
[Закрыть].
Moral improvement (нравственное совершенствование), Bildung (образование) и émulation (соревновательность) были национальными языковыми эквивалентами нравственно-политических целей, выдвигавшихся общественными объединениями. Самосовершенствование в общественном обхождении с другими должно было удостоверять и закреплять гражданское сознание и, выходя за его пределы, космополитизм и в целом гуманизм. Нередко эти цели имели христианский подтекст. Отнюдь не для одного Токвиля связь между ассоциациями, чувством общности и добродетелью получала свой глубинный смысл на фоне братской этики христианства[77]77
Ср.: Hennis W. Tocqueville. S. 396; Kloppenberg J. T. Life Everlasting. P. 30.
[Закрыть]. Лишь тот, кто учится в ассоциациях управлять собой, своими мыслями и чувствами, может управлять и другими. Общественные объединения должны были работать как над индивидуальной добродетелью, так и ради блага общего, – обе эти цели объединял гармонический идеал «бесклассового гражданского общества» (Лотар Галль), который был столь типичен для либерализма эпохи[78]78
Gall L. Liberalismus und „bürgerliche Gesellschaft“. Zu Charakter und Entwicklung der liberalen Bewegung in Deutschland // Ibid. (Hrsg.), Liberalismus. Köln, 1976. S. 162–186.
[Закрыть]. Не только американские, но и французские или немецкие буржуа раннего XIX века рассматривали интересы как неразрешимо частные и разрушительные. Лишь тот, кто может отойти от собственных интересов, открывается, открывает свою душу в объединении с другими, обеспечивая этим сплоченность общества граждан[79]79
Reddy W. The Invisible Code. Honor and Sentiment in Postrevolutionary France, 1814–1848. Berkeley, 1997. P. xi; похоже: Harrison C. E. The Bourgeois Citizen. P. 38; Mettele G. Bürgertum in Köln 1775–1870. Gemeinsinn und freie Assoziation. München, 1998. S. 341.
[Закрыть].
Общественные объединения, которые были в эту эпоху социально эксклюзивными и открытыми лишь для образованных и состоятельных мужчин, должны были составлять противовес конфликтам в профессиональной, семейной и политической жизни[80]80
Vincent-Buffault A. L’Exercice de l’amitié: pour une histoire des pratiques amicales aux XVIIIe et XIXe siècles. Paris, 1995. P. 217.
[Закрыть]. Конечно, они служили и для развлечения, создавая ему социально приемлемые рамки. В социальном пространстве объединений общество социального общения осознавало себя обществом. Здесь практиковались, а затем публично демонстрировались гражданские ценности и добродетели. Разумеется, ассоциации служили и непосредственным социальным или политическим задачам; они нивелировали старые границы по отношению к верхам и проводили новые по отношению к низам. Тем не менее можно констатировать, что основной причиной для стремления буржуа XIX века к ассоциациям было то нравственно-политическое понимание проблем стремительно менявшегося общества, которое так убедительно изобразил Токвиль и которое столь многообразно связано с идеями и практиками социальной утопии эпохи Просвещения.
С социальной точки зрения важнейшее отличие «общества ассоциаций» начала XIX века в Англии, Соединенных Штатах, Франции или немецких землях от эпохи Просвещения состояло в том, что в них собирались преимущественно буржуазные средние классы. Так, общественные объединения изображаются как путь, следуя которому английские средние классы пытались контролировать глубокий социальный, политический и экономический кризис десятилетий после 1800 года, и одновременно реализовать культурную гегемонию. Ни джентри (или аристократия), ни рабочие не участвовали в общественных объединениях хоть сколько-нибудь заметным образом. «Они (объединения. – Примеч. ред.) представляли собой масштабный акт коллективного культурного принципа, когда (английские. – Примеч. ред.) средние классы сопоставляли себя с французами-католиками, с их собственным низшим сословием, с Индией, а позднее с Африкой и Вест-Индией»[81]81
Morris R. J. Clubs, Societies and Associations // Thompson F. M. L. (Ed.), The Cambridge Social History of Britain, 1750–1950. Vol. 3. Cambridge, 1990. P. 403–443, 409; Ibid. Voluntary Societies and British Urban Elites, 1780–1850 // Historical Journal. Vol. 26. 1983. P. 95–119; Ibid. Class, Sect, and Party. The Making of the British Middle Class. Leeds, 1820–1850. Manchester, 1990; Davidoff L., Hall C. Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class, 1750–1850. London, 1987. Ch. 10: „Improving Times“. Men, Women, and the Public Sphere.
[Закрыть]. Объединенные в ассоциации буржуа видели в себе образованную и состоятельную элиту, которая должна заботиться о благополучии и социальном дисциплинировании тех, кого они считали менее респектабельными и потенциально опасными. Под воздействием начинавшегося промышленного переворота ассоциации в Англии одновременно способствовали тому, чтобы объединять средние классы среди социальных и экономических потрясений в культурном, а тем самым и в политическом смысле[82]82
Morris R. J. Urban Elites. P. 116.
[Закрыть]. Однако тезис о тесной связи общественных объединений с расцветом среднего класса спорный и для Англии. Такое сопряжение можно, безусловно, показать для промышленных центров вроде Лидса. Однако в других провинциальных городах ассоциации скорее служили для социальной интеграции между собой старых и новых элит[83]83
Clark P. British Clubs. P. 444 et passim.
[Закрыть]. Именно в этом был секрет их популярности. Социальное общение объединяло англикан и диссентеров, вигов и тори, торговцев и джентльменов, «способствуя единодушию и гармонии вместо конфликта»[84]84
Brewer J. Commercialization and Politics // N. McKendrick et al. (Ed.), The Birth of a Consumer Society. London, 1983. P. 219, цит. по: Davidoff L., Hall C. Family Fortunes. P. 419.
[Закрыть].
С 1820-х годов особенное развитие получили объединения для социально-нравственного реформирования общества, в основном протестантской окраски. Из них выросла целая палитра новых типов и новых задач ассоциаций. В Лидсе уже в 1830–1840-х годах присутствовал широкий спектр разнообразных ассоциаций, которые были активны в областях благотворительности, культуры, образования, экономики и социальных реформ.
Я мог бы остановиться на различных институтах и ассоциациях, – пишет Эдвард Бейнс в 1843 году, – тех, которые занимаются распространением знаний и несут блага всякого рода. Они возникли в настоящем или предыдущем поколении и особенно расцвели в промышленных городах и деревнях – такие, как институты мастеровых (mechanics institutes), литературные общества, библиотеки с абонементами, общества для наставления молодежи, общества друзей, общества трезвости, медико-благотворительные, общества для предоставления нуждающимся одежды (clothing societies), филантропические и приходские общества для посещения больных (district visiting societies). Сорок девять из пятидесяти среди них – достаточно недавнего происхождения[85]85
Цит. по: Morris R. J. Urban Elites. P. 95.
[Закрыть].
Ни одна из сторон жизни местных обществ в Англии не осталась не охваченной ассоциациями.
С начала XVIII века Англия считалась Меккой общественных объединений и клубов. Но в начале XIX века современников гораздо больше поражала тяга к общественности американского среднего класса:
Мужчины и женщины объединяются вместе, образуя сотни и тысячи новых добровольных ассоциаций, отвечающих за широкое поле благотворительных задач, – общества мастеровых, филантропические общества, общества борьбы с бедностью, сиротские приюты, миссионерские общества, общества моряков (marine societies), общества распространения религиозных трактатов (tract societies), Библейские общества, ассоциации трезвости, субботнические группы (Sabbatarian groups), общества мира, общества борьбы с пороком и безнравственностью, общества помощи неимущим вдовам, общества поддержки промышленности – иначе говоря, общества практически для всех благотворительных и гуманитарных целей[86]86
Wood G. S. The Radicalism of the American Revolution. New York, 1991. P. 328.
[Закрыть].
В штатах Массачусетс и Мэн в 1820-х годах ежегодно возникало семьдесят новых ассоциаций; в Джексонвилле, штат Иллинойс, с 1825 по 1870 год примерно треть населения были членами какого-либо из обществ, – несмотря на то что население постоянно мигрировало и лишь одна восьмая взрослых жителей провела в городе всю свою жизнь[87]87
Brown R. D. Urban Society. P. 38; Doyle D. H. The Social Function of Voluntary Associations in a Nineteenth-Century American Town // Social Science History. Vol. 1. 1977. P. 333–355, 334.
[Закрыть]. В таком маленьком городке, как Утика (штат Нью-Йорк), имевшем около 15 000 жителей, адресная книга за 1828 год содержала не менее 21 религиозного и благотворительного общества, три реформистских ассоциации, пять обществ вспомоществования, шесть тайных и шесть образовательных обществ[88]88
Ryan M. P. Cradle of the Middle Class. P. 106; кроме того: Ryan M. P. Civic Wars. Democracy and Public Life in the American City During the Nineteenth-Century. Berkeley, 1997. P. 58–93; Ryan M. P. Civil Society as Democratic Practice. North American Cities during the Nineteenth Century // Journal of Interdisciplinary History. Vol. 29. 1999. P. 559–584; Blumin S. M. The Emergence of the Middle Class. Social Experience in the American City, 1760–1900. Cambridge, 1989. P. 192–229; Gilkeson J. S., Jr. A City of Joiners. Voluntary Associations and the Formation of the Middle Class in Providence, 1830–1920. Diss. Brown University, 1981; Idem. Middle-Class Providence, 1820–1940. Princeton, 1986.
[Закрыть]. Ассоциации занимали в адресных книгах больше места, чем публичные институты или бюро. Через четыре года эти цифры еще более увеличились – и лишь с середины 1840-х годов они снова начали снижаться. Нередко в основе учреждения ассоциаций были религиозно-нравственные и социально-реформистские мотивы – они были направлены на уничтожение проституции, алкоголизма, бедности и социальной беспризорности, рабства и много другого. Они утверждали, что «тщательно избегают действий любых форм, которые давали бы преимущество одной отдельной религиозной или политической группе людей в ущерб другой», – как говорилось в Обществе трезвости. И в этом они были схожи с социальной утопией XVIII века[89]89
Ryan M. P. Cradle of the Middle Class. P. 133.
[Закрыть].
Наряду с этим продолжали существовать музыкальные общества и общества чтения, тайные общества, объединения гражданской самообороны и более эксклюзивные клубы. Они также по меньшей мере декларировали, что составляют часть социально смешанной общественности, ставящей целью моральное совершенствование. В одном очерке об общественном влиянии «тайной братии» 1848 года профессиональный и семейный мир резко отделены от мира общественных объединений:
Здесь вокруг человека люди в различных жизненных ситуациях, разных убеждений и профессий, перед ним объект, достойный его чувств, потом вы видите человека каков он есть и можете изучить его, когда вам будет удобно. Разделяет ли он чувства и интересы окружающих его? Поступает ли он здесь, когда почти все взгляды отвлечены от него, заинтересованно и энергично? Забыл ли он о касте, к которой свет произвольно отнес людей, окружающих его? Относится ли он к ним с братскими чувствами и уважает ли в них человека – не бедных или богатых, но людей, которые живут по тем же универсальным принципам, что и он, и чьи сердца отзываются на те же сигналы, что и его собственное?[90]90
Цит. по: Blumin S. M. Social Experience. P. 229.
[Закрыть]
Представления о социальной гармонии, скрывавшиеся за таким бесклассовым братством, нередко противоречили эксклюзивному характеру многих из этих объединений и обществ. Однако если искать причины расцвета ассоциаций с 1820-х годов, важным мотивом была вера современников в идеал «бесклассового гражданского общества», которое рождалось в ассоциациях, чтобы противостоять ожидавшимся социальным и нравственным угрозам возникавших обществ классовых.
Сходным образом, что на первый взгляд кажется удивительным, дело обстояло во Франции и немецких землях[91]91
Принятый долгое время тезис можно резюмировать такой цитатой: «В Германии, как и во Франции, традиция свободных ассоциаций отсутствовала в политической, религиозной и в большой степени в экономической жизни…» (Iggers G. G. The Political Theory of Voluntary Associations in Early Nineteenth-Century German Liberal Thought // D. B. Robertson (Ed.), Voluntary Associations. Richmond, 1966. P. 141–158, 143).
[Закрыть]. Не только американское, но и французское и немецкое локальное буржуазное общество организовалось с 1820-х по 1840-е годы в тесно связанную друг с другом сеть общественных объединений. Этот факт особенно удивителен для Франции, поскольку историческая наука долгое время разделяла точку зрения Токвиля о том, что послереволюционное государство подавляло ассоциации. Почти столетие во Франции действовало закрепленное в Кодексе Наполеона в 1810 году законодательство об общественных объединениях, которое урезало свободы ассоциаций и подчиняло их государственному контролю, если количество членов в них превышало двадцать человек. Поэтому исследования концентрировались скорее на неформальной общественности и семье.
Однако если сместить фокус с центра страны, Парижа, на локальные общества в провинции, можно оценить роль общественных объединений для французского общества 1820–1830-х годов. В маленьких городках – например, Лон-ле-Сонье, Безансоне или Мюлузе, граничивших с Швейцарией и юго-западом Германии, неполитические общественные объединения и кружки («надо входить в круг „лучших“)», писал Флобер в своем сатирическом «Лексиконе прописных истин») играли роль, схожую с тем, что было по ту сторону границы[92]92
Flaubert G. Wörterbuch der Gemeinplätze. Zürich, 1987. S. 76.
[Закрыть]. Как и везде, буржуазные ассоциации были эгалитарными внутри себя и элитарными вовне. Мужчины-буржуа говорили в стрелковом клубе, ученом обществе (savants) или в ложе о добродетели, равенстве и социальной гармонии, однако вовне, в большом обществе, соблюдали правила социальных различий:
Эта комбинация была средством, с помощью которого буржуазное общество примиряло революционное наследие гражданского равенства с потребностью в социальном порядке, зафиксированном в иерархии. Сопряжение давало французским буржуа возможность представить меритократическое общество в условиях возникавшей промышленной экономики. Граждане оставались равными, но не все люди могли достичь полного гражданства: публичная сфера активных граждан мужского пола оставалась закрытой для недостойных. Буржуа, разделявшие гражданские интересы, оправдывали это исключение тем, что они представляют высшие интересы всего сообщества, включая тех, что оказался недостоин представлять себя сам[93]93
Harrison C. E. Bourgeois Citizen. P. 224.
[Закрыть].
Бюргерские ассоциации в Германии свидетельствуют о схожих социальных механизмах. И здесь ассоциации считались средством противоядия классовому обществу. Президент кельнского общества поощрения художеств Эберхард фон Грооте отмечал в 1846 году как характерное явление,
что в эпоху, которой любят ставить в вину деспотизм денег, эгоизм, гедонизм и концентрацию капитала в руках немногих, наряду с быстрым увеличением класса пролетариев и умножением бедности, без всякого участия государственной администрации, непосредственно из духовных потребностей… нации возникают ассоциации, союзы, братства, где в расчет принимаются не сословие, не капитал и не какая-либо особая миссия, но только активность, способности и стремление стать полезным обществу, и где при обоюдном признании и наблюдении прав и обязанностей так же совершаются великие, просто невероятные достижения[94]94
Mettele G. Bürgertum in Köln. S. 167.
[Закрыть].
Совсем в том же духе на певческом празднике в юго-западной Германии в 1841 году говорилось:
Пусть разделение сословий, различие между родами профессий служит необходимой предпосылкой сохранения и умножения благосостояния, но в песне это неравенство переплавляется в гармоническое единство: высший и низший, ученый и неученый, богатый и бедный могут в песне возвышенно и красиво слиться в унисон; брат говорит здесь с братом, друг с другом, человек с человеком[95]95
Langewiesche D. Die schwäbische Sängerbewegung in der Gesellschaft des 19. Jhs. – ein Beitrag zur kulturellen Nationsbildung // Zs. f. württembergische Landesgeschichte. Jg. 59. 1993. S. 257–301, 268.
[Закрыть].
Однако этот идеал и в немецких городских обществах не отвечал реальности. К такому выводу подводит среди прочего анализ деятельности общественных объединений в четырнадцати немецких городах Домартовского периода (Vormärz)[96]96
Ср. резюме в: Hein D. Soziale Konstituierungsfaktoren des Bürgertums // Gall L. (Hrsg.), Stadt und Bürgertum im Übergang. S. 151–181.
[Закрыть]. Хотя нормативный тезис настоящего исследования гласил, что начиная с 1820-х годов прежде всего в социальной сети общественных объединений образовалось своего рода «бесклассовое буржуазное общество» (Лотар Галль), эмпирические факты показывают, что здесь во многом подмешивается идеология. Социальная же характеристика ассоциаций этой эпохи, в том числе в сравнительной перспективе, заключается в их почти всепоглощающей страсти к социальной эксклюзивности. Несмотря на распространенные среди них названия – такие, как «Гармония», «Единство» или «Клуб», общественные объединения были местом социальных и политических разграничений и конфликтов. Чем старше была ассоциация, тем более эксклюзивной она себя, как правило, считала. Исключение из эксклюзивного объединения было равносильно социальному остракизму и могло вести к краху политического и профессионального положения. Социальная эксклюзивность большинства общественных объединений Домартовского периода обеспечивалась тайной баллотировкой, при которой было необходимо набрать как минимум две трети голосов, а также высокими членскими взносами. Процедура приема была, как правило, сложной, нередко правление делало предварительный отбор, собирались сведения, требовались поручительства. Число членов редко превышало 400–500, многие объединения фиксировали ограничения численности и принимали новых членов только тогда, когда выбывали старые. Путь в эксклюзивную ассоциацию часто открывал деловой партнер или собственный тесть. Коммерция и брачная политика составляли социальный связующий материал, которым объединение держалось. Если взносов для финансирования представительного дома для ассоциации не хватало, членам предлагались акции по подписке[97]97
Ср., например: Sobania M. Vereinsleben. Regeln und Formen bürgerlicher Assoziationen im 19. Jahrhundert // Hein D., Schulz A. (Hrsg.), Bürgerkultur im 19. Jahrhundert. Bildung, Kunst und Lebenswelt. München, 1996. S. 170–190.
[Закрыть].
Большинство членов общественных объединений происходило из верхнего слоя состоятельной и образованной буржуазии. Нижнюю границу социальной респектабельности в буржуазных союзах обозначали самостоятельные ремесленники, и их членство было очень незначительным. Альтернативу, особенно для молодых ремесленников, составляли патриотические певческие и гимнастические общества, численность которых в 1830–1840-х годах выросла многократно. Однако во главе их также были представители верхушки городского слоя. В отличие от менее состоятельных и влиятельных горожан, активность которых ограничивалась, как правило, одной-двумя ассоциациями, некоторые банкиры, торговцы и фабриканты – во всяком случае, из имевших политические амбиции – часто были членами сразу нескольких союзов[98]98
Hein D. Konstituierungsfaktoren. S. 172.
[Закрыть].
Одной из самых характерных черт европейских ассоциаций этой эпохи является исключение женщин. Локальное буржуазное общество ассоциаций было в максимальной степени мужским установлением. Союзы и клубы составляли социальное пространство, отдельное не только от государства и церкви, но и от семьи. Социальные практики буржуазной активности соответствовали сферам общественности и политики, но составляли резкий контраст с домашней сферой, которая в буржуазном понимании все в возрастающей степени рассматривалась как женская. После классической работы Леоноры Давидофф и Кэтрин Холл о женщинах и мужчинах английского среднего класса общественные объединения стали считаться средством разделения общественности и частной сферы, пространства мужского и женского, социального опыта[99]99
Davidoff L., Hall C. Family Fortunes; ср. также для Франции: Harrison C. E. Bourgeois Citizen; для Германии: Mettele G. Bürgertum in Köln.
[Закрыть]. «Столь привлекательным для женатых мужчин клуб делало полное отсутствие стесняющей феминности. Праздничный настрой, который он предлагал, состоял в освобождении от тяготы поддерживать домашние условности. ‹…› Подоплекой клуба была альтернатива домашней жизни, где этос братства заменял узы семьи»[100]100
Tosh J. A Man’s Place. Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England. New Haven, 1999. P. 129.
[Закрыть].
Впрочем, не следует понимать это разделение слишком буквально. Мэри П. Райан и Ребекка Хабермас показали, что ассоциация и семья в начале XIX века скорее дополняли друг друга, чем конкурировали между собой[101]101
Ryan M. P. Cradle of the Middle Class. P. 106; Habermas R. Frauen und Männer des Bürgertums. Eine Familiengeschichte 1750–1850. Göttingen, 1999. S. 145.
[Закрыть]. Границы между домашним и публичным социальным общением часто были прозрачны, как показывает не только пример салонов. А само социальное общение было сферой, в которой постоянно подвергалась сомнению иерархия полов. Женщины были связаны с общественной жизнью ассоциаций различным образом – например, на праздниках, пусть и в подчиненной роли. Отдельные формы домашней социабельности, как салоны, перешли в общественные объединения – например, в патриотические певческие или благотворительные общества. В то же время при взгляде на середину XVIII века можно сказать, что век спустя ассоциации стали скорее ограничивать, чем способствовать участию женщин в локальном социальном общении, а тем самым в социальной и политической жизни. Известные исключения в сфере благотворительности и религиозно-нравственных реформ с их специфически «женскими» задачами и идеалами добродетели скорее лишь подтверждают этот вывод.
Впрочем, религия и конфессия также могли стать поводом для социального исключения из общественных объединений. Ниже еще будет идти речь о сложных отношениях общества ассоциаций с политическим католицизмом на протяжении всего XIX века. Другой пример – политика по отношению к религиозным меньшинствам. Если в XVIII веке надконфессиональность составляла часть утопии социального общения и отчасти социальной практики, то впоследствии все чаще появлялись границы реализации этого принципа. Так, немецкие, а после и французские евреи в 1820-х и 1830-х годах создавали собственные ассоциации, поскольку доступ к эксклюзивным кругам местного общества был для них нередко закрыт.
Когда немецкие евреи не получали доступ к буржуазному немецкому обществу – если они не достигали удовлетворительной, не говоря уже о полной, степени социальной интеграции, – они могли создавать параллельные институты, участвуя в «большом обществе» в том смысле, в каком их институты максимально напоминали его. Используя идеи эмансипации, они достигали степени культурной интеграции, которая сближала их с буржуа и образованными людьми – даже при том что они продолжали отдельное существование[102]102
Sorkin D. The Transformation of German Jewry, 1780–1840. New York, 1987. P. 116; похоже аргументирует на материале Мюлуза: Harrison C. E. Bourgeois Citizen. P. 118–121.
[Закрыть].
Безусловно, еврейская общественность на европейском континенте выросла и из стремления иметь собственные, конфессионально окрашенные круги общения. Однако часто создание еврейских Casinos, cercles или clubs следовало за исключением евреев из элитарных ассоциаций местной общественности.
Какое меньшинство и насколько категорично исключалось из «респектабельной» буржуазной общественной жизни, часто варьировалось в зависимости от социально-политического контекста. Едва ли, однако, какая-либо пограничная черта могла конкурировать с той, которая проводилась между белым англосаксонским средним классом с их общественными объединениями, с одной стороны, и афроамериканцами, с другой, – причем прежде всего со свободными и «респектабельными» среди этих последних, которые, соответственно, раньше других стали создавать свои ассоциации и тайные общества.
Никакая респектабельность, – писал английский путешественник из Филадельфии в 1818 году, – какой бы она ни была бесспорной, никакая собственность, сколь угодно обширная, никакая репутация, сколь угодно незапятнанная – не доставят человеку, плоть которого испорчена (по американскому мнению) хотя бы двадцатой долей крови своих африканских предков, доступ в большое общество[103]103
Nash G. N. Forging Freedom. The Formation of Philadelphia’s Black Community 1720–1840. Cambridge (Mass.), 1988. P. 226.
[Закрыть].
Поэтому афроамериканцы и в Филадельфии, и в других местах Северной Америки стремились в своих общественных объединениях даже превзойти белый средний класс в респектабельности и гражданских добродетелях. Только в Филадельфии в начале XIX века работали три ложи Принц Холла, в которых состоял почти весь привилегированный слой «черного» мужского населения города. Из них развились новые общественные объединения для афроамериканцев – такие, как Общество борьбы с пороком и безнравственностью (Society for the Suppression of Vice and Immorality), несколько литературных и музыкальных обществ. Они вместе выступали публично на патриотических праздниках – например, на дне рождения Джорджа Вашингтона и на парадах «белого» городского общества.
Как указывалось, ассоциации были транснациональным феноменом. Однако большинство из этих объединений носили локальный характер, и лишь некоторые – как масонские ложи уже в XVIII веке – конституировались в национальном или наднациональном масштабе. За рамки локального гражданского общества выходили некоторые объединения, имевшие гуманитарно-политические задачи – например, уничтожение рабства. С риском некоторого анахронизма можно увидеть в них предшественников нынешних связанных в глобальные сети неправительственных организаций (НПО). Известным примером движения ассоциаций, выходившего за локальные рамки, стал филэллинизм – поддержка освободительного движения греков против Османской империи в 1820-х годах. Призыв к подписке, распространявшийся в Бостоне в 1823 году, очерчивал это общее дискурсивное пространство: «В Одессе и Триесте, в Санкт-Петербурге, во всех значительных городах Германии, в Голландии, Франции и Швейцарии и в Англии были созданы общества, чтобы помочь преодолеть это пугающее по своим масштабам человеческое горе»[104]104
Boston-Committee for the Relief of the Greeks, Address of the Committee Appointed at a Public Meeting Held in Boston, December 19, 1823, for the Relief of the Greeks to their Fellow Citizens, цит. по: Klein K. L’humanité, le christianisme, et la liberté. Die internationale philhellenische Vereinsbewegung der 1820er Jahre. Mainz, 2000. P. 1.
[Закрыть]. Филэллинское движение трактовалось по-разному в зависимости от различных традиций национальных историографий. Может создаться ложное представление, что историки имели дело с разными, никак не связанными друг с другом движениями:
Разброс оценок простирается от характеристики английского филэллинизма как движения за реформы, мотивированного внутриполитическими причинами, до отнесения американского и французского движения в разряд безобидных – то есть неполитических – благотворительных предприятий. Между этими оценками находится трактовка немецких греческих обществ как средства борьбы с политическим угнетением и швейцарских – как средства поддержки собственного национального строительства[105]105
Klein K. L‘humanité. P. 4.
[Закрыть].
Транснациональная сравнительная перспектива переосмысливает и другие общие места национальных исторических традиций. Нет сомнения, что общественные объединения начала XIX века в Западной Европе были прежде всего местом развлечения состоятельных и образованных средних классов. Тем не менее идею и социальную практику нельзя связывать только с одним классом. Существовали свои народные и аристократические традиции социального общения, которые продолжали жить и в начале XIX века, сливаясь с идеей ассоциаций. Если отойти от представления социальной истории о тесной связи между развивающейся буржуазией как классом и либерализмом как ее идеологией эмансипации, станет очевидно, что в обществах, где «буржуазия» была представлена слабо (например, в дворянских и интеллигентских кругах), тем не менее циркулировали либеральные идеи и практики – прежде всего идея нравственного совершенствования в общественном обхождении с другими[106]106
См. похожую аргументацию в: Nemes R. Associations and Civil Society in Reform-Era Hungary // Austrian History Yearbook. Bd. 32. 2001. P. 25–45; Trentmann F. Introduction. P. 3; для России: Bradley J. Subjects into Citizens. P. 1101; а также у польских историков: Janowski M. Polish liberal thought up to 1918. Budapest, 2002; и Jedliсki J. Suburb of Europe: Nineteenth century Polish approaches to Western civilization. Budapest, 1999.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































