Текст книги "Салават Юлаев"
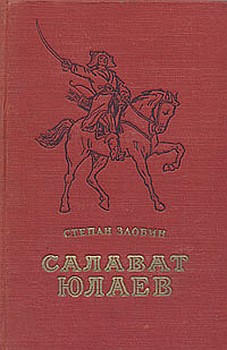
Автор книги: Степан Злобин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Самый большой медведь! – увлечённо доказывал Салават.
– Где же ты встретил его?
– В лесу над берегом Юрузени. Вся кочёвка знает!
Хлопуша захохотал.
– Ах ты, ирод, ирод! – забормотал он по-русски. – Ах ты, дубина, дубина!..
– Чего ты? – удивился Салават.
– Вот я тебе что скажу, – серьёзно ответил Хлопуша. – Хороший ты парень, когда с эких лет хорониться должен, а будешь таким дураком – недолгое время убережёшься. Ведь ты мне сказал, что татарин! Вот дурак! Да казанские татары про Юрузень не слыхивали!.. Пропадёшь ты, парень, так по умётам шатаясь, время нынче неспокойное, на Яике бунт в казаках. Много всякого смутного народу по умётам ходит, а за смутным народом и сотники, и урядники, и ярыги… Иди-ка ты лучше, малый, ко мне в лес жить, житьё у нас привольное!
– Ты в лесу живёшь? – смущённо спросил Салават.
– В лесу, брат, в лесу… Где больше жить такому, как я? Видишь, как меня изукрасили?!
– А чего в лесу ешь?
– Всяко бывает. Когда пусто, когда и густо, когда и нет ничего! Живём мы в лесу – и волю знаем, выйдем из лесу – пропадём. Нет в дубраве у нас ни старшин, ни сотников, ни господских приказчиков…
– За зверем там промышляешь?
– На красного зверя охотничаем: с одного, бывает, шкур десять снимешь!
– Не бывает таких зверей! – отрезал Салават. – Теперь ты попался ведь, значит!
Хлопуша снова захохотал.
– С нашего зверя, парень, иной раз и сотню шкур снимешь, а то за свою дрожишь, за последнюю; только тем и спасаемся, что все охотники о двух головах.
– Опять врёшь!.. Где же у тебя другая голова?
– В кабаке у целовальника заложена, – усмехнулся Хлопуша. – Расскажу теперь я тебе сказку про храбрых охотников, тогда сам поймёшь. Едет, скажем, вашего Твердышова-купца приказчик, везёт купцу денежки, с русских мужиков и с башкирцев, с татар, с черемисы взятые. Выйдут лесные люди, наставят ружья да денежки заберут! И пошли гулять…
– Ты что – разбойник, каряк? – спросил Салават.
– А хотя и разбойник! – не смутился безносый. – Бедному человеку обиды мы не чиним, а с богатого десять шкур спустить – того бог не сочтёт за грех!.. Да-а… Бывает, на нас и солдат высылают. Тогда уж спасай бог головушки! И летим, и летим тогда журавлями в далёкие страны на новы места. Полетим, полетим да пристанем… Вольных мест ещё много на свете осталось… Хватит места и журавлюшкам, и соколам, и орлам… Хочешь, малый, летим со мной в вольный свет?!
– В разбойники? – спросил опять Салават.
– Ну, хотя и в разбойники! Что ты – страшишься?
– А коли поймают? – опасливо спросил Салават.
– А коли сейчас тебя словят, тогда что?! – поддразнил Хлопуша. – Ну, пойдёшь с нами?
Салават не успел ответить, потому что внезапно Салтан распахнул дверь:
– Солдаты бумаги смотрят!
Салтан сказал это по-русски, и Салават не сразу понял, в чём дело, но Хлопуша схватил его за руку.
– Бежим!.. Айда, айда, торопись! – прохрипел он, сильной рукой увлекая Салавата мимо Салтана в конюшню, через двор.
Там, живо вскочив на коней, пустились они наутёк в виду солдат, кричавших им вслед: «Стой! Стой! Стой, что за люди?!»
Совместное бегство от общей невзгоды связало Салавата с безносым товарищем, беглым каторжником, по прозванию Хлопуша.
* * *
Всё то, что рассказал Хлопуша о лесных людях, представлялось теперь живым в глазах Салавата. Он знал, что значит охота на красного зверя, как с убитой дичины снять десять шкур и почему лихому охотнику нужно не менее двух голов на плечах.
Вначале, когда судьба столкнула его с Хлопушей, Салават не думал, что сможет остаться с русскими лиходеями и разбойничать по лесам. Отдышавшись от первого бегства, в котором он потерял свою лошадь, сломавшую ногу, и спасся лишь за седлом Хлопуши, Салават попросился сойти на перекрёстке дорог.
– Ты что? – удивлённо спросил по-татарски Хлопуша.
– Мне не туда.
– А куда же?
– Во-он туда! – указал Салават на полдень, слегка к закату.
– Кто же там у тебя?
– Турецкий султан, – сказал Салават.
Бежать к султану было мечтой, которую мулла внушал своим ученикам. Страна, где царит Коран Магомета, где шариат – верховный судья и сам султан исповедует, как последний нищий, веру пророка, – эта страна казалась мулле земным раем, легендой… О людях, бежавших к султану, рассказывали как о счастливцах, чудом попавших живыми на небо.
Салават в раннем детстве ещё слыхал от муллы рассказ, как один из братьев его деда бежал к султану, стал там богат и знатен. В одном из больших городов он держал на базаре лавку, где торговал шербетом и фруктами; он был в милости у самого султана, а когда началась война с русскими, убил сто гяуров и пал на «прямом пути», завещанном правоверным словами Корана…
Каждый раз султан посылал денег на восстания башкир против русских царей, чтобы вести войну во славу ислама. Они не замечали только того, что это бывало всегда в те годы, когда сам султан воевал против русских и потому ему нужно было восстанием на востоке ослабить войска противника.
– К султану? – спросил Хлопуша. – А что же тебе даст султан?
– Султан и есть Бюре-батыр, старший брат барсука, про которого ты говорил в сказке.
Хлопуша мотнул головой.
– Не там ищешь, – сказал он. – Султан живёт далеко в чужих странах, за морем. Ему что за дело до тёмной норы башкирского барсука! Ищи поближе, не бегай! Бегают зайцы, – сказал Хлопуша, когда Салават выразил несогласие с его словами.
Оскорблённый названием трусливого зверька, Салават, забыв последнюю предосторожность, с жаром выболтал перед безносым историю с луком Ш'гали-Ш'кмана.
– Есть и такие звери на свете, – спокойно сказал Хлопуша. – Силы много, да смелостью бог обидел. Медведь силён, а встреться с ним, крикни погромче – и пустит бежать, не догонишь, бежит да гадит со страху, бежит да гадит…
– А смелый что стал бы делать? – спросил Салават.
– За море не бежал бы. Бегство – народу измена. Где твой народ, тут твоя и судьба.
Салават был озадачен. Русский в его представлении оставался врагом. Выслушать советы врага и поступить наперекор этим советам подсказывал ему неопытный мальчишеский ум, напитанный прямолинейной хитростью поучений пророка, желавшего объять своей книгой все случаи жизни и не сумевшего охватить тысячной доли.
Но какое-то смутное чувство подсказало ему правоту Хлопуши. Зачем же враг, русский, чужой человек, даёт верный совет самому страшному и заклятому из врагов своего народа?! Какая и в чём тут хитрость?! – обдумывал Салават и, не поняв, он прямо спросил об этом.
– Ты, брат, молод, смекалки не хватит, не поймёшь, – ответил каторжник. – Поживёшь, поглядишь на людей – тогда разберёшься.
И Салават почему-то поверил безносому мудрецу. Поверил наперекор всему, чему верить узили его с колыбели.
* * *
Хлопуша недаром себя называл лесным зверем. Как лесной зверь, знал он все самые малые, тайные тропы и умел укрываться от сыска хоть в голой степи. И Салават, вынужденный, впервые в жизни, скрываться от злых и опасных людей в мундирах, должен был подчиниться опыту своего вожака. Он слепо шёл за Хлопушей, останавливался на ночлег, где указывал тот, научился дышать, зарывшись глубоко в стог сена, согреваться на холоде только своим теплом, питаться корнями и не зевать, когда удавался случай стащить по дороге через деревню домашнюю утку или краюшку хлеба.
Так один из «неверных» стал другом и спутником юного беглеца. В первый момент он подкупил Салавата своим умением говорить на его языке и живо перенимать башкирские слова.
И Салават мало-помалу сдавался Хлопуше. Он не хотел ещё сам признаться себе в том, что питает ответные чувства к спутнику, посланному судьбой. Он уверял себя, что именно потому за заботу платит заботой, чтобы не быть в долгу у «неверного», что его забота похожа на торг, а пророк не запрещал никогда торговать с «неверными», если сам торг удобен и выгоден. Но все рассуждения эти были простой уловкой, упрямой ребячьей попыткой скрыть от себя самого добрый юношеский порыв и чувство тёплой благодарности, вспыхнувшие в светлой и поэтической душе беглеца, оторванного от близких людей и от родной земли…
Старый бродяга, успевший бежать из деревни от барина, потом с крепостного завода, из солдатчины и из каторжных соляных рудников, прошедший все школы тогдашней жизни, умевший говорить почти на всех языках приуральских и поволжских народов, Хлопуша умел быть верным в дружбе, заботливым, даже нежным, если назвать нежностью те его чувства, которые заставляли его уступить мальчишке кусок хлеба, когда было нечего есть, укрыть его в холод своей одеждой или не спать ночью, давая выспаться Салавату, когда Хлопуша почему-то считал не совсем надёжным место, избранное для ночлега.
Хлопуша, только недавно бежавший из места последней своей неволи в Илецкой Защите, где его заставили вырубать соль, остался тоже без близких людей и всякой поддержки. Стародавний бродяга, он, много скитаясь, многих узнал, и повсюду по деревням и погостам, по сёлам и городам, на заводах, в станицах и крепостях у него были знакомые люди. Но, опасаясь, что в знакомых местах его скорее могут поймать, он нарочно не шёл к ним, боясь попасться и подвергнуть всевозможным карам людей, которые по знакомству его приютят.
Бродя по русским селениям, Хлопуша нарочно уродовал русскую речь, представляясь башкирином, а в татарских и в башкирских селениях он превращался в глухонемого, чтобы не выдать своей речи, и только с немногими говорил без притворства.
Нанимаясь в работники, проходили они по казачьим станицам Яицкого войска, просили под окнами и получали то корку, то огурец, то кусок вчерашнего пирога…
Они работали зимой лесорубами при заводе, весной нанялись в бурлаки и тянули тяжёлую лямку, чтобы потом при ночлеге на пустынном берегу перейти к открытой игре и, ограбив хозяина, увести в разбойники всех бурлаков.
Несколько месяцев грозной шайкой скитались они по дорогам, грабя купцов, нападая на землевладельцев и даже на заводские конторы. Слава безносого атамана Хлопуши росла с каждым днём, и к нему стали уже приходить крестьяне, прося наказать того или другого жестокого помещика.
О подобной услуге Хлопушу не приходилось долго упрашивать: он ненавидел богатых купцов и особенно знатных дворян. Он нападал, выбрав такую ночь, когда ветер не дул от барского дома к деревне и не мог бы зажечь крестьянских домов пожаром.
Его отчаянная ватага убивала помещиков, грабила всё что попало – одежду, деньги и драгоценности. Раздавала из барских амбаров хлеб крепостным, потом зажигала хоромы, и на барских конях разбойники угоняли награбленное добро. По дороге, багровой от зарева горящей усадьбы, нередко с ними в леса убегали и крепостные крестьяне.
* * *
Около двух лет уже бродил Салават с Хлопушейс места на место. Не всегда – в лесу, не всегда – на большой дороге. Он побывал вдоль по Яику до самых калмыцких степей, тех самых, где когда-то Юлай так горько встретился в последний раз с бывшим башкирским ханом Кара-Сакалом; побывал у калмыков и киргизов, по Волге дошёл до моря, посетил казацкие станицы и городки, и везде вместе с Хлопушей, для которого находились повсюду добрые люди, дававшие и ночлег и пищу. Эти добрые люди попадались и среди содержателей умётов, где собирались разные беглецы, и среди жителей городов и пограничных крепостей, и среди торговых и полевых казаков, и в городах – мелкие лавочники, и даже дьячки, и кладбищенские сторожа, и заводские рабочие, и казачки-вдовы.
И за всё это время немало наслышался молодой странник о жизни разных народов «под рукою» царицы, и не только наслышался – немало и видел такого, что сама рука тянулась за пояс к кинжалу, чтобы дружно вместе с острой сталью вступиться за слабого, обиженного и забитого нуждой, будь то татарин, кайсак, калмык или даже русский… Да и русским жилось не хуже ли, чем другим?
У чувашей отнимали их веру, калмыки платили ясак, у башкир отрезали клок за клоком широкую степь и богатый лес, а у русских, у которых нечего было уже отнять, отнимали последнее – волю: ими торговали, как лошадьми, их продавали… Не раз у ночных бурлацких костров слышал Салават страшные рассказы беглых солдат и каторжников о том, за что их послали на каторгу, почему бежали они от солдатчины.
Тоска по родным кочевкам одолела Салавата. Теперь ему шёл восемнадцатый год, и за это время он окреп и возмужал. Чёрные брови его гуще почернели и ближе сошлись на лбу, ещё больше окреп голос и шире стала и без того широкая грудь.
Вдвоём с Хлопушей брели они вдоль Иргиза, ещё не вполне вошедшего в берега, хотя белые пятна льдин уже вовсе исчезли с сизой воды. Вечерело.
– Стой, Салават, верно, придётся нам здесь ночевать, – сказал Хлопуша. – Вода высока, а до станицы далеко. По такой воде да без лодки плыть – вымокнем и простынем, а сушиться ночью в степи несподручно.
– Ну что же, не в первый раз, – отвечал Салават. – А где станем?
– Вот сейчас будет дом – тут рыбак жил.
Некоторое время путники шли молча. Рыбачьего домика не оказалось.
– Али его Иргиз унёс? – задумчиво выговорил Хлопуша. – Велик он был ныне.
– А вот! – обрадованно крикнул Салават, указывая на берег, где стояла большая рыбачья лодка с кровелькой, под которой в дурную погоду укрывался рыбак.
Они подошли к лодке, поискали весел и, не найдя, стали раскладывать костёр. Неподалёку, в камнях, Салават разыскал успевшие высохнуть кусты мохнатого мха для растопки, в стороне от берега набрал камыша, и вот затрещал в степи маленький живой огонёк. Закусив, Хлопуша растянулся на земле, выправляя уставшие ноги, а Салават, усевшись перед костром, вынул курай и заиграл. Хлопуша молча слушал игру. Он привык к этим чуждым для русского уха звукам и любил игру камышовой свирели, прерываемую тонким гортанным пением. Напевы Салавата в большинстве были грустные, но на этот раз в его пении звучала не глухая тоска, не грусть, а отчаянный зов к родному народу, к горам Урала, к его цветущим степям и кипучим рекам, к отцу, к молодой жене, к матери и маленькому сыну, который, конечно, был должен родиться…
Вдруг Салават резким движением сломал пополам свой курай и бросил в огонь. Камыш затрещал в огне.
– Ты что? – осторожно спросил Хлопуша.
– Плохо тут… Айда вместе в нашу деревню. Жена у меня скучает, сын растёт, тятьку не знает. Ему без отца жить?! Домой надо. Айда в нашу деревню, Хлопуша. В моём коше лежать будешь, кумыс пить…
– Изловят, смотри, – возразил Хлопуша.
– Врмя целый река ушёл! Начальник думать забыл, какой Салават… Сын Рамазан тоже отца не знает…
– Ладно, брат. Утро вечера мудрёнее. Утром сгадаем, куда нам с тобой поворот, – уклонился Хлопуша.
Салават замолчал.
Молчал и Хлопуша. Он умел молчать. При желании было легко позабыть о его присутствии. Может быть, именно потому Салават с ним легко сжился. Салават жаловался на свою судьбу, а Хлопуша впитывал жалобы, не перебивая пустым сочувственным словом, не жалуясь сам, не говоря о самом себе, как бы дожидаясь, когда его друг спросит о нём сам. Но, долгое время поглощённый, как большинство юношей, только самим собой, Салават и не думал о друге. Мысль о его судьбе даже не приходила юноше в голову.
По придорожным умётам, в рудничных шахтах, в станицах, где нанимались летом косить траву, в степях, по которым перегоняли купеческие овечьи гурты, – всюду видел теперь Салават тяжёлую подневольную жизнь тех, кого раньше считал врагами; научившись понимать русский язык, он всюду слышал их недовольство, ропот и стоны. Он слышал не раз их чаяния, разговоры об ожидании того дня, когда «объявится» государь, избавитель парода от всяческих бед, но ему никогда не могло прийти в голову, что судьбы царя могут как-то коснуться его самого…
– Слышь, Салават, не худы ты задумал, – вскинулся вдруг от костра Хлопуша. – Не я с тобою в башкирцы, а вместе на Волгу пойдём.
– Опять купцов грабить?! – с досадой спросил Салават. – Плохая жизнь, Хлопуша! В беду попадёшь, никогда ни жену, ни сына тогда не увидеть… Не хочу… Да что тебе – денег мало? Ай, жадный, Хлопуша!
– Не то! – отмахнулся Хлопуша. И, приблизив лицо к самому уху друга, он пояснил: – Государь объявился на Волге, народ призывает на помощь… Туды нам идти за волю и правду…
Салават не ответил. Ему не хотелось так скоро расстаться с мечтой о родных краях.
– Пойдёшь? – торопил с ответом Хлопуша.
– А куда мне теперь без тебя? Ты пойдёшь – значит, я пойду, как же!
– Одной верёвочкой бог нас с тобой связал. Теперь не распутать! – согласился Хлопуша.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Необъятные шири ковыльных степей с пролысинами мёртвых солончаков лежали по сторонам Яика. Ближе к реке лепились казацкие хутора, окружённые бахчами, где среди золотых подсолнечников, нежась, грелись под знойным солнцем бокастые полосатые арбузы, золотисто-жёлтые дыни и великаны-тыквы.
Степная дорога под ветром была всё время подёрнута лёгкой дымкой песчаной пыли, а изредка над нею вставало густое облако, скрывая длинный медлительный караван верблюдов, шествующих с надменной и глупой осанкой, скрипящий конный обоз или одинокого всадника, двигавшихся от хутора к хутору, от умёта к умёту.
Яик меняет картину степи. Возле его берегов выжженный бурый цвет сменяется зеленью. Ивы склоняются над водой, дубовые рощи окружают заливы. В камышистых заводях крякают утки, порою хрюкнет кабан, блаженствуя в разогретой воде на тенистой отмели.
Рыбачьи челны чернеют кое-где в камышах. По берегу курятся редкие одинокие костры…
Над хуторами меж ив и дубов высятся журавли колодцев, в августовский полдень под зноем на хуторах лениво движутся люди.
На умёты заедет редкий проезжий, и хозяин рад ему уже не ради дохода, а просто от скуки, видючи свежего человека. И вот сидят они, коротая часы, покуда покормятся в тени под навесом и отдохнут кони от проклятых мух и слепней, покуда спадёт жара…
Одинокий гость сидел на умёте Дениса Кузнецова, по прозванию Ерёмина Курица, в ожидании, когда хозяин вернётся со штофом вина с соседнего хутора. Гость сидел, расстегнув от жары ворот белой рубахи, кинув на лавку шапку. Сидел в глубокой задумчивости, облокотясь на стол и теребя свою преждевременно начинавшую седеть густую тёмно-русую бороду. Он видел в окно, как молоденькая, стройная и красивая казачка прошла на зады умёта с подойником, как воротилась, слышал, как она потопталась в сенях, загремела вёдрами, и видел, как снова прошла через двор. Он видел и не видал и двор, и широкие крупы пары своих коней, лениво кормившихся под тенистым навесом, и девушку. Погружённый в свои думы, он не замечал и течения времени…
– Задумался, гостёк?! Я девку хотел спосылать за вином, ан, ерёмина курица, опять она ускочила куда-то! – входя в избу и ставя на стол глиняный штоф, произнёс хозяин, небольшого роста, коренастый светловолосый казак с широкою бородой.
– Напрасно коришь девицу. Вот только что проходила с подойником по двору и снова с ведром пошла. Все хлопочет, – ответил гость. – Красавица дочка-то! – похвалил он, желая сказать приятное слово хозяину.
– Да, удалась и лицом, и всей выходкой, и по хозяйству в мать… – с радостной гордостью подхватил хозяин. – Каков ни случись жених, а всю жизнь на неё не нарадуется. Кабы по старому казацкому житью, то моей бы Насте только песни петь да рядиться, а тут на ней, ерёмина курица, заботы да хозяйство. Умёт на большой дороге. В иную пору гостей человек по десять, а то и больше случится.
Говоря, хозяин доставал с широкой полки и ставил на стол закуску: огурцы, лук, яйца, варёную солонину, с которой с гудением взлетела туча тяжёлых, разъевшихся мух.
– А ты бы женился, – сказал гость.
Хозяин остановился на полпути к столу посреди избы с оловянной кружкой в руке.
– Ерёмина курица, мачеху в дом?! Ну, не-ет, – отрезал он. – Дочь выдам, тогда без хозяйки мне не управиться будет – обокрадут в неделю… Прохожего люда бывает по стольку! И отколе берётся? Едут, идут, бредут… Ерёмина курица, не сидится им дома! Кажись, вот вся Россия вышла на дорогу…
Гость принял кружку, налил вино, пошарил глазами по комнате и своею рукой, достав ещё такую же кружку с полки, налил вина во вторую.
– Ну что же, не одному ведь мне пить, – сказал он. – Стукнемся, что ли, хозяин! Пей, казак, – пригласил он, придвинув кружку хозяину и поднимая свою, – со встречей!
– Дай бог не последнюю! – отозвался тот.
Гость покрутил головой, понюхал хлеб после выпитого стакана и отрезал кусок солонины.
– От сладкого житья не кидают люди домов! – произнёс со вздохом. – Доли ищут люди, за тем и бродят. Мне по купечеству довелось всю Россию изъездить за разным товаром, а лёгкой жизни нигде я не видел. Ну, скажи ты, кому на Руси хорошо? Дворянам, откупщикам да попам…
– Чиновникам тоже! – подхватил и хозяин. – А прочие бегут: и ремесленный люд, и купчишки помельче, крестьяне, заводчина и солдаты – кто хошь…
– А казаков слыхал? – спросил гость, прищурив карие глаза из-под мягких собольих бровей.
– Да что же тут дивного! И казаки, бывает, бегут. У нас на Яике казацкая жизнь такая стала…
– Пей да закусывай! – перебил гость, наливая сызнова чарки.
Они снова стукнулись.
– Да-а… Под женской рукой все во скудость пришло, все в шатость… Корыстники рвут на куски Россию, – задумчиво говорил гость.
– И то ведь, ерёмина курица, чтобы Российское царство держать, женская рука слабовата. У государыни, сказывают, личико белое, ручки-то – бархат, ерёмина курица…
В это время раздался стук в ворота.
– Вот и ещё бог гостей посылает! – сказал хозяин, идя во двор отпирать.
Гость остался один.
«Да, ручки – ба-архат! – подумал он и усмехнулся. – В глотку вцепится, так запищишь чижом от этих ручек… Вон царь-то пискнул – да и душу богу! С того и воцарилась… и пошло-о! Душно, душно в твоей державе, сударыня матушка! Боярам простор, а народу куды как тесно! Оттого-то народ и надумал, что жив государь да ходит повсюду!.. Народ, мол, в бегах, и царь тоже беглый!.. Хе-хе! Он, мол, все видит! И панихиды-то, вишь ты, не помогают: ты ему „вечну память“, а народ – „добра здоровьица“! Дескать, время придёт – и объявится в силе и славе… А и вправду придёт ведь! – подумал гость с уверенностью и радостью. – Придёт… боярам рвать хвосты, бобровые, собольи, лисьи хвосты трепать… Эх, будет шерти! Эх, пух-то полети-ит!.. А мы-то уж не оплошаем вступиться за законного царя – пух-то рвать из хвостов пособи-им! Только бы поскорей объявился…»
Вся Россия верила в бродячего царя-правдолюбца, в царя-страстотерпца, который изведал сам все народные беды, невзгоды, все горе…
Народ не хранил бумажных свитков с печатями, народ не писал истории, но свято передавал от дедов ко внукам в изустных сказаниях все трудные были и память о всех невзгодах и радостях. Народ вёл точный счёт бесконечно щедрым обидам и бедам и невеликому числу скупых, сирых просветов своей многотрудной судьбы и сознавал их порою невидимые и тонкие связи.
Так сознание народа хранило память о том, что крепостное помещичье иго легло на крестьянские плечи с тех пор, как цари обязали дворян нести ратную службу «для блага родной земли». Когда временами крестьяне пытались стряхнуть тяжёлую ношу – их усмиряли огней и железом, после увещевая, для верности, что восстания их неправедны: служилые люди, дворяне несут свою долю кровавых ратных тягот, а вы, мужики, несите свою долю, в поте лица трудясь на дворян.
И вот пришёл царь, объявивший вольность дворянству, сложивший с дворян тяготу государственной службы. Народ всколыхнулся и зашептал, что не нынче-завтра выйдет другой манифест – о вольности для крестьян…
И вышел такой манифест, но он давал волю не всем крестьянам, а только одним монастырским да церковным крестьянам, которые из крепостных становились вольными и платили оброк лишь в казну государя. Этим указом недовольны были одни попы да монахи. Крестьяне роптали, что воля дана не всем, но были и утешители среди них, которые говорили, что сразу все сделать не можно, что вскоре выйдет другой закон, в котором помещичьим мужикам тоже будет объявлена воля…
И вдруг царя, от которого ждали крестьяне свободы, свергла с престола царица, его жена, и провозгласила себя императрицей. А вслед за тем пролетела весть о таинственной смерти государя.
Словно померкло солнце, погибла едва рождённая надежда. «Злодеи-дворяне убили царя за то, что хотел дать волю крестьянам», – упорно зашептали в народе.
Но нельзя угасить без следа надежды и чаяния миллионов людей – нет такой силы! И, недолго спустя после смерти царя, из затаённых народных глубин вышел слух о спасении от убийц «вольнолюбца» – царя Петра Третьего…
Народ ничего не знал о настоящем лице этого царя-полунемца, деревянного солдатика, просидевшего на престоле без году неделю, ни о его презрении к своим подданным, ни о слепом преклонении его перед всем немецким, ни о его шпионской измене России, ни о грубой жестокости, тупости, трусости и себялюбии. Народ от него ждал освобождения и добра. И вот он все более в мыслях народа превращался из года в год в справедливого мученика, который ходит по всей земле, изведывая неправды и беды народа, чтобы потом «объявиться».
Народ создаёт поэтические образы своих героев из лучших народных же черт. И сказочный царь был создан в народном предании великодушным, прямым, справедливым, самоотверженным, терпящим беды за весь народ.
Толпами убегал народ от невыносимых обид и притеснений корыстных чиновников и дворянства. Народ бежал из дворянской усадьбы, из солдатчины, с рудников, заводов и фабрик…
О страданиях царя-правдолюбца и скором его пришествии обездоленный люд шептался везде: по тюрьмам, умётам и сборищам голытьбы на волжских плёсах, в лесных притонах, по староверским скитам, на базарах и богомольях, по задворкам поместий и в заводских деревеньках.
Народ – беглец и бродяга – создал образ царя-беглеца… А если бездомный бродяга впадал в отчаяние и тоску, то в утешение себе в тяжёлый час жизни он повторял сам себе эту светлую сказку…
Беглый донской казак Емельян Пугачёв был одним из тех беспокойных людей, которые не находили по сердцу пристанища нигде на широких просторах России.
Судьба бросала его из родной Зимовейской станицы в Турцию – на войну, в Приазовье – в бега, на Кубань и на Терек, к польской границе, в Саратов, Казань, на Иргиз и на Яик…
Он испытал военную службу, тюрьму, колодки и бегство, тяжесть батрацкой жизни, болезни, холод и голод, и в бродяжной тяжкой недоле его не раз утешало предание о царе, который явится из безвестности и поднимет народ на своих ненавистников…
Емельян натворил довольно, чтобы ему самому угрожали кнуты, и каторжное клеймо, и тяжкий труд в рудниках, с руками и ногами, закованными в железо. Устав от скитаний, как загнанный вепрь, несколько дней скрывавшийся в береговых камышах, он думал о том, что если бы долгожданный царь появился, то он служил бы ему, не жалея сил, крови, жизни – по всей правде. Недаром неграмотный и незнатный, простой казак, за отвагу и удаль он был произведён в хорунжие! Отвага и сметливость в битвах дали ему офицерский чин, а за своего государя, который несёт избавление всем замученным, сирым людям, Емельян постарался бы так, что стал бы не меньше чем полковником!..
Сказавшись хозяину купцом, он сидел на степном умёте, пробравшись сюда чёрт знает как – из Казани да через Вятку, через Челябу, мимо Троицкой крепости, Орска и Оренбурха.
«Как заяц, мечешь обманные петли по всей Руси, и места не стало укрыться! – раздумывал он. – От польской границы – аж за Урал, и тут нет покоя!.. Только бы поскорей государь объявился… Какой-никакой!.. – добавил про себя Емельян. – Только бы поднял скорее народ!..»
– Житья не стало! – возвращаясь в избу, воскликнул хозяин. – Хоть сам беги из дому!..
– А что стряслось? – с сочувствием спросил Емельян.
– Да ведаешь ты, купец, что к нам на казацкий Яик в старое время никогда царский сыск не лез. Кто там чего натворил на царской земле, ерёмина курица, дело не наше! Пришёл, сел на Яицких землях. Приняли? Стало, ты уже казак и старые вины с тебя сняты. А ныне ведь сыски да розыски извели! Вишь, ищут какого-то Емельку Пугачёва, донского казака. Сбежал, мол, из Казани из тюрьмы.
– В избу придут?! – вскочив, в тревоге воскликнул гость.
– Да нет! Сиди, ерёмина курица, сиди да пей! – не придав значения его испугу, успокоил хозяин. – Я сам их не люблю. Казак приехал с упреждением, чтобы хозяевам умётов у заезжих настрого смотреть бумаги, а из прохожих да проезжих половина… – Хозяин свистнул и выразительно подмигнул.
– Длинны у Петербурха руки стали, – согласился гость, стараясь скрыть своё волнение, – ведь вон куды – на Яик добрались!
– Некуда податься! – подтвердил хозяин. – А было бы куда – снялись бы целым казацким войском и потекли бы на новые места… Да нынче, вишь, и места уже такого нигде не осталось…
– Дела-а! – протянул по-прежнему гость. Он снова налил по чарке и чуть дрожащей рукой отрезал себе кусок солонины. – А велика земля, – заговорил он. – И ныне ведь поискать, так есть ещё такие места, что приходи хоть целым казацким войском, и хватит простору… – Емельян увлёкся, чёрные живые глаза его разгорелись. – Слыхал ты, есть вольная Терек-река? Там тебе осетры, белорыбица – ну, как лоси матёрые, да сами так в сети и скачут. Птица фазан – с барана, кабаны – как медведи. Винограды несеяны по лесу вьются, яблоков, груш – аж деревья стелются до земли, кавунищи – как бочки, по дуплам ме-еду-у!..
– Ерёмина курица! – в восхищении воскликнул простодушный хозяин.
Пылкое воображение гостя разыгралось ещё пуще.
– Там по горам золотые пески, серебряные жилы аж наверх из камня прыщут! – выкрикивал он в азарте, как удачливый карточный игрок, щедро мечущий козыри перед противником. Вначале на вид ему было под сорок лет – теперь он помолодел на добрый десяток.
– Ну, ерёмина курица! – захлебнулся восторгом хозяин. – А дорогу, дорогу кто знает туды? Дорогу кто знает? – Торговый человек, он не любил мечтаний без твёрдой почвы.
Емельян подмигнул.
– Кто бывал, тот уж, видно, знает дорогу, как мыслишь? – Он заново налил кружки. – За вольное житьё! – сказал он, стукнувшись кружкой с хозяином.
– За вашу добрую торговлю, за прибытки! – приветствовал хозяин, стукаясь кружкой. Он разгорелся. Новые сказочные земли манили его. Осетры, белорыбица, птицы ростом с барана, золотые пески – все эти богатства кружили его голову, но ему нужна была уверенность, основанная на точном расчёте. – Ну, скажем, хотя ты, купец, доведёшь нас до тех привольных краёв, куда Петербурх не достанет. Да людей-то, подумай, ведь цело казацкое войско – не шутка!.. Нас ведь целое племя!
– Не шутка! – согласился с ним гость.
– Ведь деньги нужны, – продолжал хозяин умёта, откладывая на пальцах, – на хлеб, на пропитанье, избы ставить, на порох, свинец, на то да на сё – на всякое Дело.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































